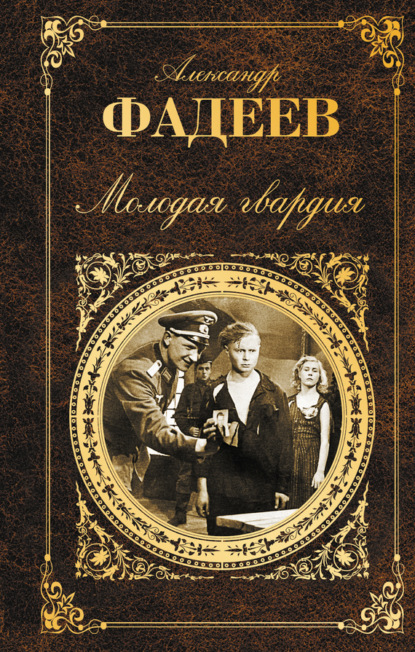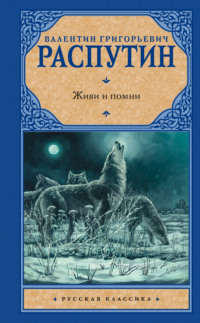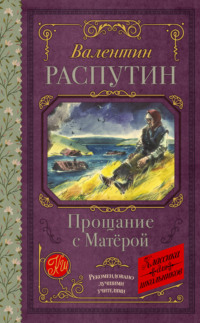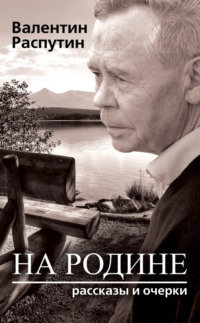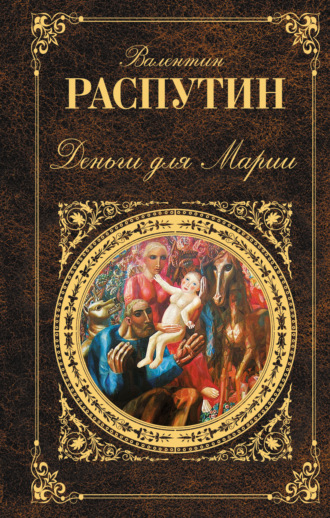
Полная версия
Деньги для Марии: повести, рассказы
Отец без скидки учил свою Томку тому же, что давал сыновьям. Один брат был старше ее на три года, второй на два года моложе. Дочь принялась льнуть к отцу рано, еще не опали ангельские крылышки за плечами, почуяв чистым сердечком его доброту и покладистость и разглядев особое непрекословие в отношениях с матерью. Мать была упрямой, вспыльчивой, от нее «летели искры», и отец не однажды острил, что ему спички не нужны, «дети, где мои папиросы, прикуривать буду от нашей Степаниды Петровны». Он подтрунивал над матерью, что без него она, «чичковская столбовая дворянка», кипятится больше, а он действует на нее успокаивающе. Было, конечно, наоборот, но даже опытная по части его проделок мать становилась в тупик перед его непробиваемой безмятежностью. У отца было свое объяснение того, как, каким макаром и до деревни докатилась мода в семьях командовать бабам. Он считал, что произошло это от смертельной усталости мужиков, воротившихся с фронта и свалившихся без задних ног подле своих баб. И вот пока фронтовики от чистого сердца и не чуя беды дрыхнули, бабы успели заседлать их и давай рвать губы железной уздой. «Вот та-ак», – горько вздыхал Иван Савельевич и поводил своей крупной, под машинку выстриженной головой, проверяя степень свободы. Отец взял за правило в споре не добиваться своего, он своего добивался за спором, кружным путем, и мать не замечала, как, каким образом она опять скатывалась с высоты, на которой только что гордо крылила, и опять шла на приступ. От этой новой атаки отец принимал такой несчастный вид, что дочь приходила в восторг, в восторге била ножкой о пол или забавно, надувая и без того толстые щеки, закатив глаза и пришлепывая губами, фыркала как-то странно и резко, по-совиному. Мать бросалась ее успокаивать, а отец исчезал и оставался при своих интересах.
– Ты знаешь, Степа, – говорил он чуть погодя миролюбиво, – Томка у нас в тебя. У нее будет сильный характер, на ней не поездишь.
Характер у Тамары Ивановны и верно был материнский, но как бы обработанный отцовскими инструментами, всякими там крошечными напильниками, наждачными шкурками, лобзиками – всем тем, что в огромном количестве, частью приведенном в порядок, а частью разбросанном как попало, жило в мастерской. И все же там, внутри характера, находился кремень. С годами она научилась управлять своим настроением, оно не вспыхивало и не взрывалось разом, как молния и гром, а натягивалось, подобно мороку, постепенно и шумело без накала.
В двенадцать лет дочь хорошо стреляла из тозовки и из берданки, в пятнадцать села за руль лесхозовского «уазика», через год освоила трактор, сначала колесный «Беларусь», затем гусеничный «ДТ-54». И начиная с пятого класса стала учиться хуже, хотя и без двоек, и так до последнего, до восьмого. В школе ей было неинтересно, хотелось воли, движения, удовлетворения практического интереса, приближения к опасности; в школе она отбывала повинность, которая чем дальше, тем становилась тяжелей. В последние деревенские годы очень сдружилась с младшим братом, Николаем; в семье про него говорили, что он не от мира сего: мягкий, затаенный, с постоянной задумчивой улыбкой и продолжительным взглядом. Любил уплывать с ружьем за Ангару и совсем еще мальчишкой уходить в тайгу с ночевкой, а то и с двумя, стрелял редко и особо скроенную свою душу заполнял тихими и тревожными наблюдениями. Однажды пропал кобель, который был ему за друга, Курган, и он как по увиденному пошел за двадцать верст к Сухому ручью и вынул его из петли на медведя уже бездыханного, а после этого заболел и провалялся в горячке неделю, не изъявляя никакого желания подниматься. Отец стал смотреть на него с печалью: непонятный, скрытный вырастал мужик, впустивший в себя неизвестное терзание. Тамара Ивановна запомнила на всю жизнь, как он сказал при ней, ни к кому не обращаясь, ни от кого не ожидая ответа, с подступившей самотеком тревогой:
– Одна в парня пошла… хорошо ли это? Одна в парня, а другой – в кого? Что же вы, детки родные, из себя-то повыбирались, как из дырявого мешка?
Но эти слова еще больше подтолкнули ее к Николаю. Он читал книги, и она принялась читать, пересказывая ему из своих книг самое интересное, доставшее ее до сердца. Старший брат, Василий, не понял бы, да он и далеко жил от надуманных книг, занят был серьезными практическими делами и наперед выкроил свою судьбу. Как выкроил, так потом и сбылось. Сначала в город в техникум, затем армия, после нее завод и заочная учеба в политехническом институте, диплом инженера и со временем должность начальника цеха. На Николая он смотрел как на мямлю или как на порченого; старше Николая на пять лет, он чутьем сумел угадать в парнишке расстроенность, которая может испортить жизнь. Тамара брала младшего под защиту, а это, как водится по таинственным законам взаимоотношений, дало Василию право не стесняться: уж если защищаешь, то надо, чтобы было от кого защищать.
Лесничим тогда каких только планов не давали: и веники вязать, и сок березовый набирать, и травы целебные, и грибы, ягоды, орехи. Это помимо того, что надо было косить сено, рубить осинник для зверя на случай снежной зимы, ставить зимовья, торить тропы, делать подсечку, отводить лесосеки, много чего еще из основной работы. Все лето вся радчиковская семья, кроме матери, не выходила из леса, там, на лесхозовском подворье за Ангарой, и жили, там и баня стояла с каменкой, ухавшей таким жаром, что кожа, как под иголками, потрескивала и волосы на голове секлись. Но как хорошо было в ягодниках и сосновых пустошах, державшихся недалеко от берега, чтоб подгонять рыжик густыми, дающими рост, туманами; как ловко и ладно смотрелись Тамаша и Николаша, когда, подобранные, одноростые, круглолицые, в форменных темно-зеленых куртках и штанах, заправленных в кирзовые сапоги, с непокрытыми русыми головами и с горбовиками за спинами, вставали они на тропу и оборачивались к Ангаре, чтобы видеть деревню на том берегу, где оставалась мать.
Вот так бы и всегда, не дальше этой тропы. Так бы устроиться, чтоб по утрам, вставая на нее, оборачиваться на родную деревню и ступать потом уверенно, как под благословением. Но тропа для деревенской молодежи уже набита была в другие тайги. Первым ушел по ней Василий, через два года засобиралась и Тамара. Отец на про́водах выпил больше, чем обычно, и прослезился. В вымощенной плахами ограде он отвел ее к заплоту, за которым начинался скотный двор, встал напротив и, покачиваясь, размахивая перед своим носом разбухшим от работы указательным пальцем, точно не ей указывал, а себе, отрывисто говорил:
– Томка, помни, помни, куда едешь. Там пропа́сть – что плюнуть! Там только споткнись – разотрут тебя и не заметят. Держи там себя в уме и строгости. Будешь держать – тебя же и уважать станут. А нет – и тебя нет. – Он вытер ладонью глаза, откашлялся и вдруг совсем трезвым голосом продолжил: – Ну а мы потом куда? Колька уедет – что тут нам делать? Для кого все это? Кольке-то совсем бы не надо уезжать. Выберет там себе стерву… это уж обязательно, таким, как он, это на роду писано… и будет она на нем безвылазно ездить…
Как в воду глядел Иван Савельевич. Уехал в свой черед и Николай, поселился под Иркутском, и в том же поселке купили себе потом дом отец с матерью. На глазах у них и тянулась тяжелая подневольная жизнь Николая с криками, слезами и бесконечными ультиматумами; то сходились, то расходились, то прибегал он среди ночи в домашних тапочках, то занимал деньги, чтобы купить себе возвращение к ребятишкам. Затем свалились и вовсе дурные времена, ни работы не стало, ни денег. За три месяца до того, как случиться у Тамары Ивановны несчастью с дочерью, дошел Николай до последнего отчаяния и поднял на себя руки. Но выжил, притих под тяжелым душевным гнетом и не выходил из отцовского дома. Матери к тому времени уже не было.
* * *То, что казалось страшным и непристойным, произошло обыденно и быстро. Подать заявление о пропаже собственной дочери – да это представлялось Тамаре Ивановне из себя вон, чтобы вытерпеть все оголенные расспросы, язвительные замечания и пугающие намеки. Ничего похожего не произошло. День был жаркий, час пополуденный в четыре, когда вязкое пекло и из камня выдавливает влагу и пригашает порывы. Но суббота есть суббота, и в отделении милиции оказалось людно, возле перегородки, за которой сидел перед тремя телефонами бравый сержант с багровым лицом и воловьим терпением на этом лице, толпились люди и стоял гул. Стены в узком коридоре были облеплены стоящими, возле дверей в кабинеты на выставленных обшарпанных стульях можно было устроиться, лишь развернув ноги на сторону по ходу коридора.
Каждое помещение имеет дух и вид той жизни, которая в нем происходит. В милиции, даже только что отремонтированной, даже только что отстроенной и обставленной новой мебелью со всеми необходимыми для справления закона приспособлениями и удобствами, уюта создать нельзя. Хоть мраморные колонны ставь, выстилай полы дубом, а стены оклеивай персидскими мануфактурами, но стоит только открыть хоть и хрустальные двери для несчастного народа, проходящего через милицию, и вся эта роскошь через две-три недели примет скорбный и донельзя безутешный вид. Надышит несчастный народ своим горем, обмусолит бедностью и лукавством, натрет домашними раздорами, обнажит раны и язвы. От иных рассказов стены здесь трескаются и потолки качаются, от иных криков привидения мечутся по коридорам. Точно знают это всё ответственные люди и дают под милицию самые тесные, темные и бросовые помещения: все равно придет к тому же концу. И несчастные, вливающиеся сюда день за днем беспрерывно, теряют последнюю надежду и рвутся скорее обратно на солнце или уж дальше по этапу судьбы, но прочь от этой забившей воздух тревоги.
Тамара Ивановна и постояла в коридоре минут пятнадцать, пока Анатолий пробивался к дежурному, но за это время провели мимо группу ребятишек лет от восьми до одиннадцати, имеющих варначий и веселый вид, очень довольных тем, что их сграбастали и будут вести с ними воспитательные беседы, глубоко уже погрязших в пороке, с мордашками, на которых впечаталась ранняя опытность. Все они были с сумками, в которых что-то трепыхалось, в майках, с голыми, уже черными от загара ногами, почти все обуты в спортивные разбитые кроссовки – точно собрались в пионерский лагерь имени Дзержинского. Был такой, Тамара Ивановна помнила, и находился он неподалеку от поселка, в котором теперь жил отец. Старушка у противоположной стены, маленькая и сухая, бодренько вертевшая непокрытой головой с остатками примазанных белых волос, шевеля губами, вздохнула им вслед. Пожилой, с трещинками, задиристый голос от той стены, возле которой держалась Тамара Ивановна, заинтересовался старушкой:
– Что, бабка, за пенсией пришла?
– За пенсией? – Она, должно быть, так много думала и говорила о пенсии, что не удивилась вопросу. Лишь чуть замешкалась с ответом: – В тюрьму проситься пришла.
– А чего в нее проситься? Ты, бабка, туда не торопись.
– А жить негде. Выдавляют меня из фатеришки.
Прошли двое: высокий, плотный капитан в форменной рубашке с темным пятном на спине и подпрыгивающий перед ним, заглядывающий ему в лицо и торопящийся что-то досказать, хромой парень с собранными на затылке и подвязанными волосами. Они свернули к лестнице на второй этаж, и уже оттуда, с высоты, под отчаянный визг ступенек, послышался бас капитана:
– Счас зайдем – чтоб не верещал. Сиди и помалкивай. И глазки от стыда опусти. Я буду говорить.
– А кто из квартиры-то выдавляет? – продолжал разговорившийся мужик с надтреснутым голосом, и Тамара Ивановна подумала: чего-то боится, страх в себе заговаривает.
Она рассмотрела через головы, что Анатолий близко от дежурного, и стала продираться к нему. Дежурный никак не мог отвязаться от какого-то образованного гражданина в синей тенниске, который, называя законы, все говорил и говорил. Дежурный уже не слушал, подняв глаза вверх, и только делал ему огромной рукой ленивые прощальные движения.
– Что у вас? – спросил – как подвинул к себе замешкавшегося Анатолия.
– Дочь потерялась. Она…
Дальше сержант не слушал. Он подтянул к себе дальний телефон, поднял трубку и тою же рукой, не выпуская трубки, принялся набирать номер.
– Товарищ лейтенант? В розыск. Отправляю к вам.
В кабинете на втором этаже, квадратном, с голыми стенами, за одним из трех маломерных, как в школе, столов сидел в одиночестве, упираясь животом в столешницу, чернявый лейтенант и пил пиво. Двустворчатое окно было настежь открыто, за ним в тупой бездыханности лежала улица. Лейтенант делал глоток, ставил бутылку и наблюдал, как над горлышком вспучивается пенистая пробка.
– Пишите заявление. – Он подвинул бумагу, указал на соседний стол и вздохнул: пива оставалось мало.
Писал Анатолий, он еще мог хоть что-то объяснять на бумаге, Тамара Ивановна не могла. Заявление заняло полстраницы, но лейтенант долго в задумчивости сидел над ним, не желая расставаться с приятными ощущениями от напитка, снова вздохнул, на этот раз очень решительно, подвинул к себе лист бумаги и принялся расспрашивать и записывать.
Обратно они уходили вместе с участковым, молодым толковым парнем, еще не уставшим от службы и, по-видимому, добросовестным, считавшим, что он должен знать Светку, вспоминавшим раз за разом, какая она, и все ошибающимся. Вместе они по заданию лейтенанта должны были найти подружку Лиду и прочесать все места, тайные и явные, где могла находиться Светка. Но прежде всего решили заглянуть к Демину.
Возле деминского киоска металась разлохмаченная, вспотевшая и испуганная подружка Лида. Увидев подходивших Светкиных родителей, она острым и бешеным голосом закричала:
– Поймали! Поймали!
– Светка где? – закричала, в свою очередь, Тамара Ивановна, схватив девчонку и тряся ее, вытряхивая из нее единственное, что нужно было ей знать.
– Здесь, в милиции, которая на рынке!.. Вон там!..
* * *До замужества Тамара Ивановна нередко смотрела на себя с удивлением и тревогой. Но с еще большим удивлением и тревогой она о себе думала. В деревне они жили в большом пятистенном доме, уходившем глубиной своей во двор, где дочь и занимала дальнюю выгородку, долго остававшуюся без дверей и укрываемую тяжелой бордовой шторой. И только года за два до ее отъезда отец навесил двери и выгородка приняла наконец вид комнаты. Туда втащили трюмо с облупившейся с изнанки краской, косившее, рябившее, когда искали перед ним красоты и опрятности, но продолжавшее служить. Перед сном, закрывшись на крючок, Тамара поднимала перед мерклым зеркалом ночную рубашку и всматривалась в себя с тою удесятеренной пристальностью, с какой почти всякая девочка-подросток чуть ли не в таинственном обмороке следит в себе за всеми переменами, возвещающими приближение женщины. Не больно она себе нравилась: невысокая, плотно сбитая, с поднятыми плечами, ноги крепкие, мускулистые, подлинней бы, подлинней, да и всю ее хоть чуть развернуть бы и пустить повдоль. Ей представлялось, что женщина вся от начала до конца должна быть выстроена снизу вверх, к небу и солнышку, которое высоких, поднявшихся выше обычного порядка, приласкивает больше, и что даже клетки женского тела должны напоминать вытянутые зерна ржи. Тогда они чувствительней, нежней, радостней и притягательней.
Не сразу она смирилась с тем, что высокой ей не быть. Но и «самоваристой» быть не хотелось, и кой-какие меры она для этого приняла, кой-какие руководства для себя составила. И не это теперь ее волновало, когда в чем мать родила приближалась она к зеркалу. Это происходило только на самый первый взгляд, входной. Но вот она входила, узнавая себя и растирая тело, готовя, оглаживая его продольными движениями, и прикрывала глаза.
Так хорошо было в этом томительном и чутком ожидании. Медленной волной, осторожно наплескивающей по бокам, проходила сверху вниз истома, пробуждала глубины и низы, сладко закручивалась в каких-то теснинах, снова распускалась и ответной волной, уже уверенней наглаживая, шла вверх. Там все натягивалось, замирало, струило, дыхание слабо колыхало ее откуда-то со стороны, и, разбуженные, растворенные, наперебой пульсировали токи. Она вся точно наэлектризовывалась, телесный цвет податливо переходил в мягкое свечение – и точно изнутри доносилась притаенного голоса почти беззвучная, баюкающая песня: должно быть, она ее когда-то слышала:
Тихая, тихаяРеченька текла.Дождика, дождикаМного набрала.Ой люди, ой люди,Речка, не бурли.Воду свою светлуюНе му-ти.Ее волновала женская тайна, в ней же заключенная, но не то физиологическое, тоже непонятное, жуткое, но и одинаковое для всех, а то невидимое, нутряное, более чувственное, чем физиология, запаленное особым духом: или тихое, сонное, едва шевелящееся, нежно перебирающее грудь, или вдруг окрыляющееся, распирающее ту же самую грудь, поднимающее от волнения на цыпочки. Словно что-то, не смеющее открыться, жило в ней, что-то счастливое уже тем, что его чувствуют и ищут. Песни она слышала из себя не однажды, и все того же тонкого тоскующего голоса. Она терялась от мысли, что она совершенно себя не знает. Все видимое имеет какую-то функцию, все пойдет в дело, для жизни и продолжения жизни, но нельзя же всю женщину, сколько ее есть, определить в постель и на кухню. Она вся туда не поместится, и не все будет принадлежать мужу. А что же есть то, что останется свободно, что-то сверхчувственное, не плотское, держащее себя в чистоте, устраивающее хозяйский обход, ласкающее женщину, когда не хватает ласки, и тихо-тихо перебирающее ее струны? Бывало, Тамара Ивановна стыдилась себя перед этой сокрытой в ней частью, где она возгорается не огнем желания, а огнем чистого вдохновения и вся-вся порывисто и неудержимо приготавливается для счастливого подвига. Одна из многих и многих миллионов женщин, похожих на нее, она, благодаря этой особой сверхчуткости, этой способности самопроникновения, могла считать себя единственной: такая и не такая, кое-что есть и еще.
Отец, провожая ее в город, прикинулся пьяным больше, чем был, чтобы предупредить: до мужа, дочь, блюди себя как зеницу ока. Сказал другими словами, но что же было переводить: она поняла их именно так и даже обиделась на отца за то, что он заставил себя их говорить. Но наступило время, когда и ей пришлось повторить их для Светки; как же, Господи, быстро свершаются сроки, в которые суждено детям, в свою очередь, быть родителями взрослых детей, выходящих на самостоятельную дорогу, полную ловушек. Светка выслушала ее, пряча от стыда и неловкости глаза, но это-то так и должно было быть: в таких понятиях они все остались недотрогами, даже Анатолий. Грубые слова и бесстыдные разговоры не только не были заведены в семье, но сорвись они у кого из посторонних, загремела бы гроза. Демин и тот побаивался Тамару Ивановну и, когда требовалось произнести незаменное слово, к восторгу тогда еще маленьких ребятишек, принимался нечленораздельно вылаивать его, это слово, после чего, то есть после надругательства над его привычным языком, Демина бил кашель. С приходом свободной жизни, когда из телевизора, как из волшебного горшка, полезла каша, состряпанная из гадостей, а слово, чтобы остановить ее, перевалившую через порог и забившую улицу, – слово это потеряли, Тамара Ивановна, не долго катаясь умом, грохнула телевизор о пол и вымыла руки.
– Не перестарайся, мать, – сказал более спокойный Анатолий. Они, как почти и во всех семьях, где поднимаются ребятишки, невольно называли друг друга «мать» и «отец».
Она отошла и заплакала, стоя перед окном и по-девчоночьи размазывая по лицу слезы. И, как всегда после подобных взрывов, на весь день окаменела, говорила медленно и тяжело. Тамара Ивановна тогда только что пришла работать после детсадика на почту, и вид привозимых почтарям из типографии и с вокзала красочных газет с неслыханными историями и невиданными картинками ее потряс. Журналы шли не лучше; на обложках книг, продаваемых здесь же, на почте, торчали красотки с задранными ногами и презрительными ко всему свету ухмылками. Она пришла на почту по старой специальности – телеграфистки; изменились и тексты телеграмм: пошлости, скрытые и явные угрозы, ругань, какая-то абракадабра, словно проверяющая, до каких пределов дозволяют дурость и издевательства. Но ничто больше не запрещалось, все шло открыто, свободно, беспощадно – будто торопились выявить всех безобразников, сколько их есть, безобразия их собрать воедино и уничтожить, а самих их отправить по этапу… Но куда? Отправлять было некуда, не осталось ни одного угла, не охваченного этой проказой.
В первые годы этой сошедшей с каких-то крутых гор грязной лавины Тамара Ивановна от бессилия, от невозможности загородиться, убежать от этого бурлящего, кипящего нечистотами потока, на гребне своем вздымающего издевательское ликование, впадала в слезы: сдавливало грудь, боль неподвижным валуном залегала внутри и на часы перехватывала дыхание. А поплачет, польет слезами испуганное сердце, погреет ими, горючими, камень-валун, он вроде и подвинется, освободит дыхание. Но надолго слезами спасешься? Она как-то поймала себя на том, что размышляет – заплакать, не заплакать? Значит, могла не заплакать, не поддаться бабьей слабости. Почему же в таком случае научилась поддаваться, обманывать себя, верить в невольное облегчение, в истечение той горячей тяжести, что забивает нутро? Слезами, что ли, можно изгнать заместившего все и вся, превратившегося в родителя, учителя и государственного служащего, бесстыдство? Нет, все, хватит мокроту разводить!
И все чаще в поисках крепости, где можно было бы найти спасение, вспоминала Тамара Ивановна свою деревню на берегу Ангары, широкую луговину, заставленную березой и сосной, в белой кипени майскую черемуху по обочью, сладкий дух ее в деревне, черемуховые метели после цветения, покрывающие улицу белизной, высокое, вынашивающее землю под собой, небо, а под ним на закатной стороне разлив ангарской воды, тяжелый и покорный, с глухими и все-таки родными берегами. И все это сходилось в одно, переливалось, играло, шумело, набегало друг на друга и расходилось, виделось отовсюду, откуда ни зайди, приближало и подставляло под разгляд все, что ни попроси… И все это так ярко, живо и больно влипло в Тамару Ивановну, подобно коже, не знающей забывчивости, что она боялась доискиваться, у всех ли такое бывает и не дана ли ей эта неизносная память в пытку. Во сне к ней несколько раз приходила покойница-мать и, оглядываясь, торопясь, чего-то боясь, рассказывала, в свою очередь, о своей покойнице-матери, бабушке Тамары Ивановны, которая чего-то добивалась от матери Тамары Ивановны. Никак нельзя было понять, чего она добивалась, но жутко становилось оттого, что там тоже продолжаются какие-то отношения. Вот так же приступами наплывала картина деревни и всего ее опояса по полям, заречью и широким боковинам с огороженным выгоном для скота. То надвинется лесхозовское подворье за Ангарой и вытоптанная глубокая сходня к воде, то однобокая, с обломанным вторым отростом, береза напротив деревенского дома, которую ветер треплет так, что изогнутой вершиной она напоминает на древке полотнище. Но это еще понятно, это из памяти. Но чудно и непонятно было то, что являлось иногда или напрочь забытое, или не бывавшее при ней вовсе, происходившее, должно быть, уже после ее отъезда. Вот идет она по луговине энергичным шагом, деревня и Ангара справа, слева открывшиеся за оголенным леском выкошенные поля, воздух прозрачный, по-осеннему стекленеющий, иглистый, подходит к одной из старых берез с потрескавшейся Кориной и видит, что на нижний сук перекинута прялка. Ну и что? – прялка да прялка, за ненадобностью вынесли и пристроили напоказ – может, кто приберет, чтоб не пропадало добро. Но не было прялки в прежних видениях, а уж Тамара Ивановна и в них, в видениях, с такой памятливостью исходила все тропки, что незамеченным ничто остаться не могло. Стали появляться лица ребятишек, родившихся на свет уже после нее. «Ты чей?» – «Зыряновский». Карапуз смотрит на нее с любопытством, он тоже удивлен встречей с незнакомой тетей. – «Чей зыряновский?» – «Люсин». Тамара Ивановна долго перебирает в памяти, есть ли у зыряновских Люся, и не вспомнит. Но, стало быть, есть, если этот гражданин последнего деревенского замеса с такой уверенностью называет свою фамилию и имя матери. Ясно, что не из сказки они взялись.
«Все Ангарой пронесет – и детство, и старость, и радость, и горе», – философски изрекалось у них в деревне. И жизнь проносила, и долю намывала новую, и такие сказки по камешкам насказывала, пока была проточная вода, что только дивуйся. Теперь все на дно уходит, илом затягивает. Тамара Ивановна невольно задумывалась об этом, ей и впрямь казалось, что от того, какой Ангара полнится водой, чистой и говорливой или тяжелой, стоящей неподвижной запрудой, зависит и наполненность ее поселенцев. Да, все уходит на дно безразборно и безразлично. И что же потом из этого будет? Что за месторождение, для какой надобности оно станет разрабатываться не представимым в далях будущего человеком?!
Мать была верующей, правда, без икон и молитв, но имя Божье в обиду не давала и поминала его часто. «Богу надо показаться послушницей, – внушала она дочери, – чтобы он заметил и взял тебя под защиту». Тамара была уже большенькой. «Но как же Бог может всех нас знать? – спрашивала она в задумчивости. – Ведь нас много, прямо сплошные тыщи». И тут встревал отец. У него было свое объяснение небесного учета земных дел. «А мы все ходим воду пить на реку, – полушутя-полусерьезно, присаживая голову, покивывая себе, говорил он. – Без реки, без Ангары нашей, никто не проживет. А все реки мимо Бога протекают. Он в них смотрит и, как в зеркале, каждого из нас видит. Поняла?» Что же было не понять? Она кивала и замирала, уставив перед собой неподвижный взгляд. Но сколько потом вспоминались эти слова, как они зацепили душу, когда по утрам открывала она кран в городской квартире и вода застоявшейся пружинистой струей, слепой и затравленной, выфыркивала из трубы, как из преисподней. Какое уж тут зеркало, какое попечение, целение?! Богатые люди не напрасно этой водой из-под крана брезгуют, ездят с пластмассовыми ведерными бидонами то на Байкал, то на источник. Они разборчивы, как и в еде, как и в воздухе, которым дышат, знают прекрасно, что телесные болезни набираются от пищи и воды.