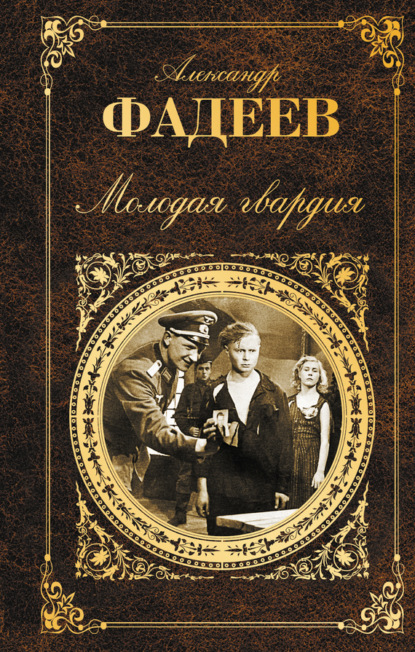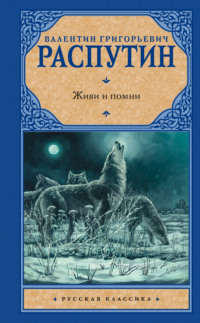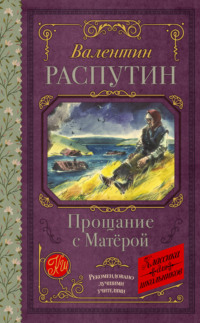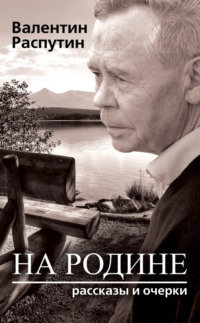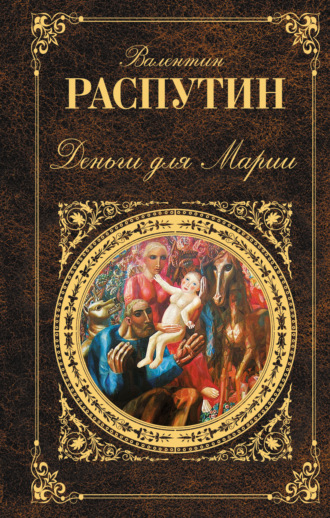
Полная версия
Деньги для Марии: повести, рассказы

Валентин Распутин
Деньги для Марии: повести, рассказы
© Распутин В. Г., 2013
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013
* * *Повести
Дочь Ивана, мать Ивана
Часть первая
Кухонное окно было над подъездом, над его визгливой дверью, голосившей всякий раз, когда входили и выходили. В том нетерпении, горевшем огнем, в каком находилась Тамара Ивановна, она бы услышала звук двери из любого угла, даже из спальни на другой боковине квартиры, где уснул муж, но уже несколько часов продолжала стоять у окна, точно вытянувшаяся струна, направленная в улицу и ожидающая прикосновения. Но там было темно и глухо. Световое пятно от лампочки у подъезда едва доставало до низкого штакетника, которым огорожен сквер и детская площадка в нем среди высоких, шатром разбросавших ветви, старых тополей. И никто в него, в этот недвижный и блеклый световой круг, не входил. Тамара Ивановна была так напряжена, и сама пугаясь продолжительности накала внутри, до сих пор не испепелившего ее, что заметила бы любую тень в темном дочерна сквере и услышала бы любой скрад шага из-за угла, если бы они только явились. Но нет, все замерло и оцепенело. С улицы, загороженной и приглушенной спящими домами, поначалу еще пошумливали машины: точно запоздавшие птицы снимались с кормежки, теперь и там вымерло.
Самый глухой час ночи, наверное, уже больше трех.
Муж спит. Как же все-таки по-разному устроены мать и отец: разве она могла бы уснуть? В детях, может, и есть половина отца, да только малая она, эта половина, без вынашиванья и без того вечного, неизносного присутствия в своем чреве, которое чувствует мать. И, рожая дитя свое, превращающееся затем во взрослого человека, не все она в родах и корчах выносит наружу: впитавшееся в стенки то же самое дитя остается в ней навсегда. И не сердце одно болело теперь у Тамары Ивановны, а вся она превратилась в сгусток боли, все в ней исходило в пытке. Но скреблось что-то и отдельно, особой болью, скреблось и скреблось, разрывая ткани и выстанывая одно слово. Скреблась она, Светка, зовущая мать…
Вечером, когда началась эта пытка, Анатолия, мужа, дома не было. Но Тамара Ивановна знала, что он у Демина, они затевали какое-то общее дело, уже с месяц дальше разговоров никуда не продвинувшееся. Заводилой был Демин, более решительный и опытный в новой жизни. Он сразу же, как только покатилась старая жизнь с высокой горки, грохоча, кувыркаясь и разбрасывая обломки, ушел с автобазы, где они с Анатолием сошлись до дружбы, поработал где-то снабженцем, а теперь имел свой киоск на центральном рынке и торговал всяким шурум-бурумом от электролампочек и краски до запчастей к автомашинам. Анатолий же застрял на базе, которой отдал двадцать лет, все реже и реже выезжал в рейсы, да и то пустяковые, возвращался обратно – стыд сказать! – то с дровами, то с навозом, а то и совсем порожняком. Терпел, терпел и дотерпелся до того, что выставляли его теперь на улицу. Отрубалась безжалостно за ненадобностью не только часть жизни, но и часть души: там, на автобазе, и встретил он Тамару, три года она рядом с мужиками крутила баранку.
Тамара Ивановна отыскала его по телефону у Демина уже после одиннадцати вечера. До этого она сбегала на соседнюю улицу к Светкиной подружке Люсе, рослой и пышной девчонке, которую можно было принять за совсем вызревшую женщину, если бы не откровенно кукольное лицо – круглое, с большими вращающимися глазами и щеками-подушечками. И по этому лицу, делано испуганному и одновременно восторженному, нельзя было понять, говорит ли девчонка правду, будто она видела Светку только днем. Видела на рынке, они ходили спрашивать про работу, с ними была и Лида Тополь. Работы не сыскалось, и она, Люся, уехала, оставив подружек возле торгового комплекса. Когда уходила, заметила, как к Светке и Лиде подошел какой-то парень кавказской национальности в джинсовой куртке.
Один был толк от этого похода: Люся назвала адрес Лиды Тополь, та жила далеко, в микрорайоне.
После того, возвратившись домой, Тамара Ивановна и позвонила Анатолию и уже без всяких сомнений сказала, что Светка потерялась. Такого еще не бывало, чтобы она приходила позже девяти. Этот час и был ей указан как домашний порог, и задержаться где-нибудь по своей воле после девяти она бы не решилась. Ивану, младшему на год, дозволялось больше, он мог летом, как сейчас, носиться хоть до полуночи, и никого это не пугало: парень. И совсем иное дело – девчонка шестнадцати лет, хорошенькая, нетвердая, любопытная, уже и к этой поре соступившая с проложенной дороги. Она пошла в школу рано, шести лет, и рано же, после девятого класса, бросила школу, заразившись поветрием, невесть откуда налетевшим, что учиться необязательно. Пошла на девятимесячные курсы продавцов, поближе к красивой жизни. Закончила эти курсы, а на работу не берут: несовершеннолетняя. И вместе с подружками, с которыми училась на курсах, принялась похаживать на рынок, выпрашивать торгашеское занятие, трясти перед покупателем хозяйским товаром.
Вот так.
Анатолий приехал с Деминым, в деминской машине. Тамара Ивановна, не находя себе иного места, вот так же стояла возле кухонного окна и видела, как беззвучно и валко, вышаривая в густых сумерках дорогу в узком и дырявом, яма на яме, проезде, подплыла «семерка» и выскочил Анатолий, а выскочив, застопорил, поджидая Демина. Так легко было догадаться: не хотелось ему одному подниматься сейчас в родное гнездо с нагрянувшей туда угрозой и встретить испуганный и требовательный взгляд жены. Но и Тамара Ивановна вздохнула легче, увидев Демина. С ним надежней. Демин выбрался из машины и, как всегда, горбатисто, клонясь вперед, со свисающими с плеч длинными руками, похожий на первобытного человека, каким рисуют его в школьных учебниках, первым шагнул в подъезд. А войдя в открытую дверь, поняв по напряженному лицу Тамары Ивановны, что девчонки по-прежнему нет, сказал по обыкновению гулко и с хрипотцой:
– Не паникуй. Рано паниковать. Время-то еще детское.
Но все услышали, в том числе и сам он, что это были только слова. Ненужные слова.
Оставили дома Ивана, наказав ему не ложиться, пока они не вернутся, дежурить неотлучно у телефона, и вышли.
Поехали.
Ночь наступала теплая, темная и вялая, должно быть, к дождю. Прохожих уже и не было, зато разудало, почуяв свободу, неслись машины, в три-четыре года свезенные сюда со всего света, чтобы устраивать гонки. И эти гонки на чужом были теперь во всем – на тряпках и коже, на чайниках и сковородках, на семенах морковки и картошки, в обучении ребятишек и переобучении профессоров, в устройстве любовных утех и публичных потех, в карманных приборах и самолетных двигателях, в уличной рекламе и государственных речах. Все хлынуло разом как в пустоту, вытеснив свое в отвалы. Только хоронили по-старому. И так часто теперь хоронили, отпевая в церквях, что казалось: одновременно с сумасшедшим рывком вперед, в искрящуюся и горячую неизвестность, происходит и испуганное спячивание назад, в знакомое устройство жизни, заканчивающееся похоронами. И казалось, что поровну их – одни, как бабочки, рвутся к огню, другие, как кроты, закапываются в землю.
Ехали молча, только Демин покряхтывал, когда подрезали его иномарки или ослепляли мощными встречными фарами, не считая нужным переключаться на ближний свет. Спустились в центр, по старому мосту перескочили на левый берег Ангары, повернули вправо и оставили город позади. По сторонам встала темнота. Чтобы не оцепенеть, Тамара Ивановна на заднем сиденье, пригибаясь и выворачивая перед стеклом голову, принялась высматривать в небе звездочки. Их не было, широко стояло там, в высоте, как болотная ряска, радужно-гнилое свечение от электрического разлива города. Тамара Ивановна, не отыскав звездочки, стала вспоминать, загадывала ли она что-нибудь, высматривая их, но не могла вспомнить, словно разошлась, разделилась уже на две части, меж которыми слабое сообщение.
– Тихо едем? – по-своему понял ее шевеление Демин.
– Да нет, Демин, не тихо. Торопиться раньше надо было, – уже себе сказала она. А ему добавила: – Как въедем, у второго или у третьего светофора направо.
– Точней некуда, – хмыкнул Демин. После молчания они рады были любым словам.
– Да… вот… – начал и Анатолий, и не сложилось у него, что он хотел сказать.
– Где «вот»? – не понял Демин.
– Где что?
– Ты сказал: вот. Где «вот»?
– Вот не знаю. Я тут не бываю, – сказал Анатолий так простодушно, что Демин хохотнул.
Долго искали улицу по названию Черемуховая; если судить по названию, должна была она находиться на краю микрорайона и быть деревянной. Сворачивали и у второго светофора, и у третьего, утыкались то в болотину, то в ангарский берег, у каждого перекрестка останавливались, наводили свет на угловые дома и заборы, чтобы отыскать надпись, но микрорайон в этой стороне на постороннего человека не был рассчитан и имена своих улиц не оставлял. Спросить было не у кого, шел первый час ночи. Только однажды разглядели они фигуру, крадущуюся по тротуару вдоль забора; Демин, опустив стекло, окликнул ее с дружелюбием, на какое был способен, но фигура, походившая на подростка, вдруг сделала мгновенный прыжок и провалилась сквозь землю. Деревянные дома лежали в темноте, какой-то особенно плотной, словно из освещенного центра она вся отступала сюда; в каменных, этажных домах освещенных окон было больше, но попробуй достучись, доберись до них за двойными и тройными запорами.
Тамара Ивановна из машины не выходила. Отвалившись на спинку, упершись коленями в переднее сиденье, в странной напряженной забывчивости ждала, когда найдется нужный дом. Тупо смотрела она в темноту и еще тупей в запутанные ходы тоннеля, по которым, вспарывая перед собой фарами черную плоть, колесила машина. Замечала и не замечала, как мигает светом Демин редким встречным машинам, прося остановки, не возмущалась и не удивлялась, чувствуя в этом какое-то даже утешение, когда те проскальзывали мимо и прибавляли ходу. Наконец одна, храбрая, затормозила. Демин зашагал к ней, к нему вышел коротышка, похожий на бочонок, и, разминая ноги, точно приплясывая перед огромным Деминым, принялся крутить руками.
Черемуховая оказалась вовсе и не в стороне, а рядом с центральной улицей, протянувшейся через весь микрорайон, и оказалась она переулком всего с несколькими четырехэтажными домами. Остановились у подъезда, конечно же, забронированного железной дверью, совсем темного, во мраке как бы вдавленного внутрь. Демин на ощупь воткнул в круглую дыру один зубристый штырь, потом второй – дверь щелкнула и подалась.
– Мне идти? – спросил он у Тамары Ивановны.
– Не надо.
И вот перед нею и Анатолием вторая Светкина подружка – с вытянутым вперед узким зверушечьим лицом на сдавленной по бокам голове и с живыми, мечущими мгновенные взгляды, круглыми мигающими глазами. Высокая, черноволосая, сметливая, старшая рядом со Светкой и Люсей, она бывала у Воротниковых. Тамара Ивановна мимоходом присматривалась: кто из них верховодит? И не высмотрела, все они притягивались друг к другу какой-то равно невеликой силой – как временные попутчицы, ищущие общих занятий. Но эта, Лида, была хитрее. Встроен был в нее особый инструмент, дающийся не всем, на котором она умела играть. Есть люди, нисколько не скрывающие, что они хитрят, хитрость у них написана на лице, выдающем поиски замысловатых боковых ходов, но так она располагающа, такой она кажется невинной и бестолковой, более того – приятной, что никаких подозрений она не вызывает.
Лиду подняли с постели, и теперь она, испуганная, с нервно двигающимися тонкими губами, в коротком и узком застиранном халатике, едва сходящемся на скромной груди, стояла возле круглого голого стола рядом с зашторенным окном. По другую сторону стола сидела мать, вялая и невыразительная женщина с таким же, как у дочери, вытянутым лицом, подавленная не приходом непрошеных гостей среди ночи, а подавленная чем-то давно и безысходно. Глаза ее смотрели пронзительно и устало, с какой-то пронизывающей тупостью. Тамару Ивановну и Анатолия усадили на диван, уже раздвинутый для сна, со скатанной в валик постелью.
Лиду застали врасплох, она не знала, как отвечать. И отвечала осторожно, выдавая недосказанное подергиваниями плеч, то ли себя выгораживая, то ли Светку. Прежде чем говорить, спросила: а что сказала Люся? Сказала, что она уехала? Нет, не обманула, вправду уехала. А к ним возле торгового комплекса подошел парень. Он на рынке фруктами торгует, приезжий. Как зовут? Он сказал, как зовут, я нерусские имена не умею запоминать. Говорил? Он к Светке приставал, говорил, что она ему понравилась, он к Светке не в первый раз подходит. Говорил: зачем ты меня обманула, тебя зовут не Марина. Сказал… город ему понравился, просил показать город… Я, говорит, поймаю машину, вы мне покажете. Нет, не согласились. Мы уходим, а он не отстает, прилип. Кое-как убежали. Потом Светка пошла к дяде Володе, а я поехала домой.
Дядя Володя – это Демин, у него на рынке киоск, куда Светка и верно забегала частенько.
Расспрашивал Анатолий, Тамара Ивановна не вмешивалась. Она и слушала, казалось, вполуха, занятая пристальным и тяжелым изучением обстановки в этом жилье. Двухкомнатная квартира была запущенной, до последней бедности оставалось немного. Ржавые потеки с отставшей известью на потолке, когда-то зелененькие обои, выцветшие, померкшие, разлохмаченные в швах. Мать пьющая, взгляд застывающий, невидящий. Пьющая, должно быть, не в последней стадии, есть еще куда падать. Продолжает обманываться, что устоит. Мать с дочерью не в ладах, доходит до крика, а потом мать плачет перед дочерью, а потом дочь плачет в одиночестве. И рвется вырваться, и боится опоздать, рано услышав в себе беспощадный отсчет времени. Большой рыжий кот трется о ноги, вычесывая шерсть, и просительно задирает голову, в глазах тоска…
– Все рассказала? – спросил Анатолий.
– Все.
И тогда, уставив беспощадный взгляд на подружку дочери, Тамара Ивановна отчеканила:
– Вот что, милая. Ты рассказала… как ты рассказала – нам надо сейчас ехать в милицию и писать заявление. Светки-то нет, она пропала. Ты была последняя, кто ее видел. Дядя Володя внизу в машине, Светка к нему не приходила. Мы напишем заявление, и еще до утра милиция приедет с допросом. Там другой разговор будет. Так что давай-ка дальше. Ты не все рассказала.
– Я все рассказала.
– Когда вы со Светкой разошлись?
– Не помню точно… часов в пять.
– А когда ты приехала домой?
Лида молча вела какие-то подсчеты; мать ответила за нее:
– Часов в девять. – И сказала дочери без нажима: – Рассказывай, Лидия, затаскают.
Видно было, что девчонка струсила, уже не только по губам, а по всему лицу стали прокатываться судороги, подсчеты подходили к тому концу, куда направляла их Тамара Ивановна.
– Вы вместе куда-то пошли или поехали? – наступала она.
– Поехали…
И рассказала, сначала под продолжающимися вопросами, а затем уже и без них, говоря и испуганно взглядывая на Тамару Ивановну, пугаясь ее вида и говоря уже с отчаянием, – рассказала подружка, что кавказец, узнав, что они продавщицы без товара и ищут работу, предложил им поехать к своему двоюродному брату, тот ищет таких, как они, потому что ему надо срочно распродать большую партию китайских товаров. Они долго не соглашались, но парень настаивал, показал какой-то документ, говорил, что это недалеко и они скоро вернутся, у него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Пока они раздумывали, он остановил машину, затолкал упирающихся девчонок и сказал шоферу, куда ехать. Ехать действительно было недалеко, на бульвар Постышева, в общежитие для малосемейных. В однокомнатной квартире был старик, он сразу ушел. Никакого брата не оказалось. Они просидели часа два, пили чай, парень предлагал вино. Но вино не пили. Всякий раз, когда они поднимались уходить, он кричал: «Придет! Придет!» Это он о брате. Потом стал говорить, что он знает, где брат, надо поехать к нему, тут тоже недалеко. Чтобы выбраться из этой квартиры, они согласились, хотели обмануть его. На машине ехать отказались, пошли на трамвай. Парень взял Светку под руку и не выпускал. На трамвайной остановке было много народу, но он все равно не выпускал, как она ни вырывалась. Там, на остановке, она от них, от этого кавказца, вцепившегося в Светку, сбежала.
Ко всему была готова Тамара Ивановна, но все равно как топором ее оглушило. Анатолий расспрашивал, как найти это общежитие для малосемейных; девчонка, повторяя «визуально», «визуально», нравящееся ей, очевидно, звучанием, как и большинство чужих слов, довольно толково рассказала, где оно и как отыскать квартиру.
Возле общежития Тамара Ивановна и из машины выходить не стала, сидела, уставившись в темноту, дышала с подсвистом, как больная, и ничего, кроме затвердевшей, туго спеленавшей ее черноты, не ощущала. Чувствительность и боль нахлынули потом, когда, воротившись домой ни с чем, встала она в одиночестве возле кухонного окна под наплывающие и все жуткие, все обдирающие сердце картины того, что могло быть со Светкой.
* * *Муж называл Тамару Ивановну телеграфисткой. Она и верно начинала в городе с того, что работала после курсов на телеграфе и усвоила, не будучи от природы словоохотливой, четкий и сжатый стиль разговора. На болтливость она смотрела как на распущенность, как на неумение владеть собой, и попервости, как сошлись, нередко с удивлением и даже с некоторой завистью к не свойственному ей таланту, останавливала Анатолия, любившего пускаться в длинные рассуждения:
– Удила бы тебе от уздечки под язык, чтоб поменьше молол! Гнет бы какой, чтобы он усталь знал, не балаболил, как заводной, – и прищуривала свои красивые карие глаза, видя, казалось, всю гору мякины, которую мог он намолоть, если не остановить.
Он не оставался в долгу:
– На меня уздечку, ладно, уздечку, а тебе подрезать бы его маленько, язык-то твой, – подрезают же ребятенкам в детстве, когда он врастет в гортань, как полено. А эту девочку упустили, она только и знает, что тпру да ну!
– Тпру-у! Замолчи, ботало!
– Вот-вот.
И – как накаркала Тамара Ивановна: в последние годы прикусил Анатолий язык. Такой гнет свалился на них, так придавил, что и сказать оказалось нечего, всякое слово, если не произносилось оно для самой простой житейской надобности, стало представляться не просто пустым, а и чужим, словно бы сказанным по наущению через тебя для твоего же унижения.
Они оба были крепышами, прочно и аккуратно сбитыми по одной мерке, вызывающими, когда шли рядом, удовлетворенные взгляды – как от хорошего сорта чего бы то ни было. Она ходила по-мужски, уверенным и размашистым шагом, «ступью», как говорили раньше, желая сказать о весомости шага, чувствуемого землей. Да и все делала с заглубом, с запасом: если разводила стряпню, то на две семьи; картошки накапывали, капусты насаливали больше, чем могли съесть, и корила себя за это, и ничего не могла с собой поделать, а оказалась права, когда наступили времена, что любого запаса стало мало. К Анатолию присматривалась почти год, прежде чем сказать «да» и позволить себя обнять; через год после дочери родила сына и сразу же пошла на третью беременность, да жестокая желтуха заставила отказаться от родов. Почти до тридцати годов носила русую косу во всю спину – из одного только упрямства, из сопротивления моде, по которой весь женский пол поголовно смахивает косы, как связанные овцы шерсть, – пока не прочитала в одном из старых журнальных советов, что невысоким и широколицым девушкам коса не идет. Ну, не идет так не идет – всему старому она доверяла больше, чем новому, – и смахнула, а потом долго смотрела на себя в зеркало с досадой, будто все сразу в ней, и без того не рослой, стало короче – и ноги, и руки, и шея. И больно кольнуло, когда Светка в пятом, кажется, классе запросилась под ножницы: ну как девочке без косы, прямо разор какой-то, ведь не косу она в малолетстве убирает, а жизнь направляет. Мода? Да что это за владычица такая, что все перед ней на колени, никто устоять не моги?! Торговка это, устраивающая перемену товара, наживающаяся на всесветном раболепии. Но и сама одевалась хоть и не броско, но по моде, дав моде притереться в народе, приглядевшись, что в ней хорошо и что нет. Джинсы – да ведь это крепчайшая, хоть на камнях дери, ткань; эту моду давай сюда. Кожаные куртки пошли – да ведь кожа испокон была у нас в носке, забыли о ней по великой бедности, а миновала нужда, и о коже пора вспомнить. Она и представить себе не могла, что совсем не за долгими годами суждено ей быть закройщицей на фабрике, да не на какой-нибудь, а на кожаной, и фабрика эта к той поре станет называться фирмой.
Она рано убежала из деревни, еще и семнадцати не исполнилось. Все они рвались тогда в город, как бабочки на огонь, и сгорали в нем. Сгорали одни сразу, в первые же годы, другие позже, но кончалось, за малыми исключениями, одинаково – загубленной жизнью и бабьей обездоленностью. Повыдергают у не опытной еще, еще не запасшейся умишком девчонки перышки, а там лети. Тамара Ивановна могла считать себя везучей – при надежном муже и неиспорченных детях, умевшая оберегаться и от безоглядного сломяголовства в опьянении новизной, и от цыплячьей доверчивости, этими двумя нетерпеливыми вожатыми, которые и приводят деревенских девчонок к беде. Тамара Ивановна продвигалась вперед неторопливыми и выверенными шагами, выстраивая свою судьбу как крепость, без единого серьезного ушиба, только дальше и дальше.
Но странная это была прямоходность – не подхватывающаяся из одного в другое, не выматывающая одну нить, все обрастающую и обрастающую новой нажитью, а топорщилась эта нить на подвязах узелками. И все подвязы имели начало там, в деревне. Родилась девочкой – значит, должна была, в свою очередь, рожать, обихаживать и воспитывать детей, натакивать их на добро. И никаких ошибок тут, если дети живы-здоровы и знай себе растут под родительской опекой, казалось, и быть не могло; не считать же за ошибку повторяющуюся беременность… Но и это только казалось. В телеграфистки пошла – запала в память прочитанная в детстве книжка о молодых радистках на войне. Читала она ее летом на сеновале, прячась, чтобы не нашли и не помешали. Все вокруг звучало и пело в торжестве сытой природной жизни, надрывались петухи, утомленно и гулко трубили возвращающиеся с поскотины коровы, напевали ласточки над головой на крыше, тарахтел трактор на холостом ходу, то взвывая мотором, то переходя на усталый бормоток. В воздухе стоял сплошной гул от мухоты; от дыха низкого вечернего солнца похаживал по сеннику, по сухому, измятому в лепешку прошлогоднему накосу, слабый ветер. И мать кричала с крыльца, растягивая «а»: «Томка-а-а!», прерывая себя коротким и нетерпеливым на «о»: «Томка, лешая, куда ты запропастилась!» А Томка, как в младенчестве, уткнувшись лицом в открытую книгу, чтобы ее не было видно, выжидала, когда стихнет зов, и снова хватала, хватала воровато куски из книги и никак не могла насытиться.
Ничего в памяти из книги не осталось, кроме того, что героиня в чувственном отчаянии посылает в эфир признание в любви молодому лейтенанту, отозванному в другую часть, те самые слова, которые она не решалась сказать при встречах с ним. Но осталась затаенная мечта тоже что-то посылать в эфир, в это могучее и прекрасное пространство, посылать личное, несказанное, такое, отчего вознеслась бы сразу и расцвела вся ее неказистая жизнь. Остался звучащий на разные голоса, но одно выпевающий, одно обещающий, как оркестр, небесный простор, и то счастливое до блаженства состояние, когда она, покачиваясь, как на волне, вздымаясь и опускаясь, плыла и плыла по его золотистому безбрежью. И, наткнувшись в городе на объявление о наборе на курсы телеграфисток, ни минуты не сомневаясь, она по нему и пошла.
Два года проработала на телеграфе – все не так, как мерещилось. Сначала нравилось, но больше, пожалуй, от тихой гордости собой: захотела и исполнила свою грезу, ничто не смогло остановить. Потом стало обручем давить однообразие работы и унылые тексты телеграмм, которые можно уложить всего-то в десяток образцов: поздравления, оправдания, просьбы, похороны, рождения, приезды и отъезды… Стали замечаться и дым коромыслом в туалете от курящих девчонок, и неинтересные, неискренние разговоры в коридоре, и грубость старшей по смене, и выжженный электричеством воздух в операторской. Оказалось, кроме того, что и душу ей послать в эфир некому. Она ушла из телеграфисток, так и не взлетев ни разу в это великолепное и гулкое пространство, по которому лучиками и звездочками мчатся навстречу друг другу неземной любви признания.
Отец научил Тамару в четырнадцать лет водить мотоцикл, в пятнадцать она села за машину. Поэтому, недолго размышляя, чем ей заняться, пошла она после телеграфа на курсы шоферов, а потом устроилась на автобазу облпотребсоюза, где и встретилась с Анатолием Воротниковым, своим будущим мужем. Он, как это и заведено было среди мужиков, все звал ее в напарницы для дальних рейсов, пока она не ответила насмешливо: