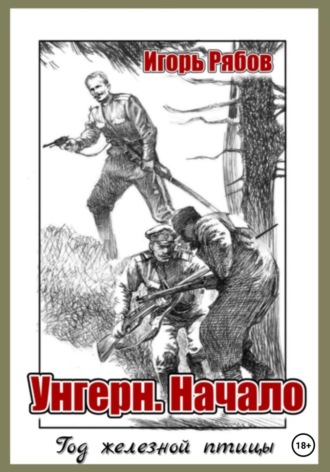
Полная версия
Год железной птицы. Часть 1. Унгерн. Начало
Ночами, кутаясь в старенькие, жесткие одеяла бойцы, сблизив головы, шептались на голодный желудок. Больше всего вспоминали дом и мечтали о возвращении, но говорили и о будущих военных испытаниях. В основном сходились на том, что лучше всего, если дойдет дело до боя, бросить оружие и выдать Унгерну головами командиров и комиссаров, – быть разорванным на части с отобранием всего имущества понятно никто не желал. Как всегда, обнаружился знаток, который почему-то знал, что таких вот сдающихся Унгерн милует и верстает в казаки – на привольную и сытую жизнь. Потом их даже погрузили в эшелон и повезли на фронт, но на полдороге завернули обратно – пришло известие, что войска Унгерна разгромлены, а сам он взят в плен.
На мгновение, широко распахнутые голубые глаза крестьянского неженатого еще парня Валерьяна, чьи родители переехали из Смоленской губернии в Сибирь по призыву Петра Столыпина, встретились с взором цвета голубоватых морских барашков. Взором, что принадлежал человеку, соединившему в себе не подлежащие обычно совмещению титулы прибалтийского барона, начальника белой дивизии, мужа маньчжурской принцессы и диктатора Монголии. В глазах Унгерна вспыхнул мимолетный интерес к растерянному, тянувшего в его сторону шею парнишке, но тут же и угас, заскользив по другим лицам. А Валерьян долго еще стоял, не шевелясь и даже не поправляя винтовку, повисшую на сгибе локтя, все не мог прогнать из головы глубокий, бездонный, совершенно почти бесцветный взгляд, который словно бы заглянул в его бесхитростную душу. Но страха уже не было, прошел страх.
Не было страха и у Романа Федоровича, хотя он и попытался поискать его внутри – все-таки не каждый день расстреливают. Тщетно. Не было, хоть убей. Монголы звали его Богом Войны, поклонялись, как его воплощению, боялись страшно его гнева и силы. А боги не умирают, не испытывают страха смерти, не могут претерпеть от земного оружия. А он и лез всегда в самую свалку боя, туда, где воздух был живым и кричал в голос от режущего его металла и люди валились из седел десятками. И чувствовал тогда на себе восторженные, благоговейные взгляды монгольских бойцов, а потом из его седла, седельной сумки, сапог, халата вынимали пули, в каждой из которых была своя смерть. Монгольские всадники, спешившись, почтительно толпились вокруг, перешептываясь и падая ниц, как только видели его взгляд. Пули эти разбирали по рукам, прикладывая к жестким губам, как святые талисманы, оберегающие от смерти в бою…
А может быть он и впрямь стал Богом? Богом Войны, и тщетны будут усилия убить его, но с этого момента начнется все главное, что должен он сделать…
Ему стало покойно, очень покойно, он отпустил мысли и начал впадать в медитативное состояние, когда перед глазами все начинает плыть, меняться и вот уже расцветает радугой. Тело это уже не его, нет гудящих от усталости ног и нет ничего, кроме полета и легкости.
Чекист с китайским лицом, неожиданно вздрогнул и, сбросив выражение равнодушия с лица, с тревогой всмотрелся в барона. Его поразило, что прозрачный и спокойный взгляд пленника вдруг потемнел и на глазах стал наливаться темно-бирюзовым морским цветом. Лицо же не выражало ровным счетом ничего, было бесстрастным и отрешенным. Китайца словно ударило наотмашь сгустком энергии так, что он покачнулся, его что-то дернуло к барону, и он с трудом устоял на месте. Он слышал, конечно, все эти легенды об Унгерне и никогда не верил им, хотя и был до обретения революции буддистом, но сейчас жесткие его волосы шевельнулись под маленькой черной шапочкой. Судорожно задышав, он прикрыл трепетавшие веки и перед глазами заплясали оранжево-черные языки пламени, уши заполнили тягучие удары в гонг. Сквозь гонг ему послышался, не по земному страшный, утробный рык, словно бы идущий из-под ног, из-под самой земли. Глаза китайца распахнулись до последнего возможного предела, зрачки тревожно расширялись и сужались. Задрожавшие вдруг губы, сами собой шевельнулись, произнося:
– Махакала…
Глава первая
Станция Даурия, 60 верст до границы с Монголией.1908 годъ.В полковой канцелярии сумрачно и стоит тишина такого рода, при которой любые звуки слышатся будто бы из-за глухой стены. Приглушенно бубнят писари, переговариваясь то ли о фуражных ведомостях, то ли о хлебном квасе. Обстановку не оживляют даже и солнечные лучи, бьющие пучками сквозь тусклые оконные стекла. Внутри их золотистых струй пляшут миллионы микроскопических пылинок. Углы комнат изъявляют полную готовность хотя бы и прямо сейчас испытать на себе воздействия половой щетки. Под столами – изобилие бумажных клочков, карандашных огрызков, окаменелых кусочков провизии и еще всякой ерунды. Сами столы, правда, дивно хороши, изготовленные с изрядным усердием из старого кедра и отлакированные с таким тщанием, как не лакируются даже и паркеты в домах курских помещиков.
В кабинете же полкового командира, узком и вытянутом, будто пенал, тишина совсем уж неживая. Правда, казенная обстановка, как нельзя лучше подходит к этому безмолвию. По всему было видно, что главное помещение полка видывало и лучшие времена. Стены, выкрашенные некогда очень красиво желтенькой краской, имеют потертости в тех местах, где прислоняются офицеры, рассаживаясь по стульям во время совещаний. Выше потертостей, развешано несколько старинных карт и потемневших от воздействия времени литографических картинок. Литографии остались от бывшего командира 1-го Аргунского полка полковника Крымова, любителя искусства с военным уклоном. Одна из них изображает картину Гангутского боя. На ее первом плане Петр Великий с руками длинными, как у орангутана, указывает пальцем на пузатый шведский корабль. Вокруг него ощетинились штыками долговязые солдаты в треуголках. Вторая литография прославляет штурм Измаила. Вся ее верхняя часть была затянута клубами порохового дыма, вырывающегося из пушечных жерл. Ниже были видны высоченные стены, на которые по лестницам карабкались суворовские солдаты, похожие на муравьев. Третья была настолько выцветшей, что разобрать на ней можно было лишь линялую кашу из лошадей, усатых голов с раскрытыми ртами и кургузых мундирчиков.
Нынешний командир полка – полковник Логинов нынче пребывал в крайне неровном настроении. Врожденное самообладание, а еще более желание показать свое хладнокровие, впрочем, удерживало его от гневных выкриков. Постукивая толстым зеленым карандашом по столешнице тумбообразного стола, напоминающего жертвенный камень из темных времен, он хмуро осматривал офицера, вольно расположившегося перед ним на стуле и даже слегка раскачивавшегося. В ритм его покачиваниям тихонько простонала разболтанная половица.
Надеявшийся оглушить вызванного офицера внушительным молчанием, а уж потом прочитать длиннейшую поучительную нотацию, Логинов слегка растерялся. Сидевший перед ним, недавно прибывший в полк, хорунжий Роман Федорович Унгерн смущенным не выглядел. Напротив, его поведение говорило о том, что и здесь в главном святилище полка, куда проштрафившиеся офицеры всегда входили с робостью и внутренним трепетом, он чувствовал себя покойно и непринужденно. Внимательно рассмотрев карты и мазнув взглядом по литографиям, Унгерн разглядывал обстановку комнату, не пропуская ни одну деталь. От скуки, чувства обострились, и он ясно видел, как паучок опутывал паутиной переплеты книг, очень красиво выставленные в ореховом шкафу. Одновременно, Унгерн прислушивался к едва слышному разговору полкового адъютанта с интендантом, лениво втекающему под дверь и немного развлекающему его.
Интендант пискляво жаловался, что командир полка не разрешает списывать подгнившие сухари и заставляет учитывать их при каждой ревизии. Унгерн внутренне посмеялся. Он хорошо себе представил, какое количество сухарей мигом бы сгнило, разреши командир их списывать. Время остановилось. Пристальный взгляд командира, впрочем, не смущал Унгерна. У каждого свои странности, что тут скажешь. Этот молчать любит, и на здоровье. С немалым трудом подавил зевок, челюсти свело.
Наконец полковник, видя, как теория грозного молчания терпит в некотором смысле банкротство, первым нарушил тишину. Унгерн от неожиданности вздрогнул, сварливый голос командира штопором ввинтился в уши. Таким голосом хорошо счищать ржавчину с корабельных котлов.
– Господин хорунжий! Мне неоднократно докладывали, что вы ведете образ жизни несовместный с понятием офицера и дворянина. Недостаточно следите за своим внешним видом, а также появились в расположении полка пьяным, как сапожник! А эти постоянные гимназистские выходки, нарушения дисциплины! – Логинов, разгоняя себя, мячиком вспрыгнул со стула, швырнул карандаш на стол и прошелся до двери и обратно, нервно меряя пол короткими ногами. Унгерн поворотом головы почтительно проследил за его перемещениями. Полковник перебирал в голове варианты дальнейшего разговора. Ходьба заметно успокаивала его.
Плюхнувшись обратно за стол, и окончательно совладав с нервами, полковник спросил почти ласково:
– Голубчик Роман Федорович, а может быть вы, что-либо хотите выразить своими поступками, высказать? Так скажите мне сейчас, я ваш командир, постараюсь понять.
Унгерн имел вид такой, словно более всего на свете его сейчас интересует носок собственного сапога, не слишком хорошо чищенного. к слову говоря. Помедлив минуту, он поднял светлые, почти прозрачные глаза на командира, юношеские, жидкие усики слабо дрогнули.
– Я, господин полковник, хочу выразить своими поступками, что мне иногда бывает смертельно скучно прозябать в нашем полку. Служба настолько постная, что и не хочешь, а согрешишь.
Полковник оторопел. Мигнув раза три-четыре, он протянул, вытягивая слова, словно они были из каучука.
– Так вам скучно-о-о? А я-то думал, Господи-и-и… А вы ступайте служить в жандармы, там я слышал весело. Обыски, аресты, облавы на социалистов, бомбистов и прочую такую шваль. Погони, розыски, поиск улик, не служба, а мечта Пинкертона! Одним словом, скучать не приходится. И…собственно, что значит скучно? Не может же, в конце концов, у нас постоянно идти война.
Барон весело наморщил лоб.
– Среди Унгернов не припоминаю шпиков, и для меня было бы крайне нежелательно стать первым таковым. Не испытываю желания, попав на тот свет, получить семьдесят две оплеухи…
Полковник произвел движение бровями, такое, как если бы две толстые, мохнатые гусеницы изящно прогнули спинки. Барон, улыбаясь, пояснил:
– Ровно столько моих предков было убито на войне.
Полковник издал неопределенно-задумчивый звук, не поддающийся расшифровке, нечто вроде: «хмрхмр». Разговоры о древности рода были ему до крайности неблизки, ибо его собственное дворянство насчитывало лишь два поколения. Он раздраженно листнул служебный формуляр Унгерна. Взгляд споткнулся на казенноватой, но неизбежной фразе: «За примерную службу на театре военных действий и участие в походе против Японии награжден светло-бронзовой медалью…»
– В Японском походе вы отменно проявили себя, отмечены наградой, – вяло пробубнил Логинов, желая настроить разговор на более мирный лад, впрочем, не имея для того нужного воодушевления.
Унгерн слегка засветился изнутри, черты лица смягчились от приятных воспоминаний.
– Мммм, – в тон отвечал он своему командиру, с некоторой теплотой глядя на него.
В следующий миг, лицо Романа Федоровича потухло, будто погасили внутреннюю лампочку. Затем он и вовсе покривился, словно от зубной боли. Потом проговорил, раздельно проговаривая слова.
– Нарочно ведь оставил Морской корпус, пошел рядовым, чтобы сражаться, вытерпел цуканье фельдфебеля из мужиков. Дворянин тысячелетнего рода, а стерпел. Да и матушке, если по чести, сердце разбил; она меня морским офицером желала видеть, а не нижним чином. Так биться с врагом хотел, что все прочее стало маловажным.
Унгерн смотрел на полковника серьезно и грустно, не скоморошничал больше и не храбрился. Потом улыбнулся невесело.
– Хотя, в бою быть и не посчастливилось, однако без сделанных поступков, я бы не оказался в нашем славном Первом Аргунском. Хотя временами здесь бывает тоска зеленая!
– Тоска зеленая, смею вас заверить милостивый государь, не здесь, а где-нибудь в Симбирском или Пензенском полку, – с некоторым ядом отвечал полковник. – Там наиболее интересным событием считается приезд провинциального театра, с поистасканной постановкой, от которой бывает тошно даже занятым в ней актерам. Хотя актерки временами бывают очень даже…, – отвлекся, было, полковник и даже мечтательно пошевелил пальцами, но спохватился и снова построжал.
– А если начистоту, то не буду возражать, если вы подадите рапорт о переводе в другой полк, в котором служить молодым офицерам весело. Не смею больше задерживать, хорунжий Унгерн-Штернберг!
Унгерн облегченно вскочил со стула, щелкнул каблуками, и нарочито печатая шаг, вышел. Полковник поморщился: «Паяц». Снова швырнул карандаш на стол и тоскливо посмотрел на несгораемый шкаф, в стальной утробе которого кроме всего остального нужного, янтарно светились две бутылки с коньяком, одна ополовиненная, а вторая и вовсе еще непочатая.
В помещении канцелярии, где трудились чины, не обремененные избыточным золотым шитьем на мундирах, среди нагромождения письменных столов, толстых шкафов и стопок картонных папок, иные из которых достигали половины человеческого роста, славно скучали старшие писари Кувшинов и Мельник. Полковой адъютант с интендантом ушли в офицерское собрание, и они остались здесь главным начальством. Младшие же писари старательно шуршали бумажками, скрипели перьями, вместо слов старались обходиться уважительным шипением и прикашливанием.
Мельник и Кувшинов, удобно расположившись на стульях, поставленных рядом, последние десять минут напряженно прислушивались к разговору в соседней комнате, стараясь по отдельным доносящимся фразам понять, что там происходит. Даже корчились от любопытства. Более остроухий Кувшинов распознал, что «барону фитиля дают», о чем сбиваясь на щенячье повизгивание сообщил Мельнику. Густо поулыбались друг другу. Унгерна они крепко не любили.
Когда барон вышел от командира, Мельник сделал вид, что увлечен поиском чрезвычайно важного документа в бумажной папке настолько пожелтевшей, что верно, содержала в себе сведения еще времен Наполеоновских войн. Кувшинов глаз не отвел, но взгляд его был настолько нахальным, что кровь бросилась Унгерну в лицо. Писари и не думали вставать.
Унгерн мгновенно вскипел, но сдержался и лишь произнес зловеще: «Так-так, господа». Вышел, крепко саданув крякнувшей недовольно дверью.
Кувшинов, весь сияя от осознания радости маленькой победы, одержанной над неугодным начальству офицером, обернулся к Мельнику:
– Видал, мучная душа? Фон барон умылся и пошел. Не потягался с приказным Кувшиновым.
Мельник, несколько смущенный проявленной своей трусостью перед лицом врага, отвечал с некоторой горячностью.
– Сам ты мучная, я ту муку только в калачах и видал. А барона ты ловко, знай наших. На нас писарях, можно сказать, весь полк держится. Приказ отбить – давай Мельника, наряд на патроны – опять ко мне! Нам перед каждым хорунжишкой трепаться не след.
– А барон-то, из немцев будет?
– Известное дело.
Помолчали. Потом Кувшинов просветлел.
– А я слыхал, что немцы с бабами не по-нашему живут.
– Это как так? – Мельник обратился в долговязый знак вопроса, белесые глазки подернулись влажным.
– А вот как, – Кувшинов наклонившись к, заросшему проволочным волосом, твердому уху Мельника, зашептал, опасливо косясь на дверь. Оторвавшись, упал на свое место, от довольства сияя каждой конопушкой. Мельник, низко склонившись над столом, закис от смеха, мелко тряся костлявыми плечами. Кувшинов довольно наблюдал за ним.
Старшие писари Мельник и Кувшинов были заметными личностями в полку. Как случилось, что при своих скромных чинах они, однако же, взяли немалую силу никто не знал. Однако, частенько от их настроения зависели очень многие вопросы, как-то: скорость прохождения рапорта, представления к награде или визирования отпускного удостоверения. Поэтому связываться с ними не желали даже офицеры. Оба они проживали в городе Верхнеудинске, оба до службы промышляли торговлей. Кувшинов скупал скот по деревням и держал мясную лавку. Мельник имел шорный лабаз на два раствора в торговых рядах. Но так как состояли они в казачьем сословии, действительную службу несли в 1-м Аргунском полку.
Отдельного описания заслуживает внешность этих персонажей. Кувшинов был славно упитанным, пухлым малым, с рыхлым телом усыпанным веснушками с головы до пят. Венчик бесцветных курчавившихся волос переходил сразу в щеки, розовые и тугие, не потерявшие своей упитанности и во время службы. Ручки и ножки его казались необыкновенно маленькими, почти детскими, по сравнению с массивным телом. Глаза светло-зеленые и чрезвычайно живые смотрели умно, но несколько плутовато, выдавая в своем хозяине тот тип торговца, что всякий час готов объегорить доверчивую крестьянскую душу. Несмотря на всю свою нескладность, казачью форму Кувшинов носил щеголевато и не без лихости, до блеска надраивая голенища сапог, сбивая на левое ухо фуражку, не расставаясь с шашкой даже в канцелярии. Более всего он желал явиться со службы непременно с медалью и с лычками урядника, а посему служил со всей ревностью, угадывая любое желание начальства и бросаясь со всех ног выполнять самое плевое поручение. В письмах домой он сообщил о присвоении звания приказного, смолчав о том, что выслужил он его на бумажных работах. Добившись успехов на военной службе, он надеялся на успех и в сердечных делах. А именно – высватать-таки дочку третьегильдейного купца Толстоухова – прекрасную в соображении дородности и подернутых сладкой паволокой глаз Аглаю Никодимовну. Купец Толстоухов хотя и не прочь был породниться с оборотистым и нахрапистым Кувшиновым, но мнение единственной дочери не зажимал.
Аглая же, пышная, рослая и белотелая, была избалованной и страшно капризной юной особой. Выпустившись из Читинской женской гимназии, она в изобилии набралась новомодных идей и течений. А замуж желала идти непременно за жениха благородного происхождения: офицера или на крайний конец партикулярного дворянина. Ухаживания Кувшинова она принимала хотя и благосклонно, но как-то не всерьез. Стоило тому заикнуться о свадьбе, как она залилась таким звонким смехом, словно горсть серебряных колокольчиков всыпали в хрустальную вазу.
На действительную службу Кувшинов пошел охотно, хотя к казачьему сословию принадлежал уже формально, проживая мещанином в Верхнеудинске. Надеялся, что служба в казачьем полку придаст ему ту мужественность, которой не хватало его расплывшемуся облику. Служба меж тем началась не гладко, Кувшинов сразу очутился в числе худших. На коне, идущем иноходью, он еще кое-как держался, раскачиваясь и вздрагивая всем телом, однако стоило перейти на легкую рысь, как сразу падал на лошадиную шею, вцепляясь пальцами в гриву и закрывая глаза. Шашкой тоже получалось не очень ладно. Более всего, Кувшинов, рубящий шашкой напоминал крестьянина с цепом, тяжко и неуклюже бьющего сверху вниз по снопу пшеницы. Однако, выручила грамотность, привитая сызмальства отцом и закрепленная в церковно-приходской школе. Кувшинов хорошо читал, неплохо знал счет и обладал таким четким и красивым почерком, что начальник канцелярии полка, посмотрев на старательно выведенные строчки, только одобрительно присвистнул.
Закадыка Кувшинова приказной Мельник внешне являл собой полную противоположность. Высокий и нескладный, постоянно сутулящийся Мельник имел обыкновение беспрерывно курить, искуривал массу папирос, зачастую прикуривая одну от другой. Лицо его узкое и вытянутое вперед, в профиль до крайности напоминало лошадиный портрет. Угреватый нос уточкой, торчал словно приклеенный, посреди слегка втянутых лимонно-желтых щек. Волосы, смоляные, курчавые и жесткие, напористо перли из мельниковских ушей и ноздрей, из-за чего он принужден был периодически выстригать их канцелярскими ножницами. Черные глаза-угольки антрацитово поблескивали из-под кустистых, почти сросшихся на переносице, бровей. Более всего Мельник обожал посиживать в станционном буфете со своим другом Кувшиновым, беспрерывно заставляя полового подогревать самовар, просматривая газеты и благосклонно принимая уважительное и где-то боязливое отношение к себе казаков и даже некоторых унтеров.
Призыв на службу Мельник воспринял как Божий дар, поскольку находился в одном шаге от долговой тюрьмы. Задолжав двенадцать тысяч по векселям, он уже помышлял о том, чтобы сбежать в Маньчжурию, где в приграничных районах имелись русские деревни. Преимущественно они были старообрядческими, и это обстоятельство очень даже смущало будущего писаря. Радости жизни он обожал, в тех своих проявлениях, которые обычно и приводят к невылазным долгам. А старики-старообрядцы деревни свои держали в строгости.
Будучи доставленным в полк, Мельник, в числе восемнадцати казаков-новобранцев, первым делом очутился перед лицом помощника начальника штаба хорунжего Зубова, озабоченного заполнением вакансии писаря в штабной канцелярии. Обрадовавшись ловко знавшего грамоту Мельнику как родному, Зубов мигом определил того куда следует.
Поэтому настоящей службы Мельник не увидел, так как, очутившись под крылом у Зубова, питавшего слабость к расторопным подчиненным, вскоре стал совершенно незаменимым. Давно уже не было Зубова, проигравшего в карты подотчетные деньги и скоропалительно переведенного в другой полк, а Мельник по-прежнему царил в своем крохотным мирке ведомостей, отчетов и рапортов.
Выпустившийся во 2-й Аргунский полк из Павловского пехотного училища, унтер-офицер Унгерн поначалу хотел прибить нахальных писарчуков, отчего-то сразу невзлюбивших «фон барона», постоянно насмехавшихся над ним за его спиной и распускающих всякие небылицы. Но после коротких раздумий Унгерн благоразумно решил подождать офицерского звания, надеясь с его помощью привести распоясавшихся канцеляристов к общему знаменателю. Однако, получив долгожданные погоны, Унгерн вскоре понял, как он переоценивал возможности скромного чина хорунжего. Писари перестали глумливо насмехаться над ним, но заняли позицию холодного и наглого равнодушия, прикладывая руку к козырьку фуражки при встрече с такой снисходительностью, словно бы делали невероятное одолжение. Растерянный Унгерн вскоре понял, что у него два пути: или все же побить наглецов, или подать рапорт по начальству о неподобающем поведении нижних чинов. Не мог же он вызвать их на дуэль, в самом деле. Не желая портить себе едва начавшуюся службу рукоприкладством и не приемля для себя роль кляузника, Унгерн предпочел третий путь: до поры не замечать распоясавшихся канцеляристов, но при случае прижать их.
Сейчас он стоял на сером, шершавом крыльце, вросшем по первую ступеньку в спрессованную землю. После душного, пропахшего нещадно смазываемыми дегтем сапожищами помещения канцелярии, осенний воздух всасывался легкими мучительно и сладко. Перед Романом Федоровичем, во всем своем Богом забытом великолепии раскинулась станция Даурия с поселком, окруженная со всех сторон сопками со склонами, густо поросшими березовыми и лиственничными рощицами. Осень уже пришла сюда, принеся с собой золото листвы и тот неуловимый запах, витающий в воздухе, – что-то вроде смеси последождевой свежести и здорового древесного дымка. Дожди еще не успели накрыть Забайкалье нудной серой пеленой, и все вокруг наслаждалось теплой, солнечной и сухой осенью. Наслаждался ею и двадцатидвухлетний хорунжий Унгерн, лифляндский дворянин, который из-за своей с детства не дающей покоя тяги к путешествиям и военным приключениям, нежданно для всех сделался забайкальским казаком. Сейчас он добыл из кармана форменных шаровар коробку папирос и, чиркнув спичкой, закурил, наблюдая, как синеватый дымок стелется в хрустальном воздухе. Последнее время он вообще много курил, как ему казалось от скуки. Роман Федорович рассеянно и блаженно наблюдал за однообразной станционной жизнью. С крыльца полковой канцелярии, расположенной на небольшом возвышении, был видна главная улица поселка Даурия, которая тянулась от деревянной церкви, ветхой до прозрачности, как и ее старенький настоятель, отец Августин, до железнодорожной станции.
Улица была образована главным образом деревянными домами с потемневшими тесовыми крышами, среди которых, между прочим, иногда встречались и крытые железом, говоря о том, что в них проживают люди с некоторым достатком – железнодорожные служащие или мелкие торговцы. Во всем остальном эти дома были такими же, как у крестьян, охотников или небогатых казаков – с маленькими окошками, затянутыми мутным стеклом, деревянными завалинками, резными наличниками, низенькими дверями и белеными печными трубами. Впрочем, улицы как таковой и не было, а была дорога от церкви, вокруг которой по воскресным и праздничным дням собирался небольшой торг. Вдоль дороги, без соблюдения всякой симметрии лепилась масса строений, и жилых, и хозяйственных. Из хозяйственных построек все время неслось всевозможное блеянье, мычание, кудахтанье и всякое иное, столь любезное казачьему, да и всякому другому сердцу звучание.

