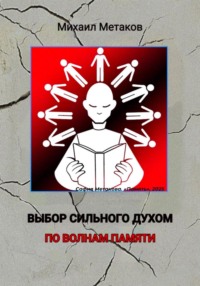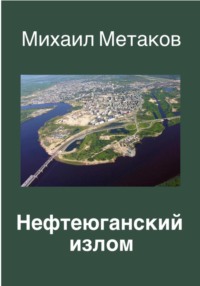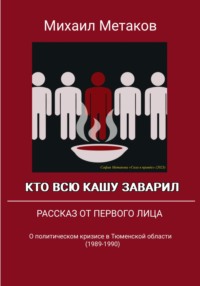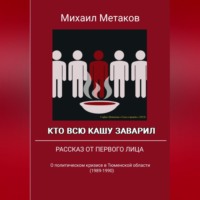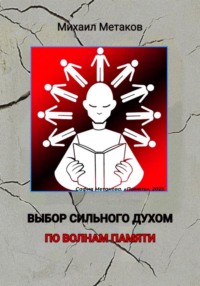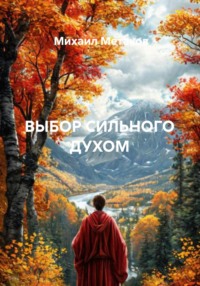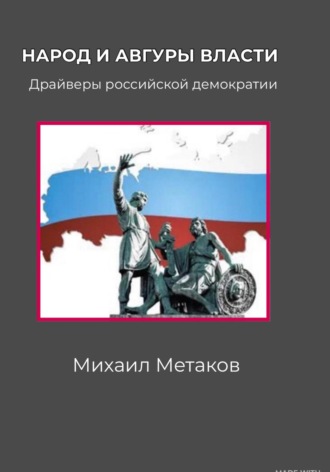
Полная версия
Народ и авгуры власти. Драйверы российской демократии
Пожалуй, точнее всех эту мысль сформулировал Семен Франк в своей статье «Этика нигилизма» (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции), опубликованной в тех же знаменитых «Вехах». Главный вывод, который делает талантливый философ, актуален для всех времен и народов – в нем раскрывается как и почему из кажущегося чувства любви к народу в головах «продвинутых» интеллигентов-революционеров, считающих себя мессиями и оракулами истины, рождается ненависть к живущим рядом с ними современникам, убивающая на корню веру и надежду в действительную демократию, а, значит, и в лучшую жизнь.
При этом следует отметить и особо подчеркнуть, что такая категория людей существует не только в политических и научно-теоретических «интеллигентских» сообществах. Далее будет рассказано о том, как подобные персонажи таким же образом проявляют себя и на других важных поприщах человеческой деятельности – в бизнесе, информационно-медийной и прочих сферах с непосредственным участием больших социальных групп и целых народов…
2За 100 с лишним лет с момента выхода в свет брошюры «Вехи» в России многое изменилось: место социализма заняли рынок и либерализм под флагом демократии. Однако как и прежде социально-политические программы множества носителей демократических идей проникнуты все тем же духом абстракции, популизма и нигилизма, когда речь заходит о методах и способах достижения поставленных целей. Да и с духом наживы среди многих из них не все в порядке. Вот какое уникальное портретно-психологическое лекало сконструировал С.Л.Франк, по шаблонам которого и сегодня «выкраиваются» политические натуры от новых анархистов до разномастных неолибералов:
«Теоретически в основе социалистической веры лежит тот же утилитаристический альтруизм – стремление к благу ближнего; но отвлеченный идеал абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку, живое чувство любви к ближним, к современникам и их текущим нуждам. Социалист – не альтруист; правда, он также стремится к человеческому счастью, но он любит уже не живых людей, а лишь свою идею – именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется приносить ей в жертву и других людей. В своих современниках он видит лишь, с одной стороны, жертвы мирового зла, искоренить которое он мечтает, и с другой стороны – виновников этого зла. Первых он жалеет, но помочь им непосредственно не может, так как его деятельность должна принести пользу лишь их отдаленным потомкам; поэтому в его отношении к ним нет никакого действенного аффекта; последних он ненавидит и в борьбе с ними видит ближайшую задачу своей деятельности и основное средство к осуществлению своего идеала. Это чувство ненависти к врагам народа и образует конкретную и действенную психологическую основу его жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устроению земного рая становится страстью к разрушению, и верующий народник-социалист становится революционером»… (Франк С.Л. Этика нигилизма. – Вехи: сборник статей о русской интеллигенции. Издательство Уральского университета, 1991, стр.175).
_________Подобного рода революционизм порождает механико-рационалистическую теорию счастья и если заменить описанного Франком «социалиста» на пораженных такой же психологией многих политических деятелей современности, то можно увидеть с какой предельной точностью совпадают характеристики, данные более века назад с днем сегодняшним. Живой пример – пресловутый «европейский выбор» постмайданной власти на Украине, когда вместо западной демократии и громких обещаний сытой и комфортной жизни украинскому народу навязали оголтелую русофобию, тотальную коррупцию и беспардонный политический обман.
Разве каждодневные заботы и чаяния простых людей были в центре внимания президента Порошенко и его правительства после госпереворота? Как бы не так! С точностью до наоборот под прикрытием лозунгов о желанных европейских ценностях шло тотальное разворовывание и разграбление страны, еще вчера имевшей всё лучшее и передовое среди республик Советского Союза. И самое страшное преступление этих авантюристов состояло в том, что под эгидой американских и европейских кураторов на Украине была развязана самая настоящая гражданская война против собственного народа и русских братьев.
Такие оборотни-перевертыши, скорее всего, даже и не снились авторам знаменитых «Вех», когда они предупреждали о скрытых угрозах, таящихся в двуличной природе маниакальных вождей, одержимых примитивными представлениями о настоящем демократическом созидании и зараженных безграничной жаждой личной наживы.
_________Закон, открытый веховцами, универсален и применим не только к отдельным революционным радикалам, но и носит пока, к великому сожалению, всеобщий характер. Ничем не отличаются от описанных выше героев «Вех» практически все правящие элиты современного Запада. Опасная иллюзия «исключительности», вбитая в массовое сознание американцев и европейцев, представляет собой веками отработанный механизм изощренного идеологического, правового, экономического и психического превосходства, благодаря которому власть и крупный капитал поступают также как и веховские социалисты-радикалы. Под красивыми вывесками о передовой демократии скрываются насилие и дискриминация в собственных странах, кровь экспортируемых «цветных революций» на всех материках и беспощадный размен миллионов человеческих жизней на преступное расширение рыночных пространств и умножение капитала нуворишей-конкистадоров.
Более того, и это железобетонно подтверждено жизнью, сами граждане, т.е. население ведущих держав (говоря ленинским языком – «государств-рантье»), являются главными заказчиками и потребителями именно такой политики. Потому что их ментальная привычка жить в достатке и комфорте за счет других является определяющим фактором и детерминантой экспансионистского, колониального и протекционистского курса правящего класса. И это, пожалуй, основная фундаментальная проблема, определяющая всю гуманитарно-политическую повестку будущей жизни человечества.
_________Главный корень зла западной демократии тщательно маскируется под либеральные права и свободы, но суть его остается прежней и она предельно откровенно была выражена еще во времена правления английского короля Генриха VIII (1509–1547). Именно тогда родилось подлинное кредо правящей элиты и молодой европейской буржуазии. Еще ранее это «кредо» от имени Королевского совета Англии было озвучено королем Ричардом II в адрес крестьян, бунтовавших в 1381 году против наступающего капитализма, которому был нужен безземельный работник – безропотный фабричный раб. В одном из источников, дошедших до нашего времени, это звучало так: «Отныне ваша рабская зависимость будет несравненно более суровой. Ибо до тех пор, пока мы живы и божьей милостью правим этой землей, мы не пожалеем ума, сил и здоровья на то, чтобы ужас вашего рабского положения стал примером для потомков…» (Чарлз Поулсен. Английские бунтари. 9. Разгром и репрессии. – М.: Издательство «Прогресс», 1987).
С тех пор минуло более четырех столетий, но в современной западной демократии эта базовая парадигма работает и продолжает свой модернизированный дискурс в разных политических проектах.
_________И все-таки чем же, спросит читатель, отличаются интересы и мотивы веховских героев-фанатиков от их более поздних «сородичей»? По большому счету и в принципе – ничем, просто изменились и шагают в ногу со временем формы и технологии идеологического, психологического и экономического воздействия. При этом под лозунгами заботы о личности, ее правах и свободах обеспечиваются лишь номинальные социальные гарантии и комфорт. В этом смысле любой радикально настроенный коммунист, либерал и социал-демократ мало чем отличается от членов небезызвестного «бильдербергского клуба» – воленс-ноленс, для тех и других в контексте сказанного веховцами страсть к устроению земного рая становится страстью к разрушению…
3А когда же на самом деле возникла демократия и каковы были ее истоки? Данный вопрос чрезвычайно важен для нашего повествования и поэтому в начале книги ему отводится отдельное место. Чтобы ответить на него, последуем мудрому совету еще одного великого француза – философа, писателя и просветителя Вольтера. В своем стихотворном произведении «Послание к автору новой книги „О трех обманщиках“», написанном в 1769 году, он утверждал, что если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать. Следуя вольтеровской логике и применительно к нашей теме можно сказать и так – если бы не было демократии, то ее следовало бы придумать.
Видимо, примерно таким образом и зарождалось «единобожие» демократии как универсального механизма организации жизнедеятельности общества и государства, продиктованное временем и законами развития цивилизации взамен стихии и хаосу прошлого. А само название этого понятия пришло позже и по сути это слово также как и слоган «Бог» не нуждается ни в каком лингвистическом спектральном анализе – оно понятно на любом языке и звучит одинаково для характеристики устройства жизни народов и государств в прошлом, настоящем и будущем…
_________Многие специалисты и эксперты утверждают, что демократия как таковая возникла вместе с первыми государствами. При всем уважении к мнению этих профессионалов, необходимо констатировать, что это не так – демократия как набор общих примитивных навыков, привычек и табу зародилась еще на ранних стадиях существования и сожительства родоначальников «гомо сапиенс». Именно тогда могучий инстинкт самосохранения заставил наших далеких предков-приматов овладевать способами коллективного выживания в дикой природе, выбирать вожаков племени, сообща охотиться и вести хозяйство, слушаться старших и подчиняться большинству, защищать своих детей и т.д. Одним словом, есть все основания полагать, что у демократии была собственная предыстория, связанная с жизнедеятельностью первых человеческих сообществ.
По прошествии многих тысячелетий, уже в античном мире и на заре христианства, был окончательно признан и сформулирован сам термин «демократия». Это определение, введенное в публичный оборот в рабовладельческих городах-полисах Древней Греции, на первый взгляд, резко диссонирует с социально-классовой и сословно-кастовой структурой государственных образований того времени. Но другого общепризнанного понятия, видимо, не нашлось и отцы-основатели древнегреческих полисов – зажиточные и полноправные граждане – согласились (будем считать, что на добровольной договорной основе и по совету сограждан-мудрецов) использовать это слово официально в публичном пространстве. С тех пор оно обросло массой фундаментальных и прикладных смыслов, трактовок и ассоциаций, получило широкое и многозначное применение в научном, политическом и обыденном обиходе…
_________Не вдаваясь в подробности всего процесса исторической эволюции этого гениального изобретения древнегреческой политической мысли и языка, задержим внимание читателя еще на одном чрезвычайно существенном моменте, который в научных исследованиях, к сожалению, упоминается лишь вскользь. Речь конечно-же идет об основной и первичной «ячейке» любого общества и государства – семье. Именно человеческой семье самой матерью-природой и, если угодно, промыслом Божьим была уготована участь стать предтечей всего того, что впоследствии и стало называться демократией.
Семейная общность, появившаяся задолго до первых государств эллинов обладала уникальными признаками реальной – непосредственной и прямой – демократии. Главными среди них были: вступление человеческих особей противоположного пола в брачные и семейные отношения преимущественно на добровольной основе; ведение семейной парой общего хозяйства, совместное владение и пользование имуществом и орудиями труда; присутствие в семье зачатков атмосферы психологического равенства, а также взаимоуважения, единства и взаимопомощи.
В реальной жизни не часто можно встретить семью, где преобладают демократические традиции, ценности и правила. Но каждая из семей – счастливая и несчастная, авторитарная и деспотическая, неблагополучная и др. – несет в себе, пусть даже в зачаточном состоянии, зародыши демократии. Безусловно, идеальной семьи не бывает, как не бывает и идеальной демократии – такое возможно лишь в виртуальном случае, упомянутом Жан-Жаком Руссо, когда гражданами таких государств являются только боги. Кстати, в связи с этим заметим мимоходом, что данный фундаментальный вывод французского философа всецело относится и к «строителям коммунизма», и к апологетам множества других «измов» – псевдоархитекторам социальных утопий и химер всех мастей.
Таким образом, другой логической цепочки кроме связки «племя – семья – народ – нация – государство» в природе и окружающем мире не существует. Поэтому человечество в каждом поколении и на каждом историческом этапе всегда будет иметь дело с разновекторным, противоречивым и турбулентным, но все равно прогрессивным и полезным для каждого народа и государства развитием реальной демократии и всего, что с ней связано. И все это во многом будет брать свое начало в семье, даже если какая-то из них, как говорится, бывает «не без урода». Демократии-то тоже бывают всякими, в том числе и такими как нынешняя уродливая украинская…
_________Каким набором ценностей и функций должна обладать так называемая демократическая – эталонная – семья? Гипотетически это может выглядеть следующим образом. В такой первичной ячейке общества учитываются интересы и потребности всех членов семьи без исключения. В ней существуют неписанные – идущие из глубины веков и рода – преимущественно здравые правила и традиции, которые соблюдаются родителями и детьми. Отношения между членами семьи основаны на доверии, уважении и равенстве, компромиссах и терпении. Здесь нет грубого доминирования и унижения, категорического разделения на «мужские» и «женские» обязанности: мужья помогают женам с домашними хлопотами и супруги не приходят домой как на вторую работу. Финансы в семье являются общим капиталом и бюджетом, нет места для коррупционных махинаций и злоупотреблений, конфликтов из‑за размеров зарплаты мужа или жены. Мнения и нужды детей учитываются родителями без ущерба для их разумного и достойного воспитания. Невзгоды, беды и несчастья переживаются с опорой на взаимную материальную помощь и морально-духовную поддержку.
Перечисление элементов демократических механизмов в семье и семейной жизни в зависимости от стадии их развития, формы и содержания можно продолжать до бесконечности, но важнее другое – в контексте исторической хронологии перед нами природный и социально-политический феномен – прототип, прообраз афинской полисной демократии и демократии вообще.
Семья есть не просто ячейка общества и государства, семья – это главный и единственный «производитель» любой нации и народа. Семья и есть народ в своей многочисленности, родословности, разноликом этническом и духовном разнообразии. И это неоспоримый факт. Рассмотрение семьи как народной первоосновы, исходной базовой протоплазмы демократических конструкций и механизмов напрямую не связано с главной темой книги, но представляется очень важным обстоятельством, поскольку в дальнейшем придется еще не раз «плясать от семейной печки»…
_________Бесспорно, весь исторический и практический опыт возникновения, становления и развития семьи был положен в основу политического строительства древнегреческих государств. Других примеров и образцов для подражания у человечества просто не было по определению. Даже постоянные военные конфликты являлись в конечном счете ничем иным как борьбой за выживание семей и семейных сообществ, порождая при этом осмысленные и организованные формы первичной примитивной демократии – коллективную защиту и нападение, выбор вожаков-лидеров, коллегиальное решение вопросов, подчинение, единоначалие, взаимопомощь и т.д.
Заметим, почти то же самое, только на инстинктивном и рефлексивном уровне, происходит и в дикой природе, когда, например, преимущественно только прайды (семейные стаи львов или других диких животных) выживают в борьбе с обстоятельствами и врагами, используя при этом унаследованный на генетическом уровне и собственном опыте соответствующий «демократический арсенал».
В подтверждение безусловного доминирования семьи и семейных принципов в организации народовластия и государства рискнем привести еще несколько, может даже в чем-то парадоксальных примеров. Один из них лежит на поверхности и не требует особых доказательств. Это семьи публичных лидеров – вождей племен, правителей государств, лидеров общественных движений и других пассионарных личностей.
_________Многие тысячелетия история человеческой цивилизации в основном была историей монархических государств и монархов, на первый взгляд, не имеющих прямого отношения к демократии. Однако этот исторический вздор не выдерживает критики, когда обнаруживается, что в истоках монархизма лежит все тот же демократический принцип коллективного избрания первых монархов – если не народом, то ближайшим окружением, как правило, опиравшимся на свои вооруженные группировки. А дальше целая плеяда династических семей веками «правила балом» на самом верху властной пирамиды, передавая эту самую власть наследникам по семейной линии, не раз и не два предварительно обсуждая и согласовывая на семейном совете соответствующие кандидатуры.
Такой вот изощренный дуализм – внутри правящих семей во все времена процветала и преобладала по-настоящему развитая демократия, а на внешнем контуре, в вопросах государственного строительства, извольте получить монархический режим во всей его красе.
Демократические режимы – республики, федерации, конфедерации и т.д. всегда открыто демонстрируют семейную гармонию в лице главы государства и его законной супруги или наоборот. Более того, подобные семьи иногда тоже создают семейные династии и кланы, используя законные демократические процедуры и административный ресурс с целью продления пребывания во власти. Такие семьи с «монархическим запашком» есть неотъемлемый и статусный атрибут демократии вообще, в т.ч. и современной. При подобных семейных раскладах – по определению – многое из того, что происходит в демократических государствах, зарождается и проходит первую «обкатку» в недрах семей государственных и политических лидеров.
Семейную тему в данном контексте можно обсуждать до бесконечности и очень жаль, что этот вопрос выпадает из поля зрения серьезной политики и политологии.
_________Картину демократии можно дополнить еще одним интересным фрагментом, связанным с семьей. Речь идет о создании и существовании известных криминально-мафиозных структур, основанных на принципах жесткой семейственности и не обязательно только родственной, имеющих общую организацию, структуру и кодекс поведения. Чего в них больше – демократии, пусть и уголовной, или авторитарного деспотизма – судить специалистам. Однако можно с уверенностью сказать, что подобные структуры иногда могут играть роль государства в государстве, диктуя правила игры даже на конституционном поле.
Криминальный беспредел, который в лихих 90-х пережила Россия, в полной мере доказывает «демократическо-уголовную боеспособность» организованной преступности. А если она вдобавок ко всему всерьез и надолго срослась с коррупционерами во власти, бизнесе и в правоохранительной сфере, то государству необходимо крайне серьезно и квалифицированно относиться к такой «семейной проблеме». В том, что она реально существует можно легко убедиться на примерах существования и активной деятельности региональных, межнациональных и межконтинентальных мафий, многие из которых в обязательном порядке имеют знаковый брендовый слоган – «семья»…
4Демократия это космос человеческих и государственных отношений, в котором тесно переплелись судьбы, надежды и чаяния всех и каждого. В лоне демократии рождалось и продолжает рождаться множество общественных и идейно‑политических течений – от социальных утопий до консерватизма, либерализма, коммунизма и радикального модернизма. Да, они несовершенны, как несовершенны все мы, как несовершенна еще и сама демократия и возникшие благодаря ей современные политические режимы и государства…
Какие выводы можно делать из этого? Опустить руки и плыть по течению? Стать законченным фаталистом, нигилистом и пессимистом? И начать строить очередной утопический эгалитарный коммунизм или убитый жаждой наживы бесчеловечный неокапитализм и даже бесполый и бесплодный квазилиберализм? Или все-таки настроиться на позитивный и прагматический лад и продолжить неустанно «выдавливать из себя раба», чтобы улучшать жизнь на планете Земля? Каждый человек, гражданин и национальный лидер должен сделать свой выбор. И этот выбор обязан быть наполнен ответственностью за свободу, развитие и демократию. Иного не дано.
Именно поэтому сегодня как никогда необходим честный и откровенный разговор в духе авторов знаменитых «Вех». В нем должны участвовать не записные и ангажированные апологеты «исключительных» и лицемерных демократий, а действительно независимые и авторитетные эксперты из числа политиков, писателей, философов, теологов, социологов, политологов и публицистов. Одним словом, равноценные, свободные и глубокие интеллектуалы современности, способные в своих расуждениях и выводах встать в один ряд с легендарными мыслителями-веховцами…
_________Возвращаясь к началу этого необычного вступления-предисловия, хочется бросить взгляд на демократию еще с нескольких нестандартных ракурсов. Как это не банально звучит, но мало кто задает себе вопрос: как и каким образом явно противоречивые смыслы, заложенные в этом словосочетании, на протяжении многих тысячелетий уживаются вместе? Более того, часто являются единственным спасательным кругом, который помогает выбраться из океана политических и социальных передряг.
«Демос» и «кратос» по всем законам формальной логики да и просто по здравомыслию это – несовместимые понятия: однако они прекрасно сосуществуют, демонстрируя непреходящую диалектику единства и борьбы противоположностей. Крайности всегда сходятся, смыкаются как разные полюса магнита – это правило, не знающее исключений. Оно как нельзя кстати иллюстрирует и сущность демократии. К слову, создание семьи, когда в браке и любви сходятся две противоположности – мужчина и женщина – еще одно бесспорное тому доказательство.
И еще. Когда произносится слово «демократия», то первое, что приходит на ум – это первородство народа в отношениях с властью и государством. В научных, идеологических и политических доктринах понятие демократия давно стало аксиоматическим примером государственного устройства. В человеческом же социуме демократия есть ничто иное как социально-политический «перпетуум мобиле» – вечный двигатель и движитель сложного механизма сожительства людей в обществе и государстве в рамках конституционных прав и свобод, а также сбалансированных самой жизнью духовных, нравственных, культурных и этнических традиций.
_________В этой связи на субъективный взгляд автора необходимо обратить внимание еще на одно существенное обстоятельство. К примеру, европейская демократия с её теорией столкновения цивилизаций, согласно которой есть «отсталые» и «продвинутые» народы («сады» и «джунгли») – она про справедливость, свободу и демократию? Да неужели? Пора уже наконец понять, что фарисейские концепты всех западных теорий о демократии и демократическом характере «образцовых» государств рождены исключительно конъюнктурным макиавеллизмом разного толка или откровенным радикал-утопизмом. При этом всем нормальным людям понятны как неприемлемость такого подхода в современном мире, так и насущная необходимость его пересмотра на принципах семантически точных смыслов.
В этом же ряду – назревшая необходимость пересмотра «всей точки зрения» на демократию в целом. Прозвучит парадоксально, но сочетание демоса (народа) и кратоса (власти) должно пониматься не просто как абстрактная власть народа, а буквально как «народная монархия» (от греч. μον-αρχία – единовластие), другими словами «народное единовластие»; по нашим исконным новгородским традициям – «вечевая соборность». Всё остальное – типы и виды политического устройства, всякие «измы» (феодализмы, монархизмы, капитализмы, империализмы, социализмы и т.д.) есть ничто иное как паразитирующие на этой материнской плате выдуманные присоски и наросты в виде разных идеологий правящих элит и классов.
Именно первородная и первопричинная – бессословная и не династическая! – демократическая народная монархия должна быть поставлена во главу угла при рассмотрении политического устройства современной России. В этом смысле и всенародно избираемый глава государства (президент) органично вписывается в новую семантику демократии…
_________Первые ростки полисной демократии, возникшие в античном мире, скорее были исключением из правил судя по тому, что вплоть до эпохи Просвещения история человечества была чисто монархической историей. Тем не менее первичные, «мерцающие» механизмы и принципы демократического порядка существовали как в семейном, так и в общественном укладе жизни всех монархий и деспотий. Лишь по прошествии многих столетий, на рубеже XVII–XVIII веков, реальная демократия стала возможна как цивилизованный образ жизни. И начало этому было положено глобальными социальными переворотами в результате великих Английской и Французской революций.