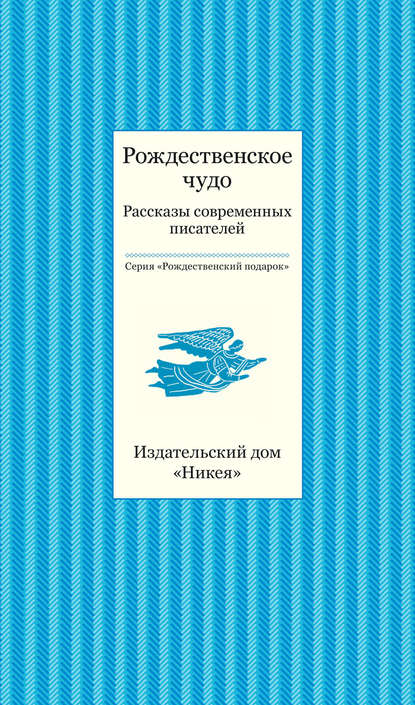Полная версия
Рождественские и новогодние рассказы забытых русских классиков
Когда я снарядился во что Бог послал, Владимир Андреич повезли меня в своей собственной карете на Вознесенский проспект. Там карета остановилась у какого-то дома (теперь, впрочем, я его хорошо знаю), и мы вошли по парадной лестнице, освещенной газом, в квартиру сироты, опекаемой Владимиром Андреичем. Квартира была в четвертом этаже, но что за квартира! Я только в трактире у Палкина видел такое великолепие, как в этой квартире, нечего и говорить, что полы паркетные – это пустяки, а обои-то, обои какие – все бархатные: в одной комнате золотые, в другой зеленые, в третьей, как жар, красные; а мёбель, мёбель – сам черт выдумывал такую мёбель! – стыдно и совестно сесть на какую-нибудь там табуретку или в кресло; а зеркала, а вазы с цветами, а занавески на окнах и дверях, да и дверей-то не было, а так просто одна занавесь, дернешь за шнурок – она и откроется, и ступай дальше; там опять то же, там опять; а там уж и очутишься в огненной комнате, где все: и цветы, и подушки, и собачки, и занавески, и серебряные подсвечники и матовые лампы, и кушетка – и моя невеста!
Господа! Если б вы видели мою невесту… Я отроду не видал таких красавиц! Конечно, по Невскому можно встретить, но там, знаете, магазины; а в магазинах ленты, звезды, портреты знатных обоего пола особ; поневоле развлечешься и не обратишь внимания – хозяйки же у меня были все сварливые и до крайности почтенные женщины; а у нашей братьи жены и сестры и племянницы, вы знаете, тоже хозяйки в некотором смысле: есть полненькие, кругленькие и как будто любезные – да куда! Ни одеться так не умеют, ни огненной комнаты не имеют, а поговорить – что и говорить! Конечно, если насчет дров и Сенной площади, насчет того, как блины приготовить и где башмаки дешевле купить, – в этом нужно им отдать справедливость – в Семеновском полку могут перещеголять Надежду Львовну, но зато уж в чем другом, знаете, насчет деликатностей, приятности в обхождении, они перед нею пас.
Владимир Андреич отрекомендовал меня Надежде Львовне как своего друга и сослуживца (ей-же-ей, не лгу!). Я, разумеется, не беру на себя лишнего – не очень-то разговорчив и ловок с женщинами… Я как сел на диване, так и прирос к дивану; глаза у меня растерялись, и язык примерз… а она тут все около меня, знаете… говорит со мною, да вдруг так пристально взглянет на меня, что во мне вся душа задрожит, – чуть не пропал я в тот вечер; не помню, что я говорил, тогда, кажется, только и говорил, что «да» и «нет-с», а они между собою все говорили, и даже Владимир Андреич за меня отвечал несколько раз, когда она вдруг было что-нибудь спросит у меня – живая такая; а глаза… как взглянет на вас вдруг, так и обдаст жаром; уж я краснел, краснел и так досадовал, что не знал приличного обхождения. Однако ж ничего. Она вовсе не замечала, какой на меня столбняк напал, и пригласила меня с собою в театр. Можете представить! Я взглянул на Владимира Андреевича, и он сказал мне: «Как же, как же! Я довезу вас» – и точно, в семь часов покатили мы все втроем в Большой театр. Ни словечка я там понять не мог, притом же растерялся до крайности: Владимир Андреич ушел в кресла, а мы остались в ложе в третьем ярусе. Надежда Львовна почти беспрерывно говорила со мною, а я сижу себе как пень, не знаю, как тут быть… ну, да уж заодно и рубну что-нибудь с плеча – ну, словом, был в таком отчаянном положении, что рад был, рад, когда по окончании оперы пришли Владимир Андреич да и отпустили меня, а сама Надежда Львовна просила меня пожаловать вместе с Владимиром Андреичем через день, кажется, обедать. Тут уж, господа, на третий день я немножко освоился с своим положением, а может быть, и не освоился бы, если б не помогал тут Владимир Андреич.
Не помню уже, как это все велось, только помню, что я был настоящим женихом Надежды Львовны, что наконец потерял свою робость, попривык к своему положению и совершенно влюбился в свою невесту. Я даже заметил, что очень понравился ей, и только о том и бредил, чтоб поскорее кончить все церемонии… Ну, церемонии все были кончены благополучно, и я приехал с Надеждой Львовной в ее квартиру законным ее мужем… Благодетель мой, Владимир Андреич, разумеется, был с нами. Это было вечером часов в десять. Ни души посторонней, кроме нас, не было. Мы поужинали… я таки, нечего сказать, на радостях славно тогда поужинал и выпил порядочно, несмотря на то что сидел за одним столом с Владимиром Андреичем. Вот, знаете, мы поужинали, потолковали, чай пили, и время этак часов до двенадцати провели вдвоем с Владимиром Андреичем, а жена моя ушла в свою комнату. Наконец Владимир Андреич сказали мне, что они теперь исполнят остальные свои обязанности ко мне по уговору, и затем уж мне останется исполнить свои: тут они вынули из бумажника билет ломбардный на мое имя да еще наличных толстенькую пачку и отдали мне – всего было на двадцать тысяч. Потом сказали: «Теперь живите себе счастливо, господин Переулков, – живите, как знаете и где знаете, никто с вас отчета не спросит». Я кланялся и благодарил, а Владимир Андреич, посмотрев на часы, продолжали: «Скоро полночь. Пора нам домой. Не угодно ли, я довезу вас до вашей квартиры…»
«Как так, до моей квартиры?» – спросил я Владимира Андреича. «Да так же, как всегда. Что вы это?» – сказали они с усмешкою. Столбняк на меня нашел, и глаза у меня помутились, и в ушах зазвенело… «Да неужто я не у себя?.. Где же это я, Владимир Андреич?» – «Какой вы странный человек! Не помните, что ли, что вы, то есть мы оба здесь в чужой квартире, в гостях у кол-леж-ской асес-сорши Переулковой?» – «Да ведь она жена моя, Владимир Андреич, моя законная жена!» – «Конечно, конечно, жена ваша, никто в этом не сомневается, да квартира-то не ваша и не моя. Так вот и следует, что мы должны благополучно отправиться, без подробнейших объяснений, которые ни к чему доброму не ведут. Едем, едем же!» – сказал он мне вдруг, и в первый раз после сватовства моего сказал собственным своим голосом, таким тихим, шипучим голосом, который бросает в пот и дрожь и против которого никакое человеческое сопротивление невозможно. Я испугался и растерялся… «Шинель господина Переулкова!» – сказал Владимир Андреич, отворив дверь в переднюю… Я вышел за ним столб столбом, дурак дураком… Трехполенный верзила, Тимофей, накинул на меня шинель и обхватил мне обеими руками шею, застегнул воротник с такою манерою, как будто хотел тут же и задушить меня… Делать было нечего! Не помня себя, я пошел следом за Владимиром Андреичем. На лестнице они мне сказали: «Что вы, как ребенок маленький, – опомнитесь. Сегодня мы хорошо поужинали, так и следовало; но завтра вы порассудите хорошенько. Хотите, чтоб я довез вас?» – «Нет-с, всенижайше благодарю! – отвечал я, испуганный до крайности. – Я уж сам как-нибудь…» Он и не усиливался. «Как вам угодно, – сказал он. – Прощайте, желаю вам счастья. Теперь вы имеете средства – прощайте».
Тут он подал мне указательный палец, и я со страхом сжал обеими руками холодный перстень на пальце. Потом они сели в карету и поехали себе, а я остался тут на улице и с полчаса мерз и дрожал, не понимая, что это такое случилось со мною; в голове что-то шумело, и в глазах искорки сверкали… Я думал, думал и ничего не придумал, а домой, к себе, то есть на квартиру, как-то стыдно было; так уж я рассчитался и хоть багажа своего не вывез оттуда, но заявил, что женюсь и переезжаю в женину квартиру… Ах, какая тоска на меня напала – тоска от того, что в толк я не мог взять ничего, сам себе не мог поверить, что со мною случилась такая комедия наяву, а не во сне, не в театре. Вот я и пошел себе куда глаза глядят… иду и голову ломаю соображением, а сердце-то так и рвется от тоски и горя… вдруг глядь в сторону: красный фонарь мелькнул перед моими глазами; дай-ка, подумал я, зайду сюда, в трактир, порассудить о своем положении, отогреться немножко и душу замученную отвести чайком. Я и зашел в этот самый трактир, где и теперь нахожусь. Зашел я в трактир и вижу, что наша братья гуляет… то есть не столько гуляет, сколько ругается с буфетчиком и свою амбицию выставляет в разных видах на посмеяние подлой черни, служителей трактирных… Тут только вспомнил я, какая страшная куча денег у меня в кармане; вспомнив об том, я почувствовал облегчение в душе и приказал подать пуншу. Выпил пунш, потребовал еще чего-то, потом еще, а потом уж стал без толку угощать всех, кто тут ни был, да и напился я при этом случае до крайности. Тут я в первый раз в жизни моей напился как следует и узнал, почему это так любят пьянствовать бедные люди – потому, господа, что горе гнетет бедного человека, что нужда ест бедного человека, что здравый рассудок, проклятый здравый рассудок беспрерывно говорит бедному человеку такое страшное, беспощадное, что не знает он, куда деваться, где забыться от своего безжалостного мучителя, здравого рассудка, не знает, где утопить свой здравый рассудок, потому что на кой черт, в самом деле, здравый рассудок бедному человеку, если не на его погибель и уничижение! Вот и нашел бедный человек одно спасенье в питье, и пока он пьет и пьян, здравый рассудок в нем спит, а он сам, бедный человек, живет, то есть не мучается, а всякие приятные ощущения испытывает и воображает себя свободно, чем только ему угодно, и сам верит тому, что о себе воображает.
Та к вот, господа, при этом-то горьком случае я напился в первый раз в жизни и тут же всем моим приятелям, с которыми, впрочем, в первый раз встретился, рассказал свою горестную историю…
Тогда все начали смеяться надо мною, так что я, как ни был пьян, все-таки чуть не умер от стыда. И стали они с разными насмешками надо мною расспрашивать меня обо всем подробно; я решился уж заодно признаваться и подробно – признался и в том, что не больше как полчаса тому получил от Владимира Андреевича двадцать тысяч, которые у меня в кармане. Когда я признался во всем этом откровенно, они вдруг перестали смеяться надо мною и начали глубоко сожалеть обо мне, сказали, чтоб я распорядился об ужине, и вдруг сами начали распоряжаться всем, а потом начали громко сожалеть обо мне и осуждать мою жену и Владимира Андреича. Потом начали шуметь и сговариваться о чем-то таком… Стали поздравлять меня и просить у меня денег, и я бросил им свой бумажник; они кинулись на него и снова зашумели между собою. Мне было очень весело, и я все хохотал, а приятели мои уже затевали драку. Тут явился трактирщик, разобрал дело, отобрал у них мои деньги, пересчитал и отдал буфетчику на сохранение, а мне оставил какую-то небольшую бумажку. Приятели сначала горячились, а потом уговорили меня идти с ними ночевать куда-то. Трактирщик хотел отправить меня домой с своим служителем, но я не захотел: мне было так весело на ту пору, что я хотел провести время с приятелями, и так как я уже был совершенно «готов», то меня вели под руки два человека, еще не совсем готовые… Ну и привели меня куда-то, бросили на диван, вынули у меня из кармана бумажку, которую оставил мне трактирщик, и больше я уж ничего не помню: я совершенно обеспамятел и очнулся только на другой день, часов в десять, от толчков, которые кто-то давал мне под бок.
Я открыл глаза и увидел одного из вчерашних приятелей. Он сказал мне, чтоб я вставал и шел поскорее с ним. Я повиновался; голова у меня трещала, и я чувствовал уныние смертельное.
Приятель уже на пути признался мне, что он даже в должность свою не пошел для того только, чтоб сохранить меня, что скоро, может быть, через час, а не то так и следом за нами появятся прочие приятели, которых я угощал вчера; что они будут всячески стараться искусить и соблазнить меня, потому что они известные во всем Петербурге мошенники и живут только тем, что шляются по всем трактирам, привязываются к хорошим посетителям, подбираются к пьяным и обирают их или затевают ссору с мастеровыми и простыми русскими людьми, сами на себя накликают пощечину или другой какой гостинец, а потом уж тянут бедного, запуганного человека в полицию: ты, дескать, кто таков? Я вот каков – благородный дворянин; плати, говорит, такой-сякой, – бесчестие по рангу – наличными деньгами! Вот какие были приятели, на которых наткнулся я в этом трактире, и я был очень благодарен ему, что он предупредил меня; он притом напомнил мне, где я оставил деньги на сохранение по его совету, и пояснил, что готов даже на виселицу и к самому черту, только бы сберечь меня.
Мы пришли в трактир. Я потребовал свои деньги, и мне их отдали; потом я хотел угостить приятеля за его попечения обо мне, но он поблагодарил меня и сказал, что ничего от меня не хочет, а старался за меня по доброте души, как за своего брата родного, как за себя самого, а впрочем, если мне угодно, он готов сделать мне компанию, чтоб меня не обидеть, только не здесь, а в другом месте, потому что сюда, того и смотри, нагрянут вчерашние приятели. Я согласился идти, куда он хочет, и он повел меня отсюда в другой какой-то до крайности гадкий, но, по его словам, совершенно безопасный для меня трактир. Там он посоветовал мне опохмелиться, чтоб голова не болела, и тут же сам распорядился о похмелье… При этом случае, господа, я в первый раз узнал, что значит для пропащего человека похмелье, и почему он тоскует с похмелья, и почему он напивается усердно с похмелья…
Потом он стал рассказывать мне, какая с ним самим случилась история: есть у него жена и дети, а содержать их нечем, и холодно притом, места порядочного или хоть какого-нибудь он не имеет, а времена пришли скверные, дворник из квартиры гонит, да сверх того его обокрали на днях – все будто бы именье, какое там у него было, повытаскали из квартиры. После того он заплакал горькими слезами и потребовал закуску и вина; потом кинулся ко мне на шею и начал меня целовать и называть благороднейшим человеком в мире. При этом случае пришло мне в голову, что я не знаю даже, как зовут моего приятеля, и спросил у него. Он отвечал, что имя и звание человеческое ничего не значат, главное дело – душа, впрочем, он не отпирается, что зовут его Лукьян Карпович Судаков и звание имеет – как все, а денег – ни гроша. Я предложил ему двадцатипятирублевую бумажку, чтоб его не обидеть, взаймы. Он залился горючими слезами и сказал мне, что век свой не встречал такого благородного человека и что недаром он почувствовал ко мне приятельское расположение еще вчера, как только я вошел в трактир город Новый Китай. Потом признался он мне, от искреннего сердца, что если уж так, то дал бы я ему сто рублей ассигнациями на две недели, что ли, а он по гроб свой не забудет моего добра. Я снова начинал хмелеть; головная боль у меня прошла, и мне становилось почему-то весело, так что я часто ни с того ни с сего принимался смеяться и хохотать. Я дал ему сто рублей и предложил съездить со мною в мою квартиру; он согласился. По дороге мы останавливались у разных заведений, чтоб подкрепиться, и я уж не помню, как очутился в своей квартире. На другой уже день хозяин мой, все тот же Макар Иваныч Горчицын, сказывал мне, что приехал я с кем-то в жалостном состоянии, что человек, который меня привез, очень заботился о том, чтоб уложить меня спать, и долго со мною возился, и ушел тогда уже, когда я уснул. В это время я чувствовал те же страдания, что и накануне, – и вдруг вспомнил, что можно поправиться.
Но представьте, господа, мое положение, когда я не нашел у себя ни гроша из нескольких тысяч рублей, которые со мной были! Оставался один ломбардный билет на десять тысяч… А голова у меня трещала. Лукьян Карпыч, Владимир Андреич, Надежда Львовна беспрерывно мелькали перед моими глазами и как будто дразнили меня. Я дрожал от страшного холода, который замораживал кровь. Я, наконец, не мог опомниться и одуматься хорошенько. Хозяин спрашивал, что со мною случилось, где жена моя и прочее; я рассказал ему. Потом, кинулся я к менялам и, обратив свой ломбардный билет в деньги, снова зашел в какое-то заведение, чтоб поправиться, а потом уж и за разум взяться…
Тут, господа… да и к чему уж повторять все подробности! Этот день я провел так же, как и предшествующий, следующий день тоже, и так целый месяц жил в каком-то новом для меня мире. Около меня, наяву или в воображении, мелькали разные лица: они жили со мною, угощали меня, обирали меня, и я ничему не противился. Я спешил тушить каждую искру сознания, зарождавшегося во мне после долгого сна. В тот месяц я совершенно изменился во всем…
Несчастное происшествие, доставившее мне деньги, было забыто… Только тоска иногда грызла меня даже в час опьянения… Я рвал на себе волосы в отчаянии, чувствуя свое бессилие остановиться и опамятоваться… Наконец я остановился и опамятовался… Первое, что я вспомнил и почувствовал, было то, что все деньги мои издержаны и мне нечем поправиться… Три дня после того я пролежал больной, все еще в чаду, истощенный и обезумевший от всего, что случилось со мною. Потом я решился выйти и как-то случайно очутился у одного дома, где погубили меня безвозвратно. Я думал, думал – и решил, что имею же какое-нибудь право прийти к своей жене, и пришел. Меня, впрочем, попросили подождать в передней, а в зеленую комнату и не пустил трехполенный мерзавец, даже спросил, как обо мне доложить, но, посмотрев на меня пристально, узнал меня – вероятно, что узнал и мою историю… Он ушел к моей жене и через несколько минут вышел ко мне с ответом, что барыня нездорова и никого не принимает, а вот вам, говорит, пять рублей ассигнациями. Я… ах, господа! Если б вы знали, какую грозу готовил я жене моей, какие планы насчет справедливости и правосудия строил я, и все разрушилось вдруг перед синей ассигнацией!.. Деньга, деньга!.. Как только я взглянул на нее, разум мой помутился совершенно… Я был и болен, и голоден, и, главное, хотел пить, то есть выпить! Я взял бумажку, поклонился мерзавцу и вышел…
На этой фразе Рожков остановил рассказчика.
– Та к вы так-то с тех пор и живете себе одни? Все тем же порядком?
– Все тем же порядком! – отвечал он. – Нет ли, господа, табачку?
– Табачку нет, а если чего-нибудь другого…
– Холерной, вы думаете?
– Да, например, холерной…
– С благодарностью за ваше здоровье, господа.
– Та к прикажите. Гей, буфетчик! Вели подать господину… этому господину…
– Переулков, Евстигней Лукьяныч, – шепнул рассказчик.
– Господину Переулкову вели подать туда, в ту комнату, этой гадости…
– Холерной.
– Да, бишь, холерной, что ли. Ну и закуску хорошую, какую ему угодно.
– Московскую…
– Московскую закуску.
– Нет-с, это селянка такая есть, московская: весьма отличный вкус имеет.
– Ну, селянку…
Холерная янтарного цвета двинулась на подносе в сияющем сосуде, и вслед за нею поплелся в другую комнату радостный желудок господина Переулкова.
– Заставил же ты меня выслушать эту историю!
– Она тебе кажется не любопытною?
– Пошлою, потому что это весьма обыкновенная история.
– Для меня в ней другой интерес… Но ты идешь?
– Мне пора, пора. Вот тебе мой адрес. В одиннадцать часов, не позже, ты должен быть у меня… Теперь, если хочешь, поедем вместе, пока тебе одна дорога.
– Ты довезешь меня до господина Макарова, в Мещанской: господину Макарову поручил я на сохранение мой гардероб. Прощай, Иван Моисеич, до свидания! Видишь, ты заметил, что у меня дела поправляются. То-то! Я к тебе, Иван Моисеич, через недельку, на днях, может быть… до свидания…
Таким образом кандидат Зарницын выходил из трактира «Нового Китая» с совершенно восстановленным духом и вообще настроенный, как следует, по-праздничному. Усевшись с Рожковым на извозчика, он обратился к своему приятелю с вопросом:
– Как ты думаешь… Ты ни к какому заключению не пришел после того, что выслушал историю господина Переулкова?
– Пришел.
– Именно?
– Пришел к тому заключению, что не он первый и не он последний в Петербурге бедный муж, да утешит его эта аксиома!
– Не то! И в другом смысле говорю: мне кажется, что она, эта история, имеет связь с моею маскарадною историею, которую я тебе рассказывал.
– В самом деле?.. И то может быть!
III. Новый год
В квартире Рожкова собрался избранный кружок своих людей, самых близких и родных, как следует для скромной, сердечной встречи Нового года. Рожков мог гордиться тем, что все, бывшие в эту замечательную ночь в его гостиной, питали к нему беспредельное сочувствие – от жены, обворожившей гостей его своею неистощимою любезностью и сохранившей к нему страстную, энергическую привязанность, до Бориса Александровича, который заступал место отца родного и походил более на патриарха, нежели на Бориса Александровича.
Полночь приближалась. Гости вели оживленный разговор о каких-то «семи в червях», должно быть, очень важных червях, потому что Борис Александрович очень горячились, пристойно, величественно, с улыбкой на устах, но все-таки было заметно, что горячились, и нет сомнения – основательно горячились. Собеседники с глубоким сочувствием слушали рассказ его о «семи в червях» и прерывали его в самых патетических местах замечаниями о том, что это случается – редко, очень редко, но действительно случается, даже с ними однажды случилось. Тут собеседник, с которым «это случилось», рассказывал, каким образом, при каких необыкновенных обстоятельствах и в какую незабвенную пору жизни его все это случилось, чем сопровождалось, кто да кто был при том и может подтвердить, что все это не сказка. Даже дамы принимали горячее участие в «семи в червях», и они-то исключительно рассказывали такие случаи со всеми подробностями и были молчаливо, значит – внимательно, выслушиваемы. Мужчины по привычке излагали дело вкратце и не успевали изложить его до конца, как были прерываемы другими лицами из своей братии, жизнь которых тоже была ознаменована точно таким же редким и весьма достопримечательным происшествием. Вообще, по всему видно было, и сюжет оживленного, горячего разговора окончательно определял, что общество, собравшееся к Рожкову для встречи Нового года, было общество избранное, европейски образованное, имеющее свои положительные, независимые стремления в жизни, и если уж говорить, хорошо поговорить, провести время в умной беседе, то знает, о чем и поговорить.
Изредка в пылу разговора гости и хозяева бросали заботливый взгляд на часы. Стрелка приближалась к двенадцати. Зарницын еще не являлся, и Рожков с досадою подумал: «Опять закутил!» В это время он услышал звонок в передней и вышел в залу.
Пришел наконец Зарницын, почти непохожий на прежнего Зарницына: такую совершенную благовидность приняла его давешняя растрепанная, небритая и нравственно расстроенная личность. По наружности решительно нельзя было узнать в нем петербургского пролетария.
– Ну что же ты… Экой ты, братец! Ну, можно ли так! Чуть не опоздал, – заметил Рожков, встречая своего университетского товарища.
– Я, однако ж, торопился… прождал у Федорова, у того, знаешь, у которого были на сохранении мои «домашния обстоятельства», и потом, представь себе, представь, иду я к тебе… это было часа два тому…
– Что ж мы стоим здесь? Идем…
– На секундочку: там нельзя этого говорить…
– А! Ну-ну, только потише. Я, наконец, почти завидую тебе – твоей независимой жизни, хотя и не каюсь, что женился, – я счастлив! Ну что же такое, что? Опять интрижка…
– И какая… Иду я по Невскому… я терпеть не могу ездить на извозчиках…
– Без подробностей, идем, я тебя познакомлю с женою.
– Постой же, доскажу. Иду я, знаешь, ну, в отличном расположении…
– Боже мой, меня ждут…
– Вдруг встречаю… чудо! Я за ней, то есть за ним, за моим чудом, она, то есть оно, чудо-то, с картонкой… понимаешь!
– Ничего не хочу понимать – после! Идем… – воскликнул Рожков, схватив Зарницына за руку.
Зарницын сделал несколько шагов и, приостановившись в дверях залы, из которой открывалась анфилада комнат с группами гостей Рожкова, вдруг подался назад.
– Да что это с тобою, Зарницын? Ты, никак, с ума сходишь! – заметил Рожков, глядя с изумлением на своего приятеля.
– А! Ничего, ничего! Маленькое потрясение… Это со мною случается. Идем…
Зарницын отправился вслед за Рожковым, прошел две комнаты и очутился в третьей, где мелькали однообразные черные фраки и разноцветные дамские платья.
– Вот, Варинька, мой лучший друг. Дмитрий Алексеич Зарницын – ученый муж и страх мужей! Рекомендую. Я совершенно неожиданно встретил его после четырех лет… Прошу полюбить…
Варинька покраснела, смутясь на мгновение… и молча поклонилась лучшему другу своего мужа… В то же время часы зашипели и медленно стали бить полночь…
Разговор умолк. Все, присутствовавшие в этой комнате, сгруппировались вокруг большого стола, на котором стояли бокалы с длинными шейками. Никто не обратил внимания на вновь появившееся лицо Зарницына, а появилось оно каким-то особенным, замечательным образом. Притом же Зарницын успел оправиться от своего мгновенного беспамятства; он тихонько присоединился к группе, устремившей внимательные очи на Бориса Александровича, который стоял отдельно от нее, собственно, ни на кого не глядя, но, так сказать, пребывая в торжественном самосозерцании.