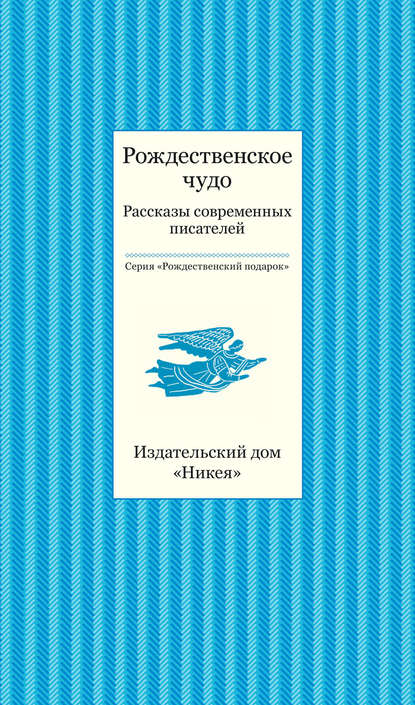Полная версия
Рождественские и новогодние рассказы забытых русских классиков

Рождественские и новогодние рассказы забытых русских классиков
© ООО ТД «Никея», 2022
Яков Бутков[1] (1820–1856)
Новый год. Вчерашняя история
I. Встречи
Тридцать первого декабря, в полдень, кандидат Зарницын возвращался своим привычным путем из Малой Миллионной в Среднюю Мещанскую. Впрочем, он был совершенно уверен, что ежедневные должностные хождения его по этому пути кончились благополучно и что жизнь его должна принять с наступающего нового года новое направление, но какое направление, по каким улицам и переулкам, в какую часть Петербурга придется ему ходить «впредь» неуклонно и ежедневно, исключая праздничные и табельные дни, и не случится ли с ним такая история, часто случающаяся с петербургскими пролетариями, что вовсе некуда будет ему ходить, что не будет никакой существенной цели для его хождения и человечество не станет осведомляться и заботиться о том, рано ли проснулся кандидат Зарницын, ушел ли он куда ему следует из своей темной каморки или еще почивать изволит?
Предложив себе эти вопросы, кандидат Зарницын разрешил их не вполне, не к совершенному своему удовольствию и даже сознался, что «будущность», которая наступит для него с той роковой минуты, когда он возвратится в свою квартиру пред грозные очи негодующей хозяйки, обещает ему на первый случай жаркую схватку, из которой он, без всякого сомнения, не выйдет победителем.
Действительно, дело его было достаточно плохо: не выдержав постоянных механических занятий и страдательного существования в качестве делового человека, он объяснился по этому случаю с Борисом Александровичем и был наконец освобожден от своих обязанностей. Борис Александрович очень сожалел о его решимости отыскивать себе какие-то другие, более свойственные ему занятия, поставил ему в пример кандидата Рожкова, который таким же образом начинал свою карьеру, а теперь – человек! Впрочем, присовокупил Борис Александрович, он не считает себя вправе удерживать при себе никого, тем более человека образованного и умного, и успокоил его насчет двадцати шести рублей серебром, забранных «вперед»: об этой сумме обещал сделать особое распоряжение. Что же касается до продолжения знакомства, то он, Борис Александрович, надеется оставаться неизменно в прежних «дружественных» отношениях к кандидату Зарницыну. После этого-то объяснения он и возвращался из Малой Миллионной; оно, вполне удовлетворив его амбиции и самосознание, лишило его возможности рассчитывать по-прежнему на первое число. А никогда ему не были так нужны рубли, как теперь. Он уже проклинал свою амбицию и неудачное, вовсе несвоевременное ее проявление. Порыв мелочной досады на неудачу в мелочных искательствах заменился в нем прочным убеждением, что сегодня тридцать первое и последнее число декабря, а завтра еще хуже – первое число и Новый год, и всего хуже – хозяйка ждет, и в маскараде нужно быть всенепременно…
На мгновение он был обрадован надеждою на свои «уроки»: в нескольких домах он давал уроки, за которые платили ему хорошо; но вдруг вспомнил он, что всюду, где можно было получить что-нибудь «вперед», он получил давным-давно, потому что прежде тоже случались крайние нужды в деньгах. Следовательно, с этой стороны ожидать ему нечего.
Появилась было другая надежда на некоторые лишние вещи в его гардеробе и на господина Макарова, принимающего на сохранение всякую рухлядь, но и эта надежда разрушилась, когда припомнил он, что гардероб его во всей полноте поступил еще в прошлом месяце к господину Макарову, так что еще подумать надо, как ему завтра пристойным образом сделать самые необходимые визиты, а о том, чтоб сходить в маскарад, разумеется, и думать нечего.
Кандидат Зарницын, пораздумав о своем положении, решил, что если сегодня хозяйка не доведет его до сумасшествия, то все равно он рехнется завтра в роковую пору маскарада в Большом театре…
Он уже приближался к своей квартире, призывая на помощь все свое мужество и красноречие, всю свою любезность, чтоб укротить сколько-нибудь хозяйку, не принимающую в резон ничего, кроме наличных денег; но так как с каждым шагом мужество его ослабевало, приготовленное объяснение, что денег нет, казалось все меньше красноречивым, а дополнение к этому объяснению, что и достать их негде, вовсе нелюбезным, то он признал удобнейшим, во избежание могущих быть неприятностей, на этот раз вовсе не являться к хозяйке, а дождаться где-нибудь той вожделенной и довольно поздней поры, когда уже нельзя ожидать опасной встречи с хозяйкою, особливо если пройти в свою комнату по черной лестнице, через кухню, а спички лежат на печке, в знакомом углу; притом же, вероятно, часов в двенадцать ночи кухарка Настя будет иметь там же, на лестнице, свидание с поваром генерала, живущего внизу… Если все это случится по ожиданию, то дверь будет отперта и он пройдет неслышно и незаметно для хозяйки.
Признав эту меру полезнейшею в своем положении, он миновал свою квартиру с решительным намерением не показываться на глаза своей хозяйке раньше будущего тысяча восемьсот сорок такого-то года. Он прошел несколько улиц, проклиная свое злосчастное положение и находя нестерпимо глупыми все встречавшиеся ему лица, озабоченные праздничными хлопотами. Мысль о хозяйке и маскараде долго не выходила у него из головы; наконец голод и холод стали одолевать его, он почувствовал настоятельную надобность зайти в какой-нибудь трактир отогреться и пообедать – только затруднялся в выборе трактира. Не то чтоб он был очень разборчив в качестве кушанья или особ, с которыми придется ему сидеть в компании, – нет, покушать он готов был теперь что-нибудь, а насчет особ был уверен, что облагораживает своим присутствием всякую компанию. Его смущало другое, весьма важное для него обстоятельство: во всех кухмистерских и трактирах, мимо которых проходил он, замерзший и голодный, он был должен – до такой гадкой степени должен, что лучше было замерзнуть на улице от холода или умереть от голода, нежели зайти в эти заведения, чтоб отдаться безответной жертвой в руки раздраженных и, главное, невежественных кредиторов.
Только вечером, когда на улицах засверкали газовые фонари, кандидат Зарницын заметил совершенно новое для него заведение – какой-то город Новый Китай, в котором он на своей памяти никогда не был, следовательно, ни гроша не должен, и потому, заключил он основательно, можно зайти в этот «Новый Китай», не подвергаясь ни малейшей опасности.
– Слава Богу, – сказал он, взбегая по лестнице, – слава Богу, что есть еще в Петербурге места, где меня вовсе не знают!
– Дмитрий Алексеич! Батюшка Дмитрий Алексеич! Вот уж не чаял! – раздалось в ушах кандидата Зарницына в ту самую минуту, как он, довольный открытием места, где его не знают, очутился в трактире «Новый Китай».
«Ну что ж это, в самом деле! – подумал Зарницын. – День такой вышел для меня роковой, что ли? Голос-то знакомый, голос Ивана Моисеича… Да как же это?!»
И точно, оглянувшись в комнате, в которую он только что вошел, он увидел распоряжавшегося буфетом Ивана Моисеича, того самого Ивана Моисеича, которого он месяц тому оставил в больших дураках в маленьком трактирце совсем в другой, в противоположной стороне города. Видно было, что судьба решилась преследовать злополучного кандидата Зарницына до конца.
Однако ж Зарницын, оправившись от глубокого изумления и невольного ужаса, которым поразила его эта неожиданная встреча, подошел к своему благоприятелю, Ивану Моисеичу, и первый повел к нему такую убедительную речь:
– Бесстыдный ты человек, Иван Моисеич! Ну как же это можно! Вдруг пропал, как в воду канул! Уж я расспрашивал, расспрашивал…
– Вот я этого не чаял, Дмитрий Алексеевич! С той самой поры, как вы перестали ходить в «то» заведение, я таки ждал вас долгонько. Все думаю, авось зайдут да рассчитаются, Дмитрий Алексеевич! Ведь я все это по доброте души, Дмитрий Алексеевич, а не то чтоб из прибыли какой: сами знаете!
– Знаю, любезнейший, знаю, потому-то я и нашел тебя… только денег у меня теперь… на этот раз ты меня извини: завтра Новый год, праздники, требуются большие расходы – понимаешь?
– Я, Дмитрий Алексеевич, про деньги уж не говорю: если вы – так, как я вижу теперь, по честности, и в заведение станете ходить, так мне и ничего, подожду, пока вы разбогатеете маленько! Только бы тово… Это вам Федор Никитин сказал, что я в здешнее заведение поступил?
– Федор Никитин? Какой Федор Никитин?.. Ах да! Точно, Федор Никитин.
– Нынешний буфетчик в том заведении-с…
– Ну да, да… Я еще с ним не знаком, впрочем, тот самый! – сказал Зарницын решительно, думая, что если уже можно отделаться хитростью, так хитрить до конца.
– Что ж вы прикажете, Дмитрий Алексеевич? – спросил Иван Моисеич, обрадованный добровольным появлением своего должника и приятеля.
– Я пришел, Иван Моисеич, – отвечал Зарницын, – пришел я сюда, собственно, для того, чтоб увидеть тебя и успокоить насчет того «маленького» должка: он – пустой должок, Иван Моисеич, и я заплачу тебе после праздников. И так как я уже пришел, то, разумеется, должен принести твоему заведению какую-нибудь пользу. Изволь. Со мною всех денег – один рубль серебряный, я решился издержать его у тебя. Гей, слуги! Подавайте обедать – сюда!
Зарницын, решившись пожертвовать последним рублем для поддержания своего достоинства в глазах Ивана Моисеича, предположил вознаградить себя за эту непредвиденную потерю, просидев здесь, в теплом углу, роковой остаток исчезающего года, чтоб до завтра не встретиться с хозяйкой.
Только что Зарницын принялся за свой дорогой и лакомый обед, предвкушая, впрочем, горечь завтрашнего дня, в комнату, где сидел он, вошел какой-то господин в бекеше с бобровым воротником, сопровождаемый извозчиком. Бросив буфетчику кредитный билет, он спросил мелочи, чтоб рассчитаться с извозчиком. Потом он оглянулся и встретился взглядом с Зарницыным, который смотрел на него пристально…
– Зарницын! Ты ли? Вот неожиданность! – воскликнул господин в бекеше, бросаясь к Зарницыну.
– Рожков! Ах, Рожков! Да тебя узнать нельзя! Боже мой, ты барин, решительно барин, и барином смотришь! Поздравляю!
– Ну а ты что ж теперь? Все тот же пролетарий?..
– Я-то? Садись, пожалуйста, поговорим, я тебе все расскажу. Э! Да что и говорить!
– Видно без рассказа, – заметил Рожков. – Впрочем, мы с тобой все-таки потолкуем немного; я отогреюсь, а ты мне порасскажешь. Я уступил жене свой экипаж, а сам часа три сряду ездил на этом ваньке… чуть не замерз. Ну как же ты? Расскажи, ведь мы с тобою не видались года четыре, с того времени, как вышли из университета.
– Ну да, ты уехал за тридевять земель и женился. Скажи мне, пожалуйста, каким это образом ты женился?..
– Обыкновенным. Там, куда я ездил по поручению – благодаря моей роли и письмам Бориса Александрыча – к его важным приятелям, я имел, как говорится об актерах, успех необыкновенный. Сделав свое дело, я влюбился, влюбившись – женился; потом пошел служить по другой части… Это уже по возвращении в Петербург.
– Ну а жена… я все насчет жены твоей. Что, она хороша, и мила, и добра?
– Я совершенно счастлив, жена моя – сущий ангел… как муж, лгать не могу.
– Очень рад. Это нынче редкость…
– Ты сам увидишь. Кстати, сегодня ты непременно должен быть у меня: я познакомлю тебя с женою. Кроме тебя будут одни ее родные, с моей стороны – так как у меня нет родных – будешь ты. Мы превесело встретим Новый год…
– Посуди же о моем горьком положении, Рожков: я не могу быть у тебя!
– Как, почему? – спросил тот с изумлением.
– Ты, вероятно, уже забыл, какого рода жизнь ведут наши братья-пролетарии. У меня, точно по какому-то проклятию, самый злосчастный день выпал сегодня. Даже, признаюсь тебе, я сижу здесь потому только, что боюсь идти домой, чтоб не встретиться с хозяйкой… понимаешь? Ты когда-то сам просиживал таким образом!
– Только-то! Эта беда не велика, все это можно поправить…
– Еще есть у меня одна скорбь – сердечная скорбь… Завтра во что бы то ни стало я должен быть в маскараде…
– Ах, злодей! Мало тебе обманывать бедную хозяйку, вероятно, какую-нибудь благородную вдову, – ты еще заводишь интриги… Ну, брат, как я вижу, ты нисколько не изменился; любовь для тебя такая же потребность, как обед, и обед – как любовь.
– Та к вот какое мое положение, что тут распространяться! Сама судьба, преследующая меня целый день, наконец умилостивилась надо мною и послала тебя сюда, в этот скверный трактир (это, Иван Моисеич, в «относительном» смысле я называю «Новый Китай» скверным трактиром), послала тебя сюда, чтоб ты спас меня – во что бы то ни стало. Спасай же, спасай, а уж я тебе услужу, разумеется…
– Ведь дело-то все, я думаю, в каких-нибудь нескольких рублях.
– Нескольких десятках рублей, драгоценный Рожков!
– Только-то! И ты будешь спасен? – спросил Рожков, открывая свой бумажник.
– Спасен! – отвечал Зарницын торжественным голосом.
– И приедешь ко мне встречать Новый год.
– Новый год! – повторил Зарницын.
– А завтра будешь в маскараде.
– В маскараде.
– И будешь, как прежде, счастлив.
– Счастлив! – подтвердил Зарницын, судорожно сжав поданный ему билет уважительного достоинства и вдруг почувствовав себя в благоприятных, даже блистательных отношениях к жизни.
– И ты, конечно, – продолжал Рожков, – поверишь мне тайну твоей интриги. Жаль, что завтра я не могу быть в маскараде… Вообще я давно, больше года, не был в маскараде, при том же я терпеть не могу маскарадов, а вот жена моя от них в восторге. Ну что же, что там такое ждет тебя в маске?
– А ты, женатый человек, все-таки интересуешься «современными» проявлениями холостой жизни. Изволь, я расскажу тебе… Но что ж я расскажу? Вот уже год, как я завел там интригу, любовь – все, что угодно. Не могу пожаловаться на «жестокость», но, представь себе, я все еще не знаю, кого люблю, кто интригует меня или, пожалуй, любит – одним словом, кто она такая.
– Кто она такая… – повторил Рожков.
– Она, та самая – моя любовь, моя богиня… ты понимаешь… ведь целый год, братец! Счастья тут целый рай, но и муки – бездна! Согласись, что мучительно, наконец, видеть к себе такую продолжительную недоверчивость. Она любит меня, ну любит – на это уж я имею доказательства, но, кто бы она ни была, хоть бы сама даже… кто бы она ни была, она не должна бы мучить меня таинственностью… Право, странный народ эти женщины! Что уж тут, кажется, имя… Так нет!
– Эге! Та к у тебя, братец, целый роман, настоящий роман! Любовь, таинственность, свиданья в маскарадах, меры предосторожности против всякого скандала… Да это любопытно! Если хочешь, я, так и быть, отправлюсь с тобою в маскарад, пособлю тебе разузнать… Эх, братец, да ты вовсе не умеешь, я на твоем месте давно бы узнал… Решено! Еду с тобою в маскарад.
– Знаешь ли, у меня есть какое-то предчувствие, что ты в этом деле поможешь мне. Я помню, когда ты, бывало, в блаженные времена студенчества…
– Без комплиментов. Так как я уж встретил тебя в отчаянном положении, то и берусь спасать тебя до конца – и один, безраздельно.
II. Господин Переулков
В это время появилось новое лицо странного вида: мужчина, очевидно, благородного звания, бледный, тощий и небритый, в ветхом фрачишке с длинно-предлинными фалдами, которые колотили его по пятам; прочие части его одежды соответствовали фраку и поражали своею несоразмерностью с особою, которую прикрывали; в руках его была измятая шляпенка, вытертая по швам, а шинели как будто вовсе он не имел, и точно пришел он сюда согреваемый только чувством собственного достоинства. Вообще этот человек был очень похож на известного разбойника Фра-Дьяволо, кающегося в своих прегрешениях, и нисколько не походил на другого молодца, тоже известного с дурной стороны, – Дон-Жуана, в лучшую пору его деятельности.
Войдя в трактир, он был принят служителями с лукавою внимательностью: все ему стали кланяться и приглашали его сделать милость пожаловать в угловую комнату. Он между тем открыл табакерку, объявив, что забежал только так на минуту, табачку понюхать, да вот что жаль: табачку-то и нет, а если б случился он у кого-нибудь из них или из гостей… потом он обратился с тем же объяснением к Рожкову и Зарницыну, которые смотрели на него с изумлением и соболезнованием; в то же время он был окружен остроумными служителями, которые наперерыв один перед другим трунили над ним, и наконец один из них, самый бойкий, приняв на себя важный вид, заговорил таким образом:
– Ваше высокоблагородие! Ну чего ж это вы наделали? Вас полиция ищет! Сам городовой пришел сюда с двумя подчасками[2]. Что ефто ихное, говорит, высокоблагородие Евстигней Лукьяныч оставили свою супругу в такое праздничное, знатное и горячее время? На кого, говорит, ихное высокоблагородие покинул свою супругу? На Владимира Андреича, что ль? Нет, говорит, это он так только сочиняет, будто покинул на Владимира Андреича, а по правде-то покинул, потому что потаскун он такой, ихное-то высокоблагородие испокон веку шатается по трактирам, какие ни на есть лучшие в Петербурге, шампанское пьет, в каретах разъезжает, в венгерках ходит да в Английском клубе просиживает по целым ночам, а супруга ихная, говорит, глаза выплакала от тоски, исчахла от бессонницы, а все любит, говорит, безалаберное этакое ихное высокоблагородие, вашу, дескать, милость Евстигнея Лукьяныча. Так вот что приказано, говорит: взять их, да в карету посадить, да с почетом и за строжайшим караулом доставить к неутешной супруге, чтоб вместе они в своих господских вызолоченных палатах, при готовом и стеариновом освещении в счастьи и богатстве встретили Новый год. Вот что-с, ваше высокоблагородие!
– Здравия желаем, ваше высокоблагородие! – повторили все. – С наступающим благополучно Новым годом, тысяча восемьсот таким-то и таким-то, всеуниженнейше вас поздравляем. Прикажите, ваше высокоблагородие, шампанским, а не то так и настоящим полушампанским угоститься под Новый год за ваше дорогое здравие, и супруги вашей, и друга вашего Владимира Андреевича. Не так ли-с? Да что ж вы это призадумались, пригорюнились, закручинились, ваше высокоблагородие? Аль и табачку березовского нет, аль шинелишки нет, аль и впрямь супруга-то Надежда Львовна, по отцу мещанка Закоулкова, по мужу дворянка Переулкова, аль и впрямь-то, ваше высокоблагородие… Расскажите, ваше высокоблагородие, сделайте такую милость. Неужто и впрямь…
– Позвольте, господа, табачку… Я тороплюсь к жене: ведь в самом-то деле она, пожалуй, рассердится, она капризная такая… Сделайте одолжение – табачку…
– У меня нет табаку, – отвечал Зарницын.
– Да расскажите же, ваше высокоблагородие, правда, что ль, будто жена вас обижает, – табачку дадим.
– Правда, правда, – отвечал он, глядя в свою открытую табакерку. – Жена меня совсем гонит, жена обманула меня и сгубила меня… Ах, Надежда Львовна, мещанка Закоулкова! Не я ль тебя сделал такою-то советницею, Переулковою? А ты-то со мною… что… Выслушайте меня, милостивые государи, – продолжал он, обращаясь к Зарницыну и Рожкову, – рассудите меня с моею законною женою, с Надеждой Львовною, рассудите, виноват ли я, ведь меня, милостивые государи, обманули, обманули.
– Расскажите, если это может облегчить вас, мы готовы слушать…
– Вот как-с: я жил в Семеновском полку… нет, виноват, жил я в Измайловском полку, в Четвертой роте, у отставного полотера Макара Иваныча Горчицына… отец его был тоже отставной полотер – только умер давно, и я его не знаю, а Макара Ивановича Горчицына знаю: человек был хороший. У него-то я нанимал комнату, целую особую комнату, веселую, с зелеными бумажными обоями, теплую, с садиком под окнами… и обед у меня был пристойный – за обед я платил особо, по пятиалтыннику за обед, а за квартиру десять рублей в месяц, так мне еще оставалось из жалованья на разные шалости и на черный день рублей, может быть, пять с полтиною или и шесть… Счастливо я жил в то время! Бывало, соберемся, всё молодежь, народ веселый, у меня притом была гитара, а Самсон Давыдыч умел играть на гитаре, а Митя Кочергин, бывало, поет… а потом, знаете, на Острова, бывало, если лето, а если зима, так в трактир, бывало, завернем и примемся пить чай, а тут нам музыка всякая почище Самсон-Давыдычевой музыки – увертюры, арии, и все, бывало, сыграет орган, а мы слушаем да чаек попиваем; а первого числа так уж всенепременно и кутнем в складчину – вот какое времечко было золотое!
Евстигней Лукьяныч опустил пальцы в табакерку и, не найдя табаку, продолжал:
– О службе говорить нечего. Чин я имел изрядный, асессорский, только жалованьишко маленькое. Мне хотелось больше. Не потому, чтоб уж в самом деле я нужду терпел большую, а потому, что всякий молокосос шел вперед, а я как будто застыл на одном месте и с одним окладом. Притом же я был горячего характера и свою имел амбицию; я и принялся ходатайствовать у Владимира Андреича, моего благодетеля, что сделайте же милость, окажите защиту и покровительство, войдите в мое положение, заставьте по гроб мой молиться за вас. Владимир Андреич долго отнекивались, говорили, что не знают, какое из меня сделать употребление, что мне надобно годиться к тому же, к чему годятся другие выскочки, молокососы, ученые, тогда, говорили, и оклад был бы соразмерный… Но я все-таки не переставал утруждать его при случае, так что Владимир Андреич однажды разгорячились и спросили у меня гневно: да что у вас, сударь, есть, что ли, нечего? Что у вас семейство обширное – виноват я, что ли, что вы обзавелись обширным семейством?
«Владимир Андреич! – отвечал я, воистину с чувством отвечал и с горькими слезами. – Богом клянусь вам, что никакого семейства я не имею, хоть извольте навести справку; я один как перст на белом свете, я, Владимир Андреич, круглый, бесприютный сирота, а вы у меня один отец и благодетель!» Когда я объяснил Владимиру Андреичу все, что у меня было на душе, они как будто пришли в сердечное умиление и опять спросили у меня, что я, стало быть, не женат, и почему ж это они считали меня женатым? Я тотчас и на этот счет отклонил от себя всякое сомнение, объяснил, что женат не я, а другой Переулков, не Евстигней Лукьянов, а Лука Иванов, в другом ранге состоящий и в другом столе, и что этот Переулков мне вовсе чужой человек, даже вражду питает ко мне и, происходя из ученых, занимается не столько делом, сколько стихотворством, несвойственным благонамеренному человеку. Тут Владимир Андреич поняли совершенно мое положение, осведомились, что я за человек такой нынче, то есть на ту пору, и что получаю, и когда я отвечал откровенно, что, по милости его, отца моего и благодетеля, я такой-то и пятьсот ассигнациями; они вновь пришли в умиление, сказали, что я действительно жалкий человек, а впрочем, если уж я не обязан семейством, то помочь моему горю можно легко; и сказали, чтоб я пришел к ним через три дня, а они в то время все обдумают. Я и пришел. Владимир Андреич сказали, что много думали о том, чтоб помочь моему горю, и придумали наконец, что мне следует жениться. Я поклонился, поблагодарил и объяснил Владимиру Андреичу, что по незначительности своей и по совершенной бедности никаких видов на женитьбу не имею. Они отечески посмеялись надо мной и сказали, что выбрали уже для меня невесту совершенно по мне, что есть одна прекрасная особа, которой недостает только порядочного имени, чтоб занимать приличное ей место на белом свете, что порядочное имя есть у меня, и что если я хочу, так вот как: мне сочетаться законным браком с нею, с прекрасною то есть особою и мещанкою Надеждою Львовною Закоулковою, которую «опекают» они сами, Владимир Андреич. Тогда, значит, по заключении законного брака они выдадут в собственные мои руки двадцать тысяч бумажками (в те поры бумажки ходили) и потом уж в мои дела не станут вмешиваться, я могу жить себе на покое, кутить или Богу молиться – что мне угодно.
Так вот, господа, какое вдруг передо мною, горюном, открылось поприще широкое: двадцать тысяч бумажками! Я, признаюсь, как ни обрадовался такому счастию, однако ж все-таки подумал и догадался, в чем дело, а после опять подумал, порассудил, что у меня иной раз и свечки сальной не на что купить и частенько хожу в оборванном сюртучишке, так тут уж дело известное, какая амбиция! Да и что такое, в самом деле, амбиция, когда тут мне, дураку, оказывают снисхождение люди – вот какие! Что за амбиция перед двадцатью тысячами наличных рублей!.. Прикинул я все это на разум и решился, а когда решился, сами Владимир Андреич – ей-же-ей, не лгу! – сами они заехали ко мне на квартиру, вошли в мою каморку бедную и в мое горькое положение (это случилось вечером), заставили меня надеть фрачишко мой ветхий и прифрантиться, а сами, пока я, знаете, снаряжался, и, разумеется, стыдился, что все это перед такою особой, и конфузился, что каморка моя такая – стульчика крепкого не было и портрет Наполеона висел на стене, а следовало бы быть портрету их самих, Владимира Андреича (только я по бедности не мог подписаться на портрет моего благодетеля), – пока все это со мною делалось, они закурили сигару, вероятно, уж настоящую, и стали трунить надо мною и подсмеиваться, не то чтоб в обиду или в оскорбление, а совершенно особым, милостивым и до крайности отеческим образом, так что у меня все жилки заходили от умиления… Я тут-то и подумал, что вот вы, тамошние, важные и очень важные, посмотрели бы вы, как тут со мною сами Владимир Андреич, пред которым вы гнетесь в три погибели, посмотрели бы и что бы вы подумали? Подумали бы, что вот человек вышел на свою дорогу, что Переулков начинает свою карьеру, что нечего теперь глумиться над Переулковым и спрашивать, по какому это вы случаю, господин Переулков, такого достигли уважительного звания… Ну, знаете, многое очень лестное пришло мне в голову, так что уж я подумал, что и в самом-то деле, чем я не гожусь в приятели Владимиру Андреичу…