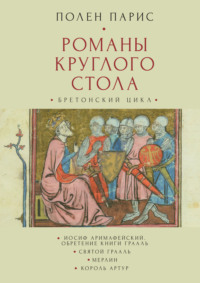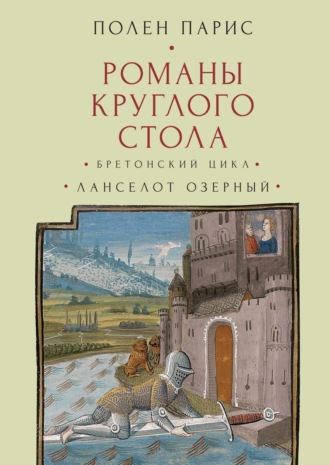
Полная версия
Романы Круглого Стола. Бретонский цикл. Ланселот Озерный.
– Да, госпожа, я сын короля и хочу, чтобы меня таковым почитали.
– Дитя мое, кто вам сказал, что вы сын короля, тот явно заблуждался.
– Весьма сожалею, ибо в душе я чувствую, что вполне достоин быть им.
Он ушел опечаленный; дама снова призвала его и, отведя в сторонку, поцеловала его в глаза и рот с материнской нежностью.
– Успокойтесь, сынок, – сказала она, – я разрешаю вам впредь раздаривать коней, добычу, все, что вам вздумается. Будь вам сорок лет, а не двенадцать, вы и тогда были бы достойны похвал за то, что щедро отдавали все, что имели. Отныне будьте самому себе сеньором и наставником: вы умеете выбирать между добром и злом. Если вы и не сын короля, то, по меньшей мере, у вас королевское сердце.
Здесь рассказ ненадолго покидает Ланселота, чтобы вернуться к его матери-королеве и к королеве Ганнской, его тете, пребывающим в печали и смирении в Королевском монастыре.
IX
Каждый день после мессы королева Элейна Беноикская ходила молиться на ту гору, где король Богор отдал Богу душу; потом она спускалась и печально сидела у озера, где у нее похитили дитя. Однажды, когда глаза ее, полные слез, были обращены к этой обширной водной равнине, ее приметил некий священник, ехавший верхом с единственным провожатым. Он был одет в длинную узкую сутану и закутан в черную мантию. Уйдя в свое горе, дама не видела и не слышала его приближения. Но он сказал ей, откинув капюшон на плечи:
– Госпожа, дай вам Бог радости, вами утраченной!
Элейна, вначале немного обеспокоенная, ответила на приветствие, ибо все в этом монахе выдавало человека добропорядочного: высокий рост, черные волосы, тронутые сединой, большие черные глаза, широкие плечи, крупные, угловатые кисти рук со вздутыми венами, голова и лицо, изборожденные шрамами.
– Извольте-ка разъяснить мне, госпожа, – продолжал он, – как это, служа Господу, вы можете предаваться такой скорби. Кто принял постриг, тому не пристало более сокрушаться ни о чем, разве только о грехах, совершенных еще в бытность вашу в миру.
– Сир, – ответила королева, – не утрата земных благ печалит меня, пусть я и звалась долгое время королевой Беноикской; но утрата моего сеньора короля и моего юного сына, которого на моих глазах унесла прямо отсюда в пучину озера некая дама или, быть может, дьяволица. Я прихожу сюда каждый день молиться за плоть от плоти моей, как говорит Святая Церковь, и надеюсь, что слезы мои вернее склонят ко мне милость Божию. Стоит мне подумать, что Богу было угодно в один и тот же час лишить меня и супруга, и сына, и я трепещу от мысли, что, сама того не желая, дала ему повод меня ненавидеть.
Добрый человек отвечал:
– Вижу, госпожа, что у вас немалая причина для слез; но вы не должны горевать сверх меры. Раз уж вы облачились в монашеские одежды, вам лучше предаваться вашей скорби в аббатстве, укрывая слезы в своей келье. Да простит Господь короля, которого вы потеряли! Но не беспокойтесь о судьбе вашего сына: он жив и здоров.
– Сир, да что вы говорите? – воскликнула королева, вскочив на ноги.
– Клянусь своей сутаной, ваш сын Ланселот в таком добром здравии, какое только возможно.
– А откуда вы знаете?
– От тех, кто с ним заодно. Он был бы с вами, а вы еще были бы госпожой Беноикской, если бы в том доме ему не было лучше.
– Но, сир, где он, этот дом? Если я уже не могу надеяться обрести своего сына, нельзя ли мне хотя бы взглянуть на те места, которые его пленили?
– Нет, госпожа, я обещал хранить тайну, доверенную мне, а вы же не хотите, чтобы я нарушил клятву.
Королева не стала настаивать, но пригласила доброго человека проводить ее до аббатства. Там он, возможно, встретит дам, чьи имена ему окажутся знакомы. Добрый человек на это согласился.
Когда они пришли в Королевский монастырь, многие дамы его узнали и устроили торжество в его честь. Оказалось, что, подвизаясь долгое время среди бравых рыцарей в миру, он, наконец, отринул земную славу, чтобы посвятить себя служению Богу в одной обители, преображенной в монастырь устава Святого Августина. Дамы умоляли его разделить с ними трапезу; но он ответил, что еще рано; ибо, согласно уставу своего ордена, он вкушал пищу лишь единожды в день.
– Эта высокородная дама, – сказал он, – внушила мне сострадание, и я благодарю Бога, что он дал мне случай отплатить ей за прежние милости. Однажды в день Богоявления король Бан, упокой Господь его душу, собрал большой двор. Рыцарей щедро одаривали одеждами; но когда я прибыл туда, в самый канун праздника, раздавать было уже нечего. Заметив меня, королева сказала, что такого благородного мужа, каким я выглядел, не годится принимать хуже других. У нее было заказано сюрко[31] из драгоценного шелка; она велела подогнать его по моей мерке и подарила его мне, так что во всем собрании я был одет богаче всех. Разве это не была великая любезность с ее стороны? Потому и я желал бы услужить ей своими трудами и речами. Ко мне не раз склоняли слух великие государи, и я намерен вновь обратиться к тем, кто может помочь делу ее сына и племянников. Прискорбно видеть земли Ганна и Беноика в руках Клодаса; наследственным правам от этого ущерб, а сюзерену позор. Завтра же я поеду за море и принесу жалобу королю Артуру.
Прежде чем проститься, достопочтенный муж повидался с королевой Ганнской и уведомил ее, что не стоит опасаться за жизнь обоих детей; что они хотя и пребывают вкупе с наставниками у короля Клодаса, но Клодас боится посягать на их жизнь, опасаясь множества друзей, по-прежнему верных им. Несколько дней спустя он уже был в городе Лондоне, где нашел короля Артура после битвы с Агизелем, королем Шотландии, который принужден был просить мира. Артур заключил и перемирие с королем Чужедальних земель вплоть до самой Пасхи. Когда он сидел за трапезой в окружении своих баронов и рыцарей, достопочтенный муж вошел в залу и, подойдя к подножию обширного стола[32], заговорил громко и уверенно:
– Король Артур! Да хранит тебя Бог как храбрейшего и лучшего из королей, за упущением одной малости.
– Святой отец, – ответствовал король, – заслужил я или нет ваших упреков и похвал, но благослови вас Бог! Но скажите, по крайней мере, что мешает мне быть добрым королем.
– Со всею охотой, сир. Да, ты благородная опора рыцарства; ты снискал великую честь перед Богом и людским светом; но уж больно ты медлишь с местью за свои обиды; и позор, учиненный твоим вассалам, падает на тебя. Ты забываешь тех, кто служил тебе верой и правдой и кто утратил свои земли, не желая признать над собою иного сюзерена.
Король зарделся от смущения, слушая эти слова. Рыцари вокруг него прервали трапезу, ожидая, что еще добавит достопочтенный муж; но коннетабль Бедивер сказал, подойдя к незнакомцу:
– Святой отец, дождитесь хотя бы, когда король выйдет из застолья. Разве вы не видите, что ваши речи омрачают пир и что благородным рыцарям никак невозможно его продолжать?
– То есть, – возразил святой отец, – вы решили не дать мне высказать то, в чем может быть великая польза для короля, чтобы иметь довольно времени набить и насытить бурдюк, в коем и лучшие яства станут нечисты и смрадны! Упаси меня Боже промедлить с оглашением того, что ему будет во благо услышать! Кто вы такой, чтобы закрыть мне рот? Или вы более храбры и уважаемы, чем Хервис Ринельский и Каэй Каорский, сенешали короля Утера, упокой Господь его душу[33]? Уж они бы не стали прерывать того, кто пришел просить о помощи!
При этих словах Хервис Ринельский сошел вниз от стола, где он прислуживал, ибо у короля Артура старые рыцари несли службу, как и молодые. Он подошел к достопочтенному мужу, распахнув объятия, и долго прижимал его к груди; затем он обратился к королю:
– Сир, верьте тому, что вам скажет этот достойный муж; ибо сердце его всегда озаряла доблесть. Это Адраген Смуглый, брат славного рыцаря Мадора с Черного острова, давний соратник нашего доброго короля Уриена.
Бедивер смутился; а когда король Артур позволил Адрагену Смуглому продолжать, старый рыцарь сказал.
– Сир, я говорю, что упрекнуть вас можно лишь в одном. Вы не взяли на себя дело короля Бана Беноикского, который умер в пути, идя к вам за подмогой. Любезная королева Элейна лишилась удела; ее сына, милейшее на свете дитя, у нее отобрали. И небрежение ваше столь преступно, что я не знаю, как вы можете смотреть добрым людям в глаза, не краснея. Что может быть постыднее, чем бросить верного вассала на милость его врагов? Я приношу вам жалобу по делу благородной королевы Беноикской, ушедшей в монастырь, дабы спасти свою честь. Ибо трепет, внушаемый королем Клодасом Пустынным, столь велик, что никому другому в той стране не достало смелости явиться сюда и напомнить о правах тех, кого он ограбил.
Артур ответил:
– Адраген, ваша жалоба верна: я знал, что король Бан умер, но по сию пору не нашел времени помочь его сыну. Мне пришлось воевать со многими могучими врагами, посягавшими на мою собственную корону. Но поверьте, я знаю, к чему обязывает звание сюзерена; и помяните мое слово, как только я смогу, я пойду за море и приду на помощь сыновьям королей Бана Беноикского и Богора Ганнского.
Засим Адраген простился и вернулся за море, спеша передать королевам то, что обещал король Артур. Но пройдет еще немало времени, прежде чем король Клодас вернет детям их наследство. На этом мы оставим Адрагена Смуглого и вновь обратимся к двум сыновьям короля Богора, заточенным в башне Ганна.
X
Владычица Озера не забыла, что говорил ей Адраген о двух сыновьях короля Богора: что они сидят в Ганнской башне взаперти. Она искала и нашла тайный способ их оттуда вызволить; и когда она узнала, что на день Магдалины Клодас собирает большой двор, празднуя годовщину воцарения, она отвела в сторонку одну девицу из своей челяди, ту, которой она доверяла.
– Сарейда, – сказала она, – поезжайте в Ганн; а оттуда вернитесь с обоими сыновьями короля Богора.
И после она научила ее проделкам[34], которые помогли бы ей исполнить наказ.
Сарейда отправилась в путь с двумя оруженосцами, ведшими на поводках двух борзых. К Третьему часу[35] она выехала из леса, и один из оруженосцев, посланный разведать, доложил ей, что король Клодас недавно уселся за стол. Верхом на породистом коне девица подъехала к воротам дворца; она велела обоим слугам ожидать ее и прошла вперед, держа борзых на серебряной смычке. Клодас восседал среди своих баронов, а напротив – его сын Дорен, наконец-то возведенный им в рыцари. По сему случаю, вопреки своему обыкновению, он рассыпал щедроты; ибо путешествие ко двору Артура дало ему ощутить все выгоды щедрости.
Внезапно в залу вошла Озерная девица. Она миновала ряды, отделявшие ее от престола Клодаса.
– Король, – промолвила она, – храни тебя Бог! Меня прислала к тебе сиятельнейшая в мире госпожа; до сего дня она ценила тебя наравне с самыми великими государями; но придется мне сказать ей, что ты даешь более поводов для порицаний, чем для похвал, и что ты и наполовину не так умен, отважен и любезен, как она мнила.
– Милости прошу, сударыня! – ответил Клодас. – Даме, пославшей вас, верно, наговорили обо мне лестного более, чем во мне есть; но если бы я знал, в чем она обманулась, я приложил бы все старания, чтобы исправиться. Скажите же мне ради того, что вам дороже всего на свете, чем я заслужил ее немилость.
– Вы меня так заклинаете, что придется мне сказать. Да, моей госпоже говорили, что никому не превзойти вас умом, добротой, учтивостью; она послала меня, дабы убедиться в истинности этих донесений; я же вижу, что этих-то трех великих добродетелей благородного мужа вам и недостает: ума, доброты и учтивости.
– Если у меня их нет, то вы совершенно верно полагаете, сударыня, что остаток будет скуден. Возможно, мне и случалось вести себя как глупцу, злодею, невеже; но я что-то этого не припомню.
П. Париса).
– Значит, надобно вам напомнить. Разве не правда, что вы держите в плену двух детей короля Богора; притом всем известно, что они никогда не чинили вам зла? Это ли не явное злодейство? Дети особо нуждаются в опеке, ласке, снисхождении; как может быть добросердечен тот, кто обходится с ними жестоко и несправедливо? И ума у вас не более, чем доброты: ибо, когда заходит речь о сыновьях короля Богора, вы наводите на мысли, что склонны сократить их дни; и за это их жалеют, а вас ненавидят. Разумно ли это – давать всем честных людям повод обвинять вас в преступном деянии? А будь у вас хоть капля учтивости, эти двое детей, превзошедшие вас родовитостью, сидели бы здесь, на первых местах, и с ними обходились бы по-королевски. Тогда бы все превозносили благородство, подвигнувшее вас растить этих сирот в чести, пока они не возмужают до обретения законного наследства.
– Боже сохрани! – воскликнул Клодас, – признаю, что до сей поры я следовал дурному совету, но отныне все изменится к лучшему. Ступайте-ка, мой коннетабль, к обоим сыновьям короля Богора и приведите их сюда вместе с наставниками, да придайте им свиту из рыцарей, пажей и слуг. Я хочу, чтобы с ними обошлись, как с королевичами.
Коннетабль повиновался; он появился в каморке у обоих детей, когда они еще пребывали в волнении от превеликой смуты, учиненной Лионелем. Лионель был сущее дитя, самое неуемное, каких только видывал свет; недаром ведь и Галеот, доблестный правитель Дальних островов, назвал его Необузданное сердце в тот день, когда его посвятили в рыцари[36].
Накануне оба брата, сидя за ужином, ели с отменным аппетитом и, по обыкновению, из одной миски, как вдруг Лионель метнул взгляд на Фарьена, своего наставника, и увидел, как тот отвернулся, скрывая слезы.
– Что с вами, дорогой учитель, почему вы плачете? – спросил он.
– Не волнуйтесь, – ответил Фарьен, – ни к чему об этом говорить.
– А я все же хочу знать и прошу вас как верноподданного сказать мне.
– Ради Бога, – сказал Фарьен, – не вынуждайте меня говорить о том, что вас только огорчит.
– Ах, так! Я не буду есть, пока не узнаю.
– Что ж, я вам скажу: я думал о былом величии вашего рода; о тюрьме, в которую вы заточены; о большом сборе двора, созываемом сегодня там, где вам пристало бы созывать свой.
– Кто это посмел созывать свой двор там, где положено быть моему?
– Это король Клодас Пустынный; он ныне правит в этом городе, главнейшем из вашего наследия. Сегодня он посвятил в рыцари своего сына, и для меня великое горе – видеть, как унижен именитый род, к коему Господь до сего времени так благоволил.
Слушая Фарьена, юнец почувствовал, как сердце его возбухает; он ударил ногой по столу, опрокинул его и поднялся с багровыми глазами, с пылающим лицом, как будто щеки его насквозь прожигала кровь. Чтобы унять свою боль, он вышел из каморки, поднялся наверх и, облокотясь, приник к оконцу с видом на луга. Вскоре к нему подошел Фарьен:
– Сир, ради Бога, скажите, что с вами; зачем так покидать нас? Вернитесь за стол, вам нужно поесть; хотя бы сделайте вид ради вашего брата, ведь он один не прикоснется к миске.
– Нет, оставьте меня, я не голоден.
– Ладно же, тогда и мы не станем есть.
– Вот еще! Разве вы не мои люди – мой брат, его наставник и вы? Я хочу, чтобы вы вернулись за стол, а сам я есть не буду, пока не исполню то, что задумал.
– Скажите мне, что вы задумали; вы должны довериться тем, кто может подать вам совет.
– Не скажу.
– Ну, так я ухожу с вашей службы; с того дня, как вы перестали просить у нас совета, от нас проку нет.
Фарьен отступил на шаг назад, и Лионель, нежно его любивший, воскликнул:
– Э! Учитель, не покидайте меня: я без вас умру; я вам все скажу. Я не хочу садиться за стол, пока не отомщу этому королю Клодасу.
– И как вы надеетесь это исполнить?
– Я вызову его поговорить со мной, а когда он придет, я его убью.
– А когда вы его убьете, что потом?
– Разве люди этой страны не мои подданные? Они придут мне на помощь, а если не придут, со мною будет милость Божья, ведь Он заступник правого дела. И смерть окажется во благо, если я приму ее, отстаивая мое право! Не лучше ли с честью умереть, чем уступить кому-то свое наследство? Разве это не облегчит мою душу; а тот, кто лишает наследства королевского сына, не отнимает ли у него нечто большее, чем жизнь?
– Нет уж, дорогой сир, – отвечал Фарьен, – не делайте этого: так вы потеряете жизнь прежде того, кого вознамерились убить. Подождите, пока вы возмужаете; тогда у вас будут друзья, защитники вашего права.
И столько уговаривал его Фарьен, что Лионель согласился отложить свои мстительные замыслы до лучших времен.
– Только сделайте так, – сказал он, – чтобы я не видел ни Клодаса, ни его сына; при них я не сумею сдержаться.
Он лег в постель, а Фарьен не мог уснуть, зная, что ничто не может отвратить Лионеля от его намерения. Назавтра наставнику вновь пришлось прибегнуть к уговорам, чтобы убедить обоих братьев не изнурять себя постом. Они сидели за столом, когда прибыл коннетабль короля Клодаса. Как благородный и учтивый рыцарь, он преклонил колени перед Лионелем и промолвил:
– Сир, вас приветствует монсеньор король. Он призывает и просит вас с братом и с вашими наставниками прибыть ко двору; он намерен принять вас, как подобает королевским сыновьям.
– Иду! – тотчас воскликнул Лионель, встав и просияв от радости. – Дорогой учитель, уделите время этим благородным сеньорам, пока я отлучусь ненадолго в соседнюю комнату.
Он выбежал, позвал камергера и потребовал у него богато отделанный нож, подаренный ему для забавы. Пока он прятал его под платье, Фарьен, обеспокоенный тем, что он затеял, вошел, увидел клинок и выхватил у него из рук.
– Если так, – сказал Лионель, – я отсюда не выйду; я вижу, вы ненавидите меня, раз отбираете мое имущество, мою грядущую радость.
– Но, сир, – возразил Фарьен, – вы хорошо подумали? Зачем вы хотите взять с собою это оружие? Дайте его мне, я сумею его спрятать лучше вас.
– А вы отдадите мне его, когда я потребую?
– Да, если вы употребите его только по моему совету.
– Я не намерен делать ничего зазорного и ничего, что обернулось бы вам во вред.
– Вы обещаете?
– Послушайте-ка, дорогой учитель: нож у вас, вот и храните его; может быть, вам он пригодится больше, чем мне.
XI
Они вернулись в залу и вскоре пустились в путь; дети верхом на двух рысистых лошадях, их наставники позади на крупах. При их приближении все придворные вышли поглядеть на них. На них взирали с любопытством, плакали, молили Бога вернуть им когда-нибудь их владения; оруженосцы старались наперебой, помогая им сойти на землю. Они взошли по ступеням, держась за руки. Среди рыцарей короля Клодаса немало было тех, кто прежде служил королям Ганна и Беноика и теперь не без опаски провожал глазами прекрасных отроков, подвластных королю Пустынной земли. Лионель выступал, подняв голову, гордо оглядывая залу, как юный отпрыск высокого и знатного рода.
Клодас же восседал под балдахином на богато украшенном троне. На нем было то самое платье, в котором его венчали на Буржский престол. Перед ним на серебряном поставце сияла королевская корона, а на другом, подобном канделябру[37],– ясный и разящий меч и золотой скипетр, усеянный драгоценными камнями.
Он любезно принял сыновей короля Богора и, казалось, был особо поражен благородным видом Лионеля. Он сделал ему знак подойти; отрок стал рядом с мечом и короной. Дабы оказать ему честь, король протянул ему свой кубок, предлагая испить из него. Но Лионель будто не слышал: он не отводил глаз от дивно сияющего меча. «Вот будет удача тому, – думал он, – кто сможет ударить этим мечом!». Клодасу подумалось, что одна лишь робость не дает ему принять кубок; и в этот самый миг к детям подошла Озерная девица и сжала руками щеки Лионеля:
– Пейте, милый королевич, и положитесь на меня!
С этим словами она надела на головы обоим детям венки из душистых цветов, а на шеи пристегнула золотые пряжки, украшенные самоцветами.
– А теперь, – сказала она Лионелю, – пейте, милый королевич.
– Да, но за это вино заплатит другой.
И вот они оба во власти буйного упоения; ибо чары цветов, сила камней пронзают их неутолимым пылом. Лионель хватает кубок.
– Разбей его о землю, брат, – говорит Богор.
Лионель поднимает кубок обеими руками и ударяет Клодаса в лицо со всею силой, и бьет, и бьет его по глазам, по носу, по губам. Осколком кубка он рассекает ему лоб, а после, притянув к себе оба канделябра, опрокидывает скипетр и меч, бросает на пол корону и топчет ее ногами, так что камни брызжут из нее. И тотчас дворец наполняется криками, все бегут из-за стола, одни – чтобы схватить детей, другие – чтобы их защитить.
Король обмяк и сполз со своего престола, залитый кровью и вином. Дорен ринулся отомстить за него; Лионель ухватился за меч, а Богор с большим скипетром в руке подоспел ему на помощь. Когда бы не сочувствие, питаемое к детям многими из собравшихся рыцарей, от их отваги было бы мало толку; вот уже их можно брать без боя, обессиленных и усталых, а Клодас, придя в себя, поклялся, что они от него не уйдут. Тогда Сарейда, благоразумная девица, повлекла их к дверям; Дорен погнался за ними. Лионель обернулся, собрал весь остаток сил и обеими руками ударил его своим разящим мечом. Дорен хотел было отразить удар левой рукой, но клинок отсек ему руку, прошелся по щеке и раскроил горло; а Богор, подняв добытый скипетр, проломил ему зияющую рану во лбу. Дорен упал, издал последний вопль и умер. Тут уж и грома Господнего было бы не услыхать. Клодас напустился на детей; Сарейда вовремя припомнила наставления Владычицы Озера, произнесла некое слово, и силою заклятия дети приняли облик двух борзых, а борзые – двух детей. Ослепленный яростью, Клодас замахнулся мечом; Сарейда метнулась вперед и прикрыла детей, отчего стальное острие задело ее и рассекло лицо над правым глазом. Бровь ее навеки сохранила этот шрам. При виде крови, заливающей лицо, она испугалась и воскликнула:
– Ах! Король Клодас, я уже сильно жалею, что явилась к вашему двору; что вам сделали эти красавцы борзые, которые со мною?
Клодас смотрит и не видит перед собой никого, кроме борзых. Мнится ему, что от него убегают дети; он гонится за ними, настигает, заносит острый меч, но тот ударяет о дверной брус и разлетается в куски. «Слава Богу! – сказал он тут сам себе, – оружие мое разбилось прежде, чем коснулось детей короля Богора Ганнского. У меня при дворе ни одна душа не оправдала бы меня, если бы я убил их. Они умрут, но после приговора суда, чтобы никто не мог меня упрекнуть». Потом, отбросив обломок меча, он схватил обоих детей и отдал их под стражу самым верным своим слугам.
И если король Клодас скорбел о своем сыне, то и два наставника, Фарьен и Ламбег, горевали ничуть не менее. Они были уверены, что оба их юных сеньора попали во вражьи руки, и не сомневались, что их обрекут на смерть. Но тут пора вернуться к Озерной девице.
XII
Сарейду не особо занимала ее рана, как бы глубока она ни была. Она обернула себе лицо широкой перевязью и вернулась к оруженосцам, стоявшим у ворот Ганна. Двое детей, все еще в облике борзых собак, шли за нею. Но перед тем как вступить в лес, где ее ждали оруженосцы, она сняла чары, и Лионель с Богором вновь предстали такими, какими и были на самом деле.
Сарейда удостоилась похвалы Владычицы Озера, к которой она привела обоих детей. В час ее прибытия Ланселот был на охоте, а когда вернулся, Владычица Озера его осведомила, что нашла для него двух славных друзей. Он взглянул на них, протянул им руку и почувствовал к ним живейшую приязнь. С первого же дня все трое стали есть из одной миски и спать на одном ложе.
XIII
Клодас между тем отдавал последние почести праху своего сына. Он причитал над ним долго и горестно, не подозревая о новой грозе, которая собиралась над ним.
Весь город Ганн был не на шутку растревожен, узнав, что оба сына их законного сеньора схвачены и предстанут перед судом баронов Пустынной земли. Рыцари Ганна и городские жители взялись за оружие, а Фарьен, лишь только вернулся в башню со своим племянником Ламбегом, непримиримым врагом Клодаса, созвал всех своих друзей, чтобы держать с ними совет. Все они поклялись умереть, но не дать Клодасу погубить детей. Башня была в их руках; они заперли выходы из нее и запаслись провизией. Когда они узнали, что Клодас созывает воинство Пустынной земли, боясь грядущего бунта Ганнских горожан, они его упредили и взяли в осаду в собственном дворце.
– У нас, – говорил Фарьен, – народу больше, чем может собрать король Клодас. Право на нашей стороне, ведь дело идет о жизни наших сеньоров; защищая их, мы обретем и честь земную, и награду небесную; ибо долг велит идти на верную смерть, спасая жизнь законного властелина. Погибнуть за него – все равно что погибнуть в бою с Сарацинами.