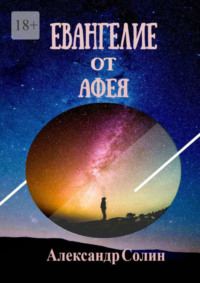Полная версия
Аккорд-2
Она спрятала глаза и сообщила, что начиталась неприличных женских книжек и насмотрелась у Верки по видику (опять Верка, опять запах гари!). А про антиоргазмы в книжке прочитала. Если хочешь, можем попробовать. Это просто: я буду выдумывать, как изменяла, а ты за это будешь меня мучить.
До чего же ее объяснения расходятся с моими наблюдениями! Мне бы надо верить себе, а я верю ей. Видно, таков мой удел – верить и любить. А что мне остается? Так уж повелось: некрасивые женщины – богу, а красивые – миру. Раз не поселился у нее под дверью я, там вполне мог поселиться кто-то другой.
Она уткнулась в меня и затихла, и я предупредил ее, что когда она в следующий раз меня бросит, я докажу ей, что балкон – это не пустая угроза, а трамплин в пучину угрызений ее совести.
– Да, да, я поняла, – потерлась она щекой о мое плечо. – А знаешь, о чем я мечтала?
– О чем?
– Чтобы ты меня обнюхал…
Не удивительно: о том же самом мечтал и я. Вдыхая запах ворованных папирусов, мечтал об Александрийской библиотеке. Исполнив с давно забытым усердием нашу общую мечту, я подобрался к дорогому лицу и заглянул в глаза.
– Песик мой долгожданный, лизунчик мой ненаглядный, как же я истосковалась по тебе, любимому! – влажно мерцали ее глаза. И далее с иронией: – Ну, и как тебе мой гербарий?
– Свеж, как никогда! – не моргнув глазом, объявил я.
Слава богу, папирусом там и не пахло, зато сквозь ровный душистый фон кремов и духов, сквозь узнаваемое, незабываемое, родное тепло пробивался словно тихий шорох сквозь уличный шум тонкий запах цветущей рябины. К этому времени за мной числился долг, и я бы с превеликой охотой отдал его оглушенной счастьем Лине, если бы не память о ее родовых и послеродовых муках. Только сдается мне, за меня уже все решили: когда полчаса назад мы после неистовых сетований упали на диван, и я распростер над ней заботливые крылья, она обхватила меня руками и ногами и удержала коротким и решительным «До конца!». Получается, она свой выбор сделала: решила долг взыскать и тем погасить дебетовую задолженность. Да будет так.
В дальнейшем она впитывала мои жемчужные выплески с тем же шипучим рвением, с каким морской песок поглощает мерцающее серебро ночной волны. И была ночь ночей, озаренная тихим светом луны и колдовским сиянием ее глаз, и величавая как при сотворении мира тишина, и беззвучный, ослепительный взрыв, ставший, как я понимаю, началом новой жизни.
41
Чтобы двинуться в будущее, следовало реабилитировать прошлое, и я, подбирая и подвязывая оборванные нити, принялся восстанавливать ткань времени, то есть, чинить дырявое облачение нашей совместной жизни. На удивление неохотно в этом участвуя, Лина нет-нет, да и роняла:
– Прости меня, Юрочка, ради бога…
– За что?! – с яростной нежностью сжимал я ее.
– За все… – многозначительно вздыхала она.
– Это был сон, это был плохой сон! – тискал я ее, словно желая выдавить из тюбика ее памяти пасту плохих воспоминаний.
– Нет, Юрочка, не сон… – грустно улыбалась она, и я, изгоняя злого духа далекой измены, говорил ей, что это были не мы, а наши далекие двойники. Утверждал, что с тех пор стал новым наш скелет, наши мышцы и кишечник, что пятнадцать раз сменились наши легкие, десятки раз обновлялись кожа, ногти, волосы и кровь, что сменились пятнадцать поколений печени, а от желудка и вовсе остались одни воспоминания, что очистилась душа и стала милосердной память. Всё изменилось, кроме наших сердец: они как любили, так и любят. Лина соглашалась, но в былое возвращалась без особой охоты, а в будущее смотрела без должного рвения. В ее поведении не было благодарного выдоха, беспечного глаза, долгожданного облегчения, а было что-то истеричное и временное. Так поглядывая на часы, тешится с любовником неверная жена.
После энергичной трехдневной разминки она с бесшабашной удалью провозгласила: «Хочу быть бесстыжей!» и заставила побрить ей лобок. Я подчинился и дословно воспроизвел сцену в ванной: оголил и обласкал жемчужный рубец, после чего подарил ей оглушительный, как гром и многократный, как эхо оргазм. Утомленно разогнувшись, она повернулась ко мне – глаза ее сияли. Я залюбовался ею: узкие сахарные плечи и бедра, плавные карамельные обводы и сопряжения – она была все также хороша. Разумеется, время не обошло ее стороной – поблекла светозарная девичья свежесть, а хрупкое изящество слегка отяжелело, но мой затуманенный нежностью взгляд видел перед собой все те же пропорции и все ту же хмельную красоту. Истинная красота не вянет – она сосредотачивается. Взяв мою разомлевшую красавицу на руки, я принес ее в спальню, уложил на кровать, лег рядом и просунул ей под голову руку. Она уткнулась носом мне под мышку и так лежала с минуту. Отстранившись, с тихим наслаждением произнесла:
– Ах, какая прелесть…
Устроившись поудобнее, сказала:
– Помню, Верка купила видик, а потом дня через три звонит и взахлеб – приезжай, я тебе такое покажу! Я приехала, и она поставила один из этих ужасных фильмов. Я сижу, смотрю и не знаю, куда от стыда деваться. Вот ведь интересно: когда сама делаешь – не стыдно, а когда смотришь, как делают другие – провалиться хочется. Странно, да? Ну вот. И Верка говорит: «Вот мы с тобой две дуры – столько прожили, а ничего не знаем!» И я стала смотреть дальше и представляла нас. Думала, будь у нас как раньше – все бы тебе разрешила, все бы себе позволила! Можно сказать, бог меня услышал…
Потянувшись к тумбочке, она подхватила с нее книгу и с бесстыдной грацией раскинулась у меня под боком:
– Смотри, что я у Верки взяла!
Это оказалась современно иллюстрированная Камасутра.
– Ты посмотри, что люди напридумывали! – водрузив учебник любви на голую грудь, хохотнула она. – А тут, а тут! Нет, ты только полюбуйся! – ткнула она в офицерскую позу. – А хочешь, я в чулках тебе покажусь?
– Можно сказать, мечтаю! – тут же согласился я.
– Тогда закрой глаза и не подглядывай!
Я зажмурился, и она покинула кровать. Из слепой тишины выкатился ящик комода и почти тут же вернулся на место. Прошуршал целлофан и скрипнуло кресло, в которое она опустилась. С легким гладким шелестом расправились чулки. Два бесшумных шага в сторону – скрипнул шкаф, упала с глухим стуком на ковер коробка. Последовало невнятное перестукивание, и затем я услышал: «Открывай!»
Скроенная по лекалам золотого сечения, она стояла передо мной, смущенно улыбаясь – обескураживающе бесстыдная, неправдоподобно соблазнительная и обольстительно порочная. Ажурные, прозрачно-черные, оттенявшие матовую белизну чулки потрясали до немоты, циркульный раствор подшпиленных ног ввергал в высокий трепет. Не женщина – афродизиак!
– Вот… Специально купила… – заведя руки за спину и подавшись ко мне голым лобком, смущенно смотрела она на меня. Задохнувшись восхищением, я скатился с кровати, подхватил ее и пошел с ней по комнате.
– Ты моя неземная, моя заоблачная, моя божественная, моя прелестная, моя дивная, моя вечно юная девчонка! – бормотал я. Она обхватила меня за шею, и я слился с ней долгим, затейливым поцелуем. Оторвавшись, уложил на кровать, скинул с нее туфли и пустился в затяжное путешествие по вверенному мне телу. Начав с высоких легких ступней, я с болезненным обожанием обследовал изящные изгибы капронового целомудрия, покинул их, добрался до девичьих, так и не повзрослевших бедер и припал к ним. Лина вздрагивала, цеплялась за меня гибкими пальцами и лепетала:
– Сладкоежка мой сладенький шоколадик шоколадненький…
Когда же я приготовился распластаться на ней, она остановила меня:
– Нет, хочу как в книжке!
И вскинув ноги, уложила их мне на плечи:
– Правда же они еще красивые?
– Сладость моя, других таких нет! – оглаживал и целовал я их.
– А теперь покажи, как ты меня любишь! – вдоволь насладившись моим восхищением, дала она старт ошеломительному забегу.
И мы побежали. Это был первый раз, когда я с уверенностью мог сказать, что пытался втиснуться в непролазный лаз ее родильного отделения. Неизведанные закоулки отзывались неведомыми ощущениями, и я с наслаждением вглядывался во влажно-розовое, перекошенное жалобным восторгом лицо с кипящими слезной, невыразимой мукой глазами. Когда жалобно стонущая стихия стихла, она спряталась у меня на груди и пробормотала:
– Это было что-то запредельное… Как будто ты к моей смерти прикасался…
Отдохнув, она захотела побрить меня и деловито объявила: «Ты, конечно, догадываешься, что я после этого сделаю!», и я покраснел вместо нее.
– Не волнуйся, я знаю, как этим пользоваться. Я себя уже брила. Просто так, из любопытства, – говорила она, раскладывая бритвенные принадлежности.
Я встал перед ней, и она, опустившись на колени и оглядев мои кущи, заключила:
– Тут без ножниц не обойтись.
Щелк, щелк, щелк – складывали белые пальчики на полотенце черные завитки моих зарослей.
– А теперь пенка… – отложила она ножницы. – О, какой ты забавный! Как подосиновик на снегу! Так, а теперь отодвинем наш любимый грибочек и начнем… Вот так, вот так и вот та-ак… – сгребала она к подножью моего обелиска снежную пену и смывала ее под краном. – Не больно?
Наливаясь тугой распирающей силой и не зная, куда девать глаза, я мотнул головой. Простая на вид процедура оказалась не так проста, и чтобы освободить мой моховик ото мха потребовались время и терпение. Лина приседала, разводила колени, вставала на них, откидывалась на пятки, причудливо изворачивалась, только ведь совершенная конструкция, как ее ни сложи, все равно останется совершенной. Ее сорочка то натягивалась, то распускалась, то опадала, то съезжала к бедрам до мерцающего меж ног откровения. Я как мог терпел, а она бормотала и быстро целовала меня в самое сердце, так что к концу мыльной оперы гриб превратился в звенящую кость. Она обтерла место операции влажной салфеткой, отстранилась и, разложив на краю ванны полотенце, велела на него сесть и развести ноги. Забравшись меж них, ревниво сказала:
– Тебе, конечно, это уже делали…
– Нет, нет, что ты! – замотал я головой.
– Даже если делали, ты ведь все равно не скажешь…
Прикрывшись золотистой россыпью волос, она прикоснулась ко мне электрическими губами и влажной щекоткой быстро и незаметно довела до агонии. Вцепившись в ее волосы и сотрясаемый неукротимой судорогой болезненного восторга, я выталкивал из себя похожий на икоту стон. Она выдоила из меня остатки сгущенки и уселась на мохнатый коврик у меня под ногами.
– Какой-то странный лиловый привкус… Даже не пойму, чем отдает… – облизываясь и причмокивая, сообщила она. – Надо же – первый раз за двадцать лет… А я ведь давно уже хотела… Еще в восемьдесят шестом… И потом много раз… Ну и почему ты мне не разрешал?
– Потому что всегда заботился о твоей чистоте… – пошевелил я бессильными губами.
– А я о твоем удовольствии!
– Это вещи несовместимые…
– Для кого как…
– Господи, знал бы наш сын, чем его родители занимаются! – простонал я.
– Любовью, Юрочка, занимаются, любовью! Не знаю как ты меня, а я тебя люблю до сердечной судороги, до смертельной ревности, до рыдающего самозабвения! Дай бог, чтобы нашего Костика так любили! – встав на колени и неудобно обхватив, прижалась она ко мне, обмякшему. И вдруг вскинув лицо, скорчила смущенную гримаску: – А я тебя нечаянно проглотила… И что теперь будет?
– Ребенок будет… – с нежностью погладил я ее.
– А я не против, – мечтательно произнесла она. – А ты? Ты хотел бы ребенка?
– Очень! Только тебе уже поздно.
– Почему поздно? Тетки и в пятьдесят рожают!
– То тетки, а ты не должна мучиться. Ладно, ты лучше скажи, как тебе это безобразие – неужели понравилось?
– Главное, чтобы понравилось тебе… – уклонилась она.
– Мне понравилось, но ты больше не будешь этого делать, – постановил я.
– Как не буду, как не буду?! – заверещала она.
– Не будешь, и все! – отрезал я и, подхватив ее на руки, покинул ванную и пошел с ней по квартире. Слишком легкий снаряд для укрепления мышц, она затихла, обхватила меня за шею и пристроила голову на плечо. Я принес ее в спальню и уложил на кровать.
– Я от тебя возбудилась, – томно сообщила она. – Поцелуй меня… Можешь даже укусить до крови… Чтобы было, как в первый раз… Только тогда полотенце подстели…
Каким всеблагим и всеохватным бывает нагое тонкорукое, длинноногое счастье! И тут самое время напомнить, что это говорит вам человек, из которого пятнадцать лет вытравливали все человеческое. До чего же любовь и ее подголоски живучи, если оттаяв после пятнадцатилетнего анабиоза, они не только не потеряли голос, но стали еще звонче! Объяснение здесь только одно: любовь, также как слух, интеллигентность и совесть – свойства врожденные. Они либо рождаются и умирают вместе с человеком, либо вместо них – оптический обман. Исключив из меню кровь и переживая навсегда, кажется, убитое и не поддающееся воскрешению молитвенное умиление, я поцеловал ее бледный, бархатный, поделенный надвое бугорок. Воистину нет наслаждения слаще, чем разворошить его тонкогубые лепестки – смеженные вежды моего вожделения!
42
Оказалось, что бесстыдство и любовь прекрасно ладят друг с другом. Надо только помнить, что вкушая запретные плоды, важно не набить оскомину. Преступив запретную черту, мы с пугающей полнотой и точностью принялись воплощать ее навязчивый замысел. В Лину словно вселился сладкий бес. И если в ее рассказе о важном женихе она была на вторых ролях, то со мной – самым что ни есть главным режиссером. Не я совращал ее – она меня. Ставила задачу, возбуждала воображение, задавала тон и дистанцию, а я, подчиняясь ее просвещенному рвению, пытался понять, следует ли она видеоинструкциям или повторяет пройденное. И что я, по-вашему, должен был думать, участвуя в следующей мизансцене: встав передо мной на колени, она по лесенке поцелуев спускалась к моим трусам и, усевшись на меня задом наперед, медленно их снимала. По мере того как они съезжали к щиколоткам ее лунный круп восходил в зенит, пока не заслонял собой белый свет. Подавшись вперед, я припадал к разом обмелевшей борозде, а ей это только и надо было: она падала лицом на мои бедра, и через секунду я, искушенный кобель, оказывался в позиции шесть на девять. «Мы сошли с ума!» – разбросав колени и напрягая шею, утопал я губами в теплом и влажном, как облако, стыде.
Или вот еще: улегшись на спину и сведя ноги, она закрывала лицо ладонями, а грудь – локтями. Это называлось у нее поиграть в первый раз. Видя в ее притворстве попытку подправить драматургию самой ранней, скандальной поры наших отношений, я охотно ей подыгрывал: зацеловывал лунные кисти и все что ниже – вплоть до мраморных ступней. Войдя в роль дефлоратора, вдыхал целомудренную дрожь в молочные бедра, бережно раздвигал непонятливые ноги и, обласкав пугливое лоно, деликатно проникал в него. В ответ она удивленно вскрикивала, а после правдоподобно и жалобно стонала. В конце отнимала от лица руки и, глядя на меня с довольной улыбкой, тянулась ко мне губами. Памятуя опыт Софи, я поначалу считал, что таким театральным образом она тщится закрыть застарелый и, по сути, уже безобидный гештальт, если бы последующие события не обнаружили в ее лицедействе основания по-настоящему прискорбные.
В чулках она охальничала: усевшись в мое седло, выставляла себя напоказ, ворочала бедрами и, кривя смешливые губы, наслаждалась моими гримасами. То откидываясь, то упираясь в мою грудь, она постепенно разгонялась, глаза ее закатывались, голова запрокидывалась, неистовые бедра и стонущее дыхание частили. Уняв зуд, валилась на мои губы, а передохнув, шла на новый круг. И так до тех пор, пока не загоняла меня в судорожный тупик. После приподнималась и с невинной улыбкой наблюдала, как из нее на мой живот вытекают то, чем я ее наделил. Затем ложилась на лужу, ерзала по ней животом и говорила: «Все, теперь я приклеилась, и мы будем жить как сиамские близнецы!..»
Она разом отменила мою пуританскую философию и навязала свою, очень простую и ясную: смелость, которую женщина позволяет себе за деньги и которую позволяет по любви, с виду похожи, как две капли воды. Вся разница в химическом составе: в первом случае это мертвая вода, во втором – живая. «Я так тебя люблю, что готова вывернуться наизнанку!» – говорила после очередного извращения женщина, чье целомудрие я холил и лелеял даже в скотские времена. Ее навязчивое рвение выворачивало наизнанку далеко небезобидные вещи, а живая вода любви одухотворяла откровенную вульгарность. Да разве глядя на ее строгую, благородную красоту, можно было поверить, что в свободное от работы время она занимается совращением бывшего и будущего мужа?
В ее пропахшей духами прикроватной тумбочке поселился силиконовый фаллос, с чьим немилосердным усердием она меня вскоре познакомила. Ей, видите ли, было важно, чтобы я орлом испытал то, что испытывает решкой она. Как оказалось, помимо когнитивных у нее были и другие резоны. Помню как я, заливаясь краской, впервые в жизни оказался в роли принимающего. Меня корежило от боли, стыда и негодования, я корчился, рычал, царапал простыню, хватал распяленным ртом воздух и хрипел «Хватит!», а она с неожиданной сноровкой и мстительным прищуром мучила меня. До тех пор пока я, перехватив у нее игрушку, не убежал в туалет. Вернувшись, осыпал ее упреками.
– Это тебе за нашу первую ночь, – был ответ.
Ладно, в расчете, согласился я и поинтересовался, откуда игрушка. Из квартиры на Чистопрудном, где она регулярно удовлетворяла себя на ночь глядя, сообщила она. А что делать – хоть плачь, хоть мужика заводи! И ведь пыталась. Два раза. Но дальше первого свидания сердце заходить отказывалось. «Это ты его заколдовал!» – пряча глаза, призналась она.
На следующий день она вновь подвергла меня экзекуции, и если я упоминаю об этом, то лишь затем, чтобы возмущенным словом осветить кривизну произошедшей в ней перемены. Расчетливо и жестоко унизив меня, она сказала: «Это тебе за твою секретаршу!» – а когда я вместо того, чтобы растерзать, пощадил ее, разочарованно обронила:
– Ты даже разозлиться как следует не можешь!
Нет, вы только послушайте: оказывается, она надеялась, что я, разозлившись, укушу ее до крови, изнасилую, и она испытает эти ее чертовы антиоргазмы! Впору развести в замешательстве руками и воскликнуть: «Как же так – ушла благонравной домохозяйкой, а вернулась законченной нимфоманкой!» Мне ничего не оставалось, как отнести ее ненасытное бесстыдство на счет долгого воздержания.
Однажды она уселась на меня и вместо того чтобы пуститься вскачь, сказала:
– Я сейчас покажу тебе кое-что новенькое. Помпур называется.
– Как, как? – не понял я.
– Пом-пур! – повторила она тоном выше. – Делается мышцами влагалища. Целая наука. Из гаремов к нам пришла. Я на игрушке специально для тебя тренировалась…
– И что я должен делать?
– Ничего. Просто закрой глаза и наслаждайся.
Я закрыл глаза и приготовился наслаждаться. После короткой паузы последовала череда разной силы потискиваний.
– Чувствуешь? – испытующе смотрела на меня Лина.
– Чувствую, – отозвался я.
– Где чувствуешь?
– Э-э… у самого корня.
– А сейчас где? – подтянула и распустила она живот.
– Там же.
– А должно быть посередине. А сейчас? – заходил ходуном ее живот.
– Извини, моя любимая одалиска, но все там же…
– А я метила в помпончик… Подожди, давай еще!
Она уперлась руками в мою грудь, прогнула спину и от внутреннего усилия даже сморщилась.
– Ну? – с надеждой смотрела она на меня.
Я мог соврать, но не стал.
– Там же, но очень, очень приятно!
– Значит, не получается. Жаль, – огорчилась она и собралась меня покинуть.
– Не уходи, поупражняйся еще! – попытался я ее удержать.
– На султанах не упражняются… – покинула она меня, явно расстроенная.
Подчиняясь ее прихотям и сдавая, а точнее, осваивая одну позицию за другой, я всячески противился взлому ее ануса, к чему она меня неоднократно склоняла.
– Нет, нет и нет! – вспоминая Люси, категорически возражал я.
– Ну мы только попробуем! Не надо далеко! Зайди чуть-чуть, и все! – упрашивала она.
– Господи, зачем тебе это?! – смущенный ее одержимостью, спрашивал я.
Один раз она ответила: хочу знать, каково это. В другой раз сообщила, что дала себе слово обязательно это сделать, когда мы снова будем вместе. В третий раз заявила, что хочет чувствовать меня везде. В четвертый обронила: считай, что замаливаю грех. Когда же она в очередной раз объявила, что ищет унижения, я потерял терпение и посоветовал:
– Если это тебе так важно, возьми игрушку и унизь себя сама!
– Нет, это должна быть твоя игрушка! – горячилась она. – Ну, прошу тебя, ну, пожалуйста!
Видимо устав уговаривать, она однажды встала на колени и, сунув мне крем, велела: «Делай». Вы же знаете – если женщина вбила себе что-то в голову, то освободить ее от этого может либо новый каприз, либо исполнение желания, либо эшафот. Я сделал все, чтобы умыть руки. Сперва попросил анус опомниться. Напомнил, что он последний оплот и хранитель нашего семейного целомудрия. В ответ мне возразили, что целомудрие хранится не в заднице, а в сердце. Тогда я предупредил, что ему, такому маленькому и нежному, будет так больно, так больно! В ответ услышал категоричное: «И не надо меня жалеть!». Тогда я, облагораживая его унижение, зацеловал круп, и чтобы отвлечь от него внимание сосредоточился на розовом сечении. В ответ меня одернули: «Не отвлекайся!» И тогда я, скрепя сердце, кремировал трут и трутовище (именно так, ибо с точки зрения русского языка у живого crème больше оснований кремировать, чем у мертвого cremare) и, удерживая пугливые бедра, проник в них на полвершка. Ягодицы Лины поджались, спина по-кошачьи выгнулась – того и гляди зашипит! – и она резко втянула воздух. Я предпринял вторую попытку – снова тот же звук. Утопив себя на вершок, я спросил:
– Чувствуешь меня?
– Да, – с натугой ответила она.
– Еще?
– Как хочешь, – выдавила она сквозь зубы.
На память пришло жестокое наслаждение, с каким я унизил Люси, и мне вдруг захотелось преподать урок этой одержимой бесами женщине, с тем, чтобы навсегда отбить у нее охоту к сомнительным удовольствиям. Сопроводив короткие моральные колебания колебаниями физическими, я вдруг устыдился и покинул ее. Она с неожиданной прытью вскочила и унеслась, как я понял, в туалет. Вернувшись, легла ко мне спиной. Я обнял ее:
– Глупая… Больно было?
– Зря ты меня пожалел… – тихо сказала она. И вдруг раздраженно: – Ну, что лежишь? Иди, мойся!
Когда я вернулся, она лежала в том же положении. Я пристроился рядом и снова обнял.
– Неужели тебе не противно? – враждебно отстранилась она.
В ответ я обхватил ее и прижал к груди.
– Прости. Я ведь понимаю, что это отвратительно, но здесь другое… – услышал я, но вместо того чтобы объясниться, она велела: – Раз уж ты такой добренький, доведи дело до конца. Только по-человечески…
И снова встала на колени. Я слился с ней, и она, опершись на локти, спрятала лицо в ладонях. Пошлепывая бедрами, я оглаживал ее круп, бока и спину, а она исправно и придушено стонала. Затем вырвалась, легла на бок, подогнула ногу и, сложив ладошки, подложила их под щеку. Я продолжил. Стоны ее обрели распевность. Я поймал кураж, и она, задрав ногу, застонала в лад моим толчкам. Потом без спросу растянулась на животе и отставила зад. Раздвинув перламутровые створки, я проник в ее темные аллеи и стал разгуливать там твердым размашистым шагом. Свернув голову и закатив глаза, Лина жалобно ахала и мяла подушку. Я добавил жару – она тоненько завыла и захотела перевернуться на спину. Я ей помог. Она притянула меня к себе, и мы слились в неистовом поцелуе, после чего я закинул ей за голову руки, придавил и, надсадно дыша, завершил мой дровосеков труд. Придя в себя, она в очередной раз повторила: «Ты самый лучший!», после чего прижалась ко мне и быстро уснула. Вы спросите, что это было? Сублимация вины, вот что.
Отдыхая однажды после очередного упражнения, я не удержался и заметил, что медленно и верно превращаюсь в героя ее рассказа.
– Нет, Юрочка, ты никогда им не будешь, потому что во влюбленном мужчине нет похоти. И не надо, не старайся, а то я почувствую себя проституткой. А я всего-навсего хочу быть твоей благодарной любовницей! – бархатисто переливался ее голос.
Несколько вечеров после этого она вела себя вполне пристойно, довольствуясь, чем бог послал. К этому времени я уже превратился в крепкого универсала, за что был прозван ею Юрием Цезарем. Пережив буйное помешательство, она падала на спину и подставляла мне губы, а я, склонясь над ней и бережно их посасывая, рукой утешал обмякшее тело. Купаясь в моей реликтовой нежности, она закатывала глаза и млела.
Кстати говоря, именно в одну из таких минут я с дотошностью мемуариста представил себе мой мужской путь – от первых смущенных опытов до нынешнего окаянного непотребства. Путь от новобранца до полководца. И то что я не застрял в лейтенантах – заслуга моих женщин. Если бы не их алчущая взыскательность, я бы так и довольствовался петушиными оргазмами, суммарная продолжительность которых к тому времени тянула уже на часы, как тянет на годы наш совокупный сон. Это теперь я знаю, что женский оргазм рудиментарен и для оплодотворения не нужен. Подтверждение тому – плодоносящие женщины, которым фригидность не помеха. Невстроенный в цепочку плодоношения, он тем не менее был возведен в культ и превращен в оккультную науку. Я знаю точно: Камасутру придумали женщины, потому что мужчина в любом положении получит свое, а скупая на позы женщина может прожить всю жизнь, так и не узнав о себе самого главного. И в этом смысле эксперименты Лины были оправданы.