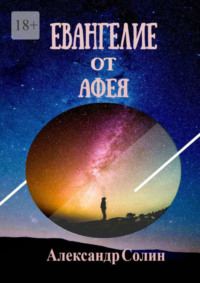Полная версия
Аккорд-2
Напоминаю: на дворе ноябрь две тысячи третьего, и время, как всегда, занято только собой – метит себя звуком, словом, краской, запахом. Метит, чтобы найти обратную дорогу.
Я уважил желание сына и через неделю привез его к Нике. Поначалу напряженность преобладала, но когда сестра, с боязливым пальцем во рту наблюдавшая за единокровным братом, вдруг взобралась к нему на колени и стала трогать его нос и щеки, в настороженные сердца хлынул теплый воздух и растопил улыбки. Кончилось тем, что сестра доверила брату свое главное богатство – игрушки, а он за это весь вечер не спускал ее с рук. Ника, глядя на них, растроганно улыбалась и шептала мне:
– Ах, как хорошо, что они встретились, как хорошо! Это так правильно, так справедливо – ведь дети ни в чем не виноваты! У нашей дочки замечательный брат, просто замечательный!
На обратном пути сын признался:
– А она очень даже ничего! Как молодая добрая училка! Вы что, собираетесь пожениться?
– Я тут на днях звонил твоей матери, так вот она сказала, чтобы я больше не звонил. Как ты думаешь, к чему это?
– Не обращай внимания, это она так характер показывает!
– А я думаю, она накручивает себя, чтобы решиться на глупость. Так вот я жду, когда она эту глупость совершит, и тогда женюсь на Веронике. То есть, сделаю еще бòльшую глупость.
– Ты хочешь сказать, что у меня может появиться отчим?
– Именно.
– Еще чего! Пап, а давай вместе на нее повлияем, а? Я скажу ей, что если она заведет себе кого-нибудь, я уйду из дома и буду жить с тобой!
– Я рад, что ты меня понимаешь, – сурово приветствовал я похвальное здравомыслие сына.
Так в ближайшем окружении Лины появился мой лазутчик. И вот что из его донесений выяснилось.
Ее распорядок дня, куда она могла бы втиснуть свои порочные контакты, разнообразием не отличался. Собственно говоря, образ ее жизни, каким я его знал, остался прежним. Она возвращалась с работы приблизительно в одно и то же время, расправлялась с ужином и занималась хозяйскими делами, до которых не дошли тещины руки. Затем вперемежку чтение, телевизор и телефон. Да, сыну приходилось несколько раз брать трубку, которая мужским голосом спрашивала маму. Мама удалялась с трубкой в свою комнату и задерживалась там минут пять-десять. А вот с кем она говорит подолгу, так это с тетей Верой. Ну, а спать она ложится около двенадцати. Случается, что распорядок дня нарушается, и тогда она приходит домой поздно – со слабой улыбкой и легким виноградным дыханием. Невзирая на то, что ночует она всегда дома, прорех во времени, в которых она могла спрятать вольности, было хоть отбавляй. И когда не на шутку озабоченный сын однажды сказал ей: «Имей в виду – с отчимом я жить не буду и уйду к папе!», она ответила: «Это тебя папа подговорил так сказать? Дурачок! Папа тобой манипулирует, чтобы меня вернуть! Передай ему, пусть не старается. И не переживай: мы с тобой как жили вдвоем, так и будем жить».
Что ж, благолепие блуду не помеха. Осталось только дождаться этому подтверждения.
36
Я стал много читать. Но если, например, «Любовь живет три года» с его героем-ортодоксом я еще смог одолеть, то «99 франков» того же автора решительно отверг. Мне были противны сочинения, где герои кокетничают с глубинами человеческого духа, выдавая за них надуманные трудности, психопатию, дурные привычки, распутные наклонности и прочие дефекты человеческой конструкции. Меня, как ни странно, утешали сентиментальные американские романы, которые если и обнажали недостатки героев, то тут же накидывали на них незатейливый флер оговорок и извинений. Их немудреный реквизит состоял из обнадеживающих аналогий, намеков, параллелей, подсказок и предостережений. В них я задним числом находил простой и обескураживающий смысл потертых временем вещей и поражался, как не понимал его раньше. С ними я раз за разом переживал то, что пережил с женщиной, патологическая любовь к которой изо дня в день подтачивала меня, как болезнь.
Еще я сделал для себя тот вывод, что если каждый и считает свою любовь исключительной и небывалой, то на самом деле человеческая любовь во все времена и для всех людей одинакова, как одинаково опасен вирус гриппа. Только переносится она каждым по-разному. Во всяком случае, у меня она протекал очень тяжело, но бог даст – выздоровеем, и я обрету, наконец, невозмутимость героев американских детективов, которые возвращаясь после очередного мордобоя в отель, принимали душ и меняли рубашку. Не об этом ли твердила несокрушимая американская манера доводить дело до счастливого конца?
Я жил с Никой, но чувствовал себя неуютно. Погас тот жаркий, расторопный огонь, что горел у меня в крови, а углей хватало лишь на сдержанные виноватые совокупления. Нет, нет, она по-прежнему была мне дорога и по-прежнему засыпала в моих объятиях, но бывая с ней, я думал о той, другой, что убила меня. Где она, с кем она сейчас? Неужели занимается тем же, чем и я? Неужели засыпает в чьих-то объятиях? К горлу подступала дурнота, теряло смысл будущее. Каким же неотвязно пагубным было ее влияние, если я отказался от восхитительных плотских утех, которые сулила мне жизнь с Лерой! Да, отказался. Малодушная правда заключалась в том, что при желании я мог бы устроить переезд Леры в Москву: купил бы ей квартиру в Нижнем, частыми наездами скрасил бы нашу разлуку – задушил бы в объятиях, утопил бы в солидарных слезах и новой беременностью сокрушил бы все ее сомнения. Претерпел бы неудобства первой поры нашего сожительства и приручил бы ее сына-бунтаря – я умею ладить с детьми. Но я не бросился к ней, не протянул руку и позволил ей быть слабой. Спасательный круг из меня получился никудышный. Видно, она это почувствовала и перестала звонить. Подобно Луне она затмила собой светило, примерила на себя ее корону и уплыла во мрак, увлекаемая неумолимыми законами любовной механики. Не потому ли я убивался по ней больше и дольше, чем по другим моим беглянкам? Со слов директора я знаю, что она по-прежнему замужем и по работе к ней претензий нет.
Однажды в марте две тысячи четвертого, после очередной нашей ссоры (с некоторых пор мы стали ссориться, и это, пожалуй, главная новость той обезжиренной жизни, которой я жил после развода) Ника прижала к себе дочку и сказала:
– Нет, Ксюшенька, не хочет нас папа замуж брать… Не нужны мы ему…
Внезапная и острая, как бритва жалость полоснула меня по самому сердцу. Я порывисто обнял их, прижал к груди и, вдохнув исходящий от них запах семейного очага, постановил:
– Осенью! Мы поженимся осенью!
Ночью я любил Нику долго, бурно и нежно, а наутро проснулся другим человеком. Так бывает, когда потрепанный бурей корабль пересекает рябую нейтральную полосу, входит в лазурную бухту, и морские волки на его борту с удовлетворением ощущают под ногами непривычно послушную палубу. В конце концов, я не маньяк и не психопат, а тот, кому повезло любить и быть любимым. Пришло время воспользоваться тем, что я любим, туризм поменять на ПМЖ и превратиться в эмигранта. Только вот как быть с ностальгией, которая непременно меня замучит? Переиначивая Шарля Кро, скажу вместе с ним словами Софи:
Любовь пусть станет, наконец,
Забыта, скрыта с нежным вздохом,
Как полный золота ларец
Внизу стены, поросшей мохом. *)
Одно утешение: не Шарль первый, не я последний.
Мной овладело нервное воодушевление. Еще бы – мой Рубикон был куда шире и глубже, чем тот, который перешел Цезарь: он всего лишь рвался к власти, а я утопил в нем свою любовь! Я стал с Никой истерически нежен, ненасытно предупредителен и запоздало щедр. Оглянувшись назад, я ужаснулся: нерадивый истопник, я допустил непозволительное охлаждение системы моего сердечного отопления! Представляю, в какую толстую шаль смиренного терпения пришлось кутаться моей бедняжке! Устраняя последствия халатности, я снабжал ее теплом днем и ночью, на кухне и в ванной, на улице и в постели, по телефону и лично. Такая резкая перемена не могла ее не смутить и, не понимая ее причин, она смотрела на меня с удивленной благодарностью и легким испугом. В крайностях всегда есть что-то подозрительное. Я же вел себя искренне, без натуги и с мускулистой уверенностью – то есть, как и положено кузнецу, взявшему в свои руки молот семейного счастья. Прижимая покорную Нику к груди, я строил в темноте грандиозные планы и сам же от них воспламенялся.
– После свадьбы мы обязательно родим мальчика. Ты согласна? – говорил я.
– Согласна, папочка… – бормотала разомлевшая Ника.
Близился к концу ее декретный отпуск, и я сказал:
– Я не хочу, чтобы ты работала. Ты согласна?
– Не согласна…
– Хорошо, можешь работать. Устрою тебя, куда захочешь. Хоть в Академию наук. Хочешь работать в Академии наук?
– Нет, папочка, я хочу работать твоей секретаршей. Иначе ты без меня совсем испортишь желудок…
В выходные утренние часы дремотной неги к нам в кровать в мягких фланелевых штанишках и рубашонке забиралась дочь и устраивалась между нами. Взрыв умиления и родительский восторг подтверждали, что наш будущий брак праведный, своевременный и настоятельный.
– Это мой папа! – дразнила дочку Ника, делая попытку меня обнять.
– Нет, мой! – заслоняла меня маленьким тельцем дочь.
– Так, девушки, все! В июле подаем заявление! – распорядился я в конце мая во время очередного дележа.
Иногда из-за спины моей невесты выглядывало вопросительно-удивленное лицо Лины и пыталось обратить на себя внимание. Равнодушие, с которым я встречал фирменный молчаливый укор бывшей жены, меня приятно радовало. Скабрезные подробности ее предполагаемых любовных похождений теперь меня ничуть не волновали, а удовлетворение от мысли, что кинувшись мне мстить, она узнает, наконец, почем нынче фунт сердечного лиха, грело душу.
«Ах, как хорошо – я здоров, я абсолютно здоров!» – ликовал я.
Ожидая, что будущий акт гражданского состояния станет для меня чем-то вроде больничной выписки с диагнозом: «Годен к новой семейной жизни», я гордился собой. Меня распирало от самодовольного ощущения собственной порядочности, мне льстило считать себя благодетелем и распорядителем судеб двух ручных, беззащитных существ. Попробуйте увидеть меня, важного и непререкаемого, в кругу будущей семьи.
– После свадьбы мы поедем на море! – провозглашал я с вечернего дивана.
– А куда? – хотели знать обнимающие меня мать и дочь.
– А куда вы хотите?
– В Африку! – хотела дочь.
– Да, в Африку! – присоединялась мать.
– Хорошо. Тогда в Тунис!
– В Тунис, в Тунис! – целовали меня с двух сторон мои женщины, нежно и осязаемо наполняя меня миром и покоем.
Время от времени я говорил Нике:
– Хочу, что бы ты купила себе что-нибудь этакое!
– Зачем? – поднимала брови Ника. – Я и так вся в подарках!
– И все равно – купи себе что-нибудь!
– Мне ничего не надо, кроме тебя! – отвечала моя будущая женушка. – Знаешь, если ты даже раздумаешь на нас жениться, мы все равно будем тебя любить! Правда, Ксюша?
37
Двадцатого июня я собрался на выпускной вечер сына. Перед этим он предупредил меня, что мама обещала быть. Несколько дней я, опаленный опалой, раздумывал, нужно ли мне видеть бывшую жену. Конечно, не нужно, но не настолько, чтобы своим отсутствием обидеть сына.
Наступил воскресный вечер, и я отправился навстречу пугливой неизвестности. Хотя какая там, к черту, неизвестность – все известно наперед: со мной холодно и в сторону поздороваются, сядут в другом конце зала, а затем мы подойдем к сыну и, поздравляя его, будем натужно улыбаться и отводить глаза. Сын соединит нас на короткое время, прежде чем мы расстанемся навсегда. И все же злая, неприветливая Лина лучше самодовольной, самоуверенной самки, спешащей на случку к новому самцу. Я поймал себя на том, что страшусь встретить именно такую Лину. Но хуже всего, если она назло мне явится со своим новым мужиком (а то, что он у нее есть, твердили мне, несмотря на опровержения сына, собственный опыт, здравый смысл и закон подлости). Случись такое, и мне не останется ничего другого, как развернуться и бежать. И пусть нас рассудит сын.
За полчаса до церемонии я пришел в школу, что в Большом Харитоньевском и, найдя возле зала укромное место, наблюдал оттуда, как мимо меня легким, бледно-румяным вихрем проносятся возбужденные виновники и виновницы торжества. Обтянутые упругой горячей кожей, заряженные энергией бодрости и сотрясаемые взрывами смеха, они скользили мимо, окатывая меня ощутимыми волнами кипучего энтузиазма. Они несли свою юность легко, играючи, не подозревая, каким богатством владеют, и думая, что будут такими всегда. Они спешили, молодые и великие, не сознавая, как не сознавали мы, особой важности события. Порхали, ощущая себя нарядными, беспроигрышными правилами игры, в которой им отведено почетное, пожизненное место. Их лица были улыбчиво безмятежны и лишены следов той бури, что бушевала в ту пору в моей душе. Или этой бури кроме меня никто не замечал? Наверное, так и есть, иначе придется признать, что у них, нынешних, нет души. Ах, эти юные невинные прелестницы, эти самоуверенные безусые юнцы! Сколько же им придется пережить, прежде чем их безотчетная радость померкнет, а облака заботы затмят их всесокрушающий эгоизм! Неужели мы были такими же? Двадцать шесть лет отделяли меня от моего выпускного вечера, двадцать пять из них я не был в моей школе. Впрочем, все школы пахнут одинаково: это пресный запах сушеных знаний и скрытого непослушания.
Ко мне направляется сын. Рядом с ним белокожая, волоокая девочка в нежно-лиловом декольте. Видимо, та самая Юля. Важный, снисходительный сын знакомит нас, и меня окидывают быстрым, любопытным взглядом. Даже странно, как у такого старого и глупого отца такой разборчивый сын.
– А где мама? – спрашиваю я.
– Обещала прийти, – отвечает сын и вдруг, глядя мне за плечо, негромко и торжественно объявляет: – А вот и она!
Я оглядываюсь: еще бы ему не гордиться! Эта всем на зависть прекрасная, приподнятая, почти воздушная женщина, что легко и стремительно торопится к нам – его мать, с которой он живет бок о бок и которая, глядя на него с нежностью, так и норовит его поцеловать. На ней темно-синее с перламутровым отливом платье. Подумать только: в тот единственный раз, когда я на заре жизни танцевал с Ниной, на ней было платье точно такого же цвета! «Да твою ж мать!..» – захлебнулся я эстетическим восторгом.
Она подходит к нам, порозовевшая, целует сына, говорит: «Здравствуй, Юлечка!» и целует ее, а затем смотрит на меня и роняет: «Привет!» Я растерянно улыбаюсь в ответ.
– Ну ладно, мы пойдем, а вы подходите, не задерживайтесь! – кидает нам сын и вместе со спутницей исчезает в зале.
Лина с неожиданным участием спрашивает:
– Как ты?
– Нормально! – глупо улыбаюсь я.
– Как дочка?
– Спасибо, хорошо! – тороплюсь я миновать неудобную тему.
– Почему не женился?
– Ты знаешь почему.
Я не видел ее год с небольшим. Судя по вежливому обхождению и улыбчивому лицу, с которого исчезли следы запущенной усталости, глубокий безмятежный сон в объятиях чужого мужчины стал ей привычен. Тогда почему она до сих пор носит наше кольцо? Может, по извращенной, мстительной прихоти делает его свидетелем своих новых удовольствий?
– Какой у нас красивый сын! Весь в тебя! – цепляюсь я за то единственное в этом мире, что нас еще связывает. Ноет желудок, глазам не хватает света, а голосу силы.
– Спасибо, – отвечает она. – Ну что, идем?
Мы проходим в зал и находим свободные места.
– Давно тебя не видела. Хорошо выглядишь! – поворачивается она ко мне.
– Ты тоже совсем не изменилась… – улыбаюсь я через силу. Воротничок рубашки становится мне тесен, и я рывком распускаю удавку галстука.
Мы сидим достаточно близко, и я ощущаю запах ее духов. Она с интересом смотрит на сцену, а я, скосив глаза, на ее лицо и обнаженные руки. Все то же безукоризненное, неподвластное времени лицо, все те же тонкие, слегка смуглые руки. Так и сижу, глядя на сцену, когда моему сыну приходит очередь сказать очередной напыщенный куплет, и аплодирую, когда аплодирует она. По лицу ее блуждает улыбка, руки лежат на сумочке, сумочка – на коленях. Она спокойна и свободна от груза прошлого. Неужели все святоши в ее возрасте так же хороши? Мне хватает сил дотянуть до конца чужого праздника, и я, гримасничая, словно штангист, вздернувший на грудь рекордный вес, выхожу вслед за Линой из зала. Дождавшись сына с его подружкой, мы прощаемся с ними. Оказывается, Лина тоже не хочет участвовать в продолжении.
Покинув школу, мы выходим на улицу, окунаемся в пряное тепло июньского вечера, и я интересуюсь, куда она держит путь. Домой, отвечает она. Я с замиранием спрашиваю, можно ли ее проводить, и она, чуть помедлив, соглашается. Мы идем рядом, и каждый встречный-поперечный норовит свернуть голову в нашу сторону. Из-за нее, разумеется. Она молчит – видно, моя нынешняя жизнь ее не интересует, я же лихорадочно ищу, о чем спросить, чтобы не вызвать ее недовольства. Наконец спрашиваю о работе, о здоровье родителей, о том, что она думает о дальнейшей учебе сына, потому что если это будет Плехановка, я обязательно помогу. Нет, никакой помощи не надо, отвечает она. Я интересуюсь, когда они переезжают в Голицыно. Родители в начале июля, а они с Костиком пока остаются. Я собираюсь сказать, что обязательно их туда отвезу, но в последний момент пугаюсь, что мне ответят: «Спасибо, у нас есть, кому отвезти». Выбирая безобидные темы, я прыгаю по ним, как по кочкам, страшась увязнуть в трясине молчания. Лина отвечает вяло и односложно. Мы входим в Чистопрудный парк, минуем Архангельский переулок и останавливаемся под могучим вязом напротив ее переливающегося воспоминаниями дома.
– Дальше я сама, – поворачивается ко мне Лина, и я пересохшим языком делаю себе харакири:
– У тебя кто-то есть?
– Давай не будем об этом! – портит она лицо недовольной гримасой.
– Почему?
– Не люблю праздного любопытства.
– Что же праздного в том, что я хочу знать, жить мне дальше или нет…
– Вот даже как! – бросает она на меня насмешливый взгляд.
– Да, так…
Неловкая пауза, и я говорю:
– Позволь мне кое-что сказать. Для меня это очень важно…
Подумав, она разрешает:
– Хорошо, говори. Только покороче.
– В общем, я кругом виноват.
– Так, дальше!
– Прости, что обижал, что был груб и несправедлив, – зачастил я, страшась, что у нее не хватит терпения. – Прости, что не понял и не пожалел, что не защитил и не наказал этого урода, что столько лет мучил. Прости, если можешь…
– Всё? – убедившись, что мой фонтан иссяк, деловито спрашивает она.
– Ты же сама сказала – покороче…
Она глядит на меня, словно примериваясь, куда побольнее ударить, и вдруг сникает:
– За что мне тебя прощать – за то, что ты меня любил?
– И люблю… – глухо роняю я и чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Лина замечает их, и голос ее смягчается:
– Мне не за что тебя прощать. Во всем виновата я. А что ты? Ты вел себя, как и положено ревнивому мужу – мучился сам и мучил меня. Сколько раз я говорила себе – все, я так больше не могу, я должна уйти, но не уходила, потому что не хотела лишать Костика любимого отца. И пусть он меня простит, но твою дочь я стерпеть не смогла. Господи, знала ведь что придется об этом говорить, и все равно пошла с тобой! Все, хватит, прощай!
– Нет! Постой! Не уходи! – выкрикиваю я, пытаясь схватить ее за руку.
– Что еще? – отдергивает она руку.
– Постой! Подожди! Дай посмотреть на тебя еще немного! Я ведь тебя целую вечность не видел! Да, да, я знаю, я тебе противен! Согласен, я это заслужил, но посмотреть на тебя в последний раз я могу?
– Как все поменялось… – устало смотрит она на меня. – Почему же ты не услышал меня раньше?
– Да потому что я человек, а не Иисус Христос, вот почему! А разве ты не также себя ведешь?! Ведь вот я к тебе взываю, а ты меня не слышишь, потому что ослеплена обидой! Я глухой, а ты слепая, и страдает от этого наш сын!
– Ты прав: непутевые ему достались родители. Ну, ничего, когда-нибудь он нас рассудит. Я лишь об одном прошу – рассказывай ему о нас только хорошее. У нас есть, что ему рассказать.
– Еще бы! – воодушевляюсь я. – А помнишь, как мы с тобой целовались в Немчиновке на чердаке? А наше озеро? А нашу поляну?
Лина язвительно усмехается:
– До чего же все мужчины одинаковые! Вот и ты пытаешься играть на тех же струнах, что и Иван…
Неожиданно она смолкает, и пока я лихорадочно соображаю, как мне преодолеть ее насмешливую неприязнь, с которой она оборачивает против меня все мои реплики, с ней что-то происходит: плечи неуловимо расправляются, грудь воинственно подбирается, лицо слегка краснеет, глаза прищуриваются, и я слышу:
– Ладно. Раз уж и он здесь, так и быть, расскажу тебе кое-что. Авось, после этого оставишь меня в покое…
38
Так и быть, выйду за тебя замуж. Так и быть, рожу тебе ребенка. Так и быть, изменю, а потом признаюсь. Так и быть, поживу с тобой, расскажу очередную гадость, а потом посмотрю, как ты будешь корчиться. Не женщина, а сплошное одолжение! Знал бы двадцать лет назад, что меня ждет, ни за что бы не побежал знакомиться!
– В общем, так: не было ни насилия, ни чудовища по имени Иван, – начала она, сосредоточив взгляд на письменной версии своей жизни, что расположилась где-то слева от меня. – Эту сказку я сочинила в расчете на твою жалость… И не придумала ничего умнее, чем сделать из достойного человека монстра… Просто взяла и оболгала первую любовь. И я рада, что могу теперь вернуть ей доброе имя…
Прочувствованная пауза.
– На самом деле я не насмехалась над Иваном и не унижала его – наоборот, я обрадовалась ему. Да, вначале я осыпала его упреками, но он сказал только одно: ты не смогла бы там жить, не смогла топить печку, носить воду из колодца, греметь закопченными кастрюлями, мыться под умывальником, ходить в кино в деревянный дом культуры, а в туалет на улицу. Он когда все это увидел, то понял, что девятнадцатилетняя московская барынька, столкнувшись с провинциальной реальностью, сломается, и потому решил избавить от разочарования и меня, и себя. Пожертвовал, можно сказать, собой. Поступил очень благородно, и я, для которой твой Подольск – уже деревня, оценила это. И никуда он меня с собой не звал – он лишь хотел увидеть меня. Две недели не спускал с меня восхищенных глаз – сам знаешь, какая я была пятнадцать лет назад. Вел себя очень достойно и порядочно, а когда я к слову и не к слову твердила, что люблю тебя, смотрел на меня с грустной улыбкой… Я сразу сказала, что не смогу от тебя уйти, а он сказал, что не сможет бросить сына и дочь. Только вот человек думает одно, а поступает почему-то наоборот. Так и я: любила тебя, но вдруг решила, что просто обязана его отблагодарить. И за общежитие, где он не позволил себе лишнего, и за мой московский покой, и за его самоотверженную верность, и даже за то, что назло ему вышла за тебя замуж. Ну, вот просто обязана, и все тут! Потому и пошла к нему в гостиницу… Такое вот затмение мозга…
Она примолкла и отвернулась. Помолчав, продолжила:
– Пока сидели в ресторане, вся была в сомнениях… И вот уже уходить пора, а мне никак не собраться с духом. И тогда я выпила для храбрости рюмку коньяка и решилась. Поднялась с ним в номер, где оставила кофту и сумку, и без всяких предисловий объявила, что хочу его. Он растерялся, разволновался, стал отговаривать, и тогда я, чтобы не передумать, скинула без лишних слов туфли, легла, задрала подол и спустила трусы. И он не устоял. И никто бы не устоял… Так что сам видишь – все было как я рассказала, только не он мной овладел, а я им…
Тут она взглянула на меня и, видно, не зная, чего ждать, отступила на шаг. Я же машинально посмотрел на часы: двадцать ноль-ноль. Это значит, что потребовалось пятнадцать лет, двадцать три дня и двадцать часов, чтобы тайное стало явным. Мне бы наполниться благородным возмущением, мне бы вознегодовать, но вместо этого я испытал неуместное удовлетворение: вот и замкнулись силовые линии измены, сложившись в угаданный мною узор, и не было в его внятном, скучном рисунке места для ее затейливых завитушек. Сунув руки в карманы, я пожал плечами:
– А я всегда знал, что ты была с ним по собственной воле и в сказку твою никогда не верил. Мне только непонятно зачем ты столько лет меня терпела. Только не говори про виноватую любовь! Думаю, все куда проще: ты не захотела ничего менять, и жизнь с обманутым мужем тебя вполне устраивала. Не удивительно, что в результате мы пришли к тому, с чего начали: я тебя, как всегда люблю, а ты меня, как всегда нет.
– Любишь?! И поэтому завел на стороне дочь?! – вскипели свинцовым негодованием ее глаза.
– А может, потому что ее мать всегда была со мной честна? – охладил я ее пыл.