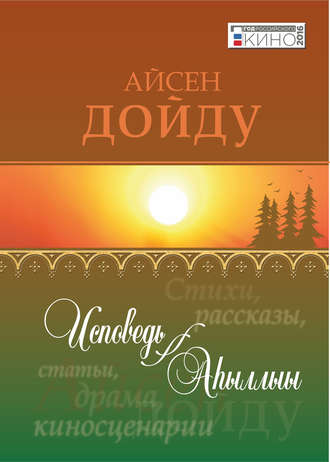
Полная версия
Исповедь = Аһыллыы
Тут в комнату вошла Ольга, сказала, что бабушка ждет меня. Потом добавила:
– Только будь с ней, Борис, поласковей. Хорошо?
Я вошел, подавляя неловкость, в комнату Агриппины Тарасовны, которая была слабо освещена лишь лампочкой ночника. Все здесь было по – старому: те же ящики с замками, чемоданы, банки – склянки, и все заклеено аккуратно полосками бумаги. Пахло нафталином и лекарствами.
Старуха лежала в постели похудевшая, совершенно обессилевшая. Слабым движением руки она показала на стул и взглядом приказала внучке оставить нас одних.
– Отхожу я, милок, – слабо «улыбнулась» она. – Жду тебя, не дождусь… А потом и помирать не страшно.
– Да что Вы, Агриппина Тарасовна, какие там разговоры, да вам еще… – начал было я успокаивать ее.
Но старуха только махнула рукой:
– Да полно тебе, полно… Смерть долгожданная, она… она ведь разная бывает, милок. Тяжелая тоже, ох какая тяжелая. – Тут она посмотрела на меня прищурившись, сказала с облегчением: – Вот теперь мне, Боренька, лутше. Лехше стало, когда рядом сидишь. Да-а. Я ведь знаю тебя, милок, давненько и знаю про тебя то, чего сам не знашь. Это мне частью карты показали, а частью я сама узреваю. Человек, ты, Боренька, мяхкий, добрый, любой грех с любого сымешь и любого простишь, и делаешь добро не от блажи какой, а от понимания души человечьего. Зла в сердце не держишь, а это, милок, само главное для нас. И Ольга вот не обижается на тебя. Да-а. – Она вздохнула, замолчала, что – то раздумывая, потом сказала: – Судьба – то у кажного одцельна, и сила в жизни есть, которая ташшыт нас, заставляет дела неприглядные совершать вопреки уму – разуму. Может черт, а может и Бох это… От рожденья и до смерти держит она. Так – то вот, милок.
– Про что это Вы? – не понял я. – Если говорить, к примеру, о Боге…
– Бох? Это раньше так называлось. А теперича люди отказались от него, но не ослободились от силы сей большой. Имена всяки там и все проходит, но главно – то остается во внутрях. Вот я никогда в церкву не ходила апосля – то, при советской власти, и ни в христианского, ни в татарского бога не верю. Так у меня, вроде. Но кажный умереть не может просто так, не высказавшись полно. Так ведь, Боренька?
– Да-а, – согласно покачал я головой, заметив про себя, что старуха совсем ожила. Движения ее стали резче, голос окреп, в глазах появились огоньки. – Так чем же я могу вам помочь, Агриппина Тарасовна?
Она откинула голову на подушку и, подняв вверх острый подбородок, сказала:
– Подай – ка, милок, сюды поближе потрет этот, что висит у меня над головой… Видишь?
Это был искусно намалеванный краской портрет какого – то симпатичного молодого человека в старомодном дореволюционном сюртуке, и я снял это осторожно с гвоздя и поставил на комод, чтобы ей было удобно видеть.
– Вот так – то хорошо, милок.
– А кто это? – осторожно спросил я. – Что – то раньше не видел это у Вас.
– Это муж мой Василий Иннокентьевич. Он был сыном богатого витимского купца Иннокентия Крылова, которого красные расстреляли в двадцать первом годе в тайге.
– Как же так? Вон же Ваш, муж! – удивился я, посмотрев на другой портрет в красивой медной раме.
– А Макар был моим вторым мужем… Он – дедушка Ольгин, ты это знаешь. Оба были хорошие люди, лутшие. Я завсегда их путала обоих до убивства. Макара еще раньше познала, чем Василия, любили оба меня… А в день их погибели я тут закрываюсь на крючок и никово не путаю. Они, сердешные, должно быть благодарны мне, что я их от мучений избавила.
– Я не совсем Вас понимаю, Агриппина Тарасовна, – сказал тут я. – О чем Вы говорите?
– Теперя, милый, мне все равно, и я, как на духу, все должна тебе открыто сейчас рассказать. Я-то знаю, что свершила доброе для них, но в душе все равно тяжко очень и мучительно. – Она повернулась, широко раскрыла глаза. – Это ведь, милок, я убила Василия… и Макара тож… Обоих порешила!
Я настолько обалдел от этой дикой новости, что чуть было не свалился со стула. Убила?! «Видать, старуха совсем уж рехнулась, – подумал я. – И черт меня дернул сюда придти!»
– Я вижу, что ты чуток испужался и не веришь мне. Думаешь, что старуха рехнулась на старости, – хрипло выдавила она, потом, отдышавшись, добавила: – Ведь я… я, милый, мысли – то твои знаю, насквозь вижу. А нашшот покойников моих дорогих не сумлевайся. Трудно было им, ох как трудно! Первого – то, Василия, красные гоняли, хотели как сына купца Крылова расстрелять, да он все скрывался… Полгода у себя в подполье хоронила, и токмо ночью, когды уж темно, тайком его выпускала. А там – то, внизу, темно, сыро да холодно, и Василий опосля от страданий таких весь разом поседел и слова стал путать, кричать зверьмя стал по ночам, а соседи наши, Губины, стали допытыват меня: что да почему? Боязно стало дальше держать его, он стронулся вовсе, ну и я, конешно того… стукнула его топором… по голове – то – кончила так. В подполье его, сердешного, и похоронила. И ни одна душа про то темное дело не знает… Тебе токмо, Боренька, говорю, чтоб лехше стало чуток. Смотри, не говори никому, слышь?
– Слышу, Агриппина Тарасовна, не скажу, – пообещал я, не очень – то веря рассказанному. – Так ли все это?
Она всплакнула, вытерла ладонью слезы, продолжила:
– Я молодая была в те годы, осталась вдовой одна – одинешенька, а тут опять Макар мой заявился… Мужик – то он был больно горячий, лихой, и у белых побывал, и у красных опосля рубился. Орел орлом гляделся! Чуб кудрявай торчит, усы черные, как у Буденного… Ох и любили его бабы – то нашенские, да он все ко мне да ко мне – так и пристал. Да что счас вспоминать – то про все – пропало, сгинуло, милок… Вот сошлись мы с ем, значит, да тут беда: по его вине в колхозе в половодье – весной это все случилось – люди погибли, скот потонул. А тогда, в тридцатые, дюже строго было, сам знаешь, ну и затаскали Макара чекисты по тюрьмам. Вспомнили даже про то, как он в красных отрядах ходил да промышленных и купцов, якобы, сильно потрошил.
– Потрошил? – переспросил я, удивляясь сказанному.
– Это я, милок, по – простому, к слову сказала. А у них, у красных – то, как – то заковыристо означается, по – ученому… как это?., коней… консикация какая – то. Или как?
– Конфискация?
– Во, во… Так оно, кажется. Ведь Макар с имя самими – то это и творил – с красными – то! И за это его сами чекисты тоже… допытывались. У самих – то рыло тоже в пуху, да-а. – Она подняла руку, показала пальцем на портрет. – А он – то, Макар, из тюрьмы в трицать девятом убежал – и сразу ко мне, в Пеледуй заявился тайно. Однако злы люди чегой – то пронюхали у нас… Оставила я ребятишек своих у сестры, захватила хлеба с собой поболее и темной ночью (осенью это было) мы с Макаром поплыли на лодке на остров Берелех и дальше оттуда вниз по матушке-Лене на Патому, где он землянку в тайге вырыл.
А холодно было, ветер на реке, волны серы – громадны… Убяжали, значит. Но захворал Макар в путях, еле до места етого добрались, где спрятал он все… «Больно» да «больно», – за живот хватается. Промучился так он днев трое, аж синий весь стал. А тут, батюшки мои, снег белай сверху посыпал – немоготно вовсе. Что делать – то? Еда у нас вышла вся, и зима наступает. «Ладно, – решился он тут. – Стреляй, голубушка, прямочко в серце, ведь так и так помирать. Не могу уж боле терпеть, хоть без мук умру от рук твоих, жениных». А я не хотела етого, всю ночь проплакала, апосля – то, утречком, того… застрелила его – уважила, и прямонька там, под обрывом и закопала его, грешного. А все что было у него припрятано, добро – то сто, взяла у него… Ящик – то етот с собой прихватила. Так вот, милок, получилось. – Тут она тяжело вздохнула, отвернулась.
– Ящик? – не понял я. – Ну, да… А потом?.. Что дальше – то?
– Вернулася, конешно, домой я – к ребятишкам своим, и вся чо – орная, худая… А там уж меня ждут: «Где была? чего делала?» И заключили меня в милицию, допрашивали. В Олекминске уже ето, куды увезли. Но хорошо, там братец двоюродный мой оказался – Матвей Жжоных, у них в Совете начальством каким – то работал. Так и спаслася.
Она снова потянулась к портрету на комоде, произнесла:
– Вот… сначала он, Василий, кровью истек, а потом вот Макар… А теперь вот, милый, очередь, выходит, моя подошла. Зовет смертушка – то, зовет.
Тут я уловил за дверью какой – то шорох, чей – то сдержанный, глухой кашель: явно, что они подслушивали нас. Ну, да черт с ними! Старуха повернулась снова ко мне и, оскалив в «улыбке» свои гнилые зубы, как – то неприятно, я бы даже сказал – «жадно», посмотрела на меня, попросила:
– Садись – ка, Боренька, поближе, не чурайся меня… Я ведь знаю мысли – то. Садись, садись…
Я послушно придвинулся к ней, уловил носом гнилостный запах изо рта, но пришлось терпеть.
– А скажу тебе, милок, что ты пришел… пришел душу мою грешну облегчить. Плохо грех – то в душе держать, тяжало. Вот ты и спасешь, подможешь мне в етом. А за добро твое, Боренька, хочу перед смертью ящик тебе передать с добром. Вот так – то. Достань – ка его у меня под подушкой… Возьми – ка.
Я не хотел ничего доставать у нее под подушкой, но старуха так властно и жестко посмотрела на меня, что невольно потянулся, сунул руку под голову, вытащил тяжелый ящичек с маленьким замком.
– Ключик – то, однако, выбросила, – глухо сказала она. – Но ты и так откроешь, ковырнешь там дома чем – нибудь. – Она облегченно вздохнула, промолвила: – Ну, вот и все, Боренька, все… Прощай! Однако, не свидемся боле: чуствую, что близко уже… Дай только руку… Руку, говорю!
Я с необъяснимым страхом протянул ей правую руку, и она жадно схватила кисть своими холодными цепкими пальцами и с трудом, с хрипом выдавила из горла слова:
– Ихню… кровь… передаю… Шо-о!.. А золото твое! Бери!
Я с омерзением, инстинктивно вырвал руку и весь в холодном поту резко поднялся и, не попрощавшись, быстро выскочил из полутемной старухиной комнаты.
Арнольд с Ольгой еле успели отскочить от двери, потом, оправившись от шока, молча уставились на меня. В их глазах я прочел любопытство и страх. Я опустился на стул, и горло будто сдавило чем – то – не мог ничего сказать, только слюни комками глотал. Казалось, что в меня что – то вселилось, что – то тяжелое и гадкое. Какая – то черная слизь заполнила мой желудок и сердце… Фу!
Тут Ольга осторожно подошла ко мне и что – то тихо спросила, но я не расслышал, понял только одно слово – «ящик».
Да, я все еще продолжал держать в руках этот старухин ящик и вдруг, сам не понимая почему, бросил его на стол, будто там лежала взрывчатка какая. Ну его к черту!
– Может, посмотрим… это? – вкрадчиво спросил Арнольд.
– Как хотите, – ответил я, вытирая платком пот со лба. – Елки – моталки!
– А ключ?
– Какой ключ? – не понял я.
– От ящика ключ у тебя?
– Нету… нету ключа, – махнул я рукой. – Так можно…
Арнольд хмыкнул, вытащил из кармана блестящий перочинный ножик и ловко вскрыл замок. На скатерть высыпались из ящика разные блестящие золотые штучки: кольца, серьги, браслеты, монеты царской чеканки… Последних было много, штук эдак двадцать с лишним.
– Имперские! – загорелись глаза Арнольда. – Высшая проба!
– Ой, сколько зо… золота тут! – шепотом выдохнула Ольга. – Господи, да она… Боже мой!
Но я всегда был равнодушен к подобным блестящим вещам, и золото для меня было не лучше любого другого металла – меди или мельхиора. А может я, по дурости своей, не разбирался в них? Ну, допустим, золото, золото это, а дальше – то что? Мишура да и только!
– И откуда столько добра у нее? – спросил я у Ольги.
– Предки мои, Крыловы, были богатые люди, – произнесла она не без гордости. – Может быть…
– Но ведь добро купцов Крыловых не нашли, – вставил Арнольд. – Считалось, что Иннокентий Крылов, тесть Агриппины Тарасовны, спрятал свои драгоценности от красных где – то в тайге, около Мачи, возможно. К тому ж его расстреляли. И золото исчезло.
– Тут на кольце, я вижу, какие – то буквы… – обратила внимание Ольга, роясь в драгоценностях. – Смотрите! Буквы «И» и «К»! И чаша какая – то выбита… Интересно.
– Дай – ка сюда, – взял кольцо Арнольд. – Это монограмма! Его, старика, монограмма… инициалы владельца – Иннокентий Крылов! А чаша – это фирменный знак купцов Крыловых! Да, да… Я знаю!
– Да, я тоже вспомнила сейчас про чашу… – радостно засмеялась Ольга. – Мне мама рассказывала… Да!
– Ну, вот и разгадка тайны купцов Крыловых, – развел руками Арнольд. – В ящике фамильное золото!
«Значит, Макар… это он старика на Патоме убил! – догадался я, вспомнив слова старухи. – Ну и дела!»
Тут Ольга как – то странно посмотрела на меня, отвернулась. Арнольд, кривя губы, холодно произнес:
– Ну, Борис, теперь Вы самый богатый человек в Якутске. За такое золото можно теперь достать все. А если втихаря продать – большие деньги!
– Мне не нужно никакого золота, – решительно произнес я. – Возьмите это. Оно ваше.
– Но, простите, – нервно погладил переносицу Арнольд, – золото завещено бабушкой Вам – оно Ваше! Не так ли?
– Нет, это не так, – отказался я.
Не мог я забрать ящик с собой: как – никак бабушка была ихняя – кровь родная, а я к ней, извиняюсь, никакого отношения, тем более родственных, уже не имел. Чужой я, посторонний, фактически, человек. Сами пусть разбираются!
Я молча встал, оделся и, быстро попрощавшись, вышел. Ящик остался на столе.
Однако, Ольга тут же выскочила следом за мной с ящиком в руках, остановила меня:
– Борис, Борис, ты забыл… оставил это… Возьми!
Я медленно повернулся к ней и, как можно мягко, деликатнее, сказал:
– Ты ведь, Ольга, знаешь наши с тобой отношения… Мне неприятно и тебе неприятно. Пойми, что это фамильное добро, наследство по – справедливости принадлежит вам. Вам! Бабушка, как сама знаешь, путает меня и Арнольда. Пойми, она немножко того… больной, очень старый человек, и такие странности дело понятное, я думаю. Возьмите ящик, я вас умоляю! Даже, в конце концов, можете сдать государству, если оно вам того… мешает. А я честно и твердо говорю: не возьму. Не могу!
Я повернулся и быстрым шагом пошел к калитке.
Ольга молча постояла, глядя мне в спину, потом, видимо, вняв моим словам, вернулась с ящиком домой.
Захлопнув за собой калитку, я облегченно вздохнул и пошел к Валерке Петрову «встряхнуться» после таких кошмарных приключений. Теперь к ним, в этот дом меня и всеми богатствами мира не заманишь. Ну их всех!..
Я постепенно начал было забывать эту историю, но на третий день, вернувшись вечером домой с кино «Месть колдунов», я обнаружил в дверях записку такого содержания: «Бабушка в ужасном состоянии. Она кричит, зовет тебя, бьет посуду. Мы совершенно измотались. Ждала тебя целый час. Как только придешь – приходи срочно к нам. От беды и худа спасешь только ты. Умоляю! Ольга».
– Еще чего не хватало, – подумал я. – Опять надо успокаивать эту умирающую старуху? Опять туда? Елки – моталки!
У меня от расстройства, как всегда, сильно заныло в желудке, и я решил заглушить это «коленвалом», который купил на день рождения, помогает. Налил сначала водку в рюмочку, потом, подумав, взял емкость поболее. Налил себе полный стакан и – мать – перемать! – единым духом заглотал. Ух!
Через пять минут мне сделалось нормально: желудок не беспокоил, и настроение уравновесилось. Еще через пять минут наступило полное безразличие, состояние легкое, кайфовое – хоть в ухо дуй в трубу! «Так идти или нет? – стал я мозговать. – Если пойду, то… А если не пойду? Тогда эта старуха может меня как в этом самом фильме о колдунах… Нет, нет… Только не это! Тем более, ребят надо там выручать. Да!»
И вот я пришел к ним снова.
Арнольд с Ольгой очень обрадовались, встретили как самого желанного человека. И я, воспользовавшись этим, нахально попросил у них что – нибудь выпить. Арнольд вытащил из – за шкафа бутылку коньяка «пять звездочек», налил в бокал. Я выпил это для храбрости, попросил, загоревшись, еще. Хрякнув второй, я смело шагнул к старухе. За дверью, в комнате, стояла полная тишина. Может, она спит? Я смело открыл ее дверь и… остолбенел. Старуха стояла посреди комнаты в длинной белой, как балахон, накидке, с растрепанными седыми космами. У нее было жуткое лицо: тонкие губы почернели, глаза провалились, острый подбородок мелко трясся…
– Садись – ка, – хрипло, с трудом произнесла она.
Я послушно сел на стул, чувствуя, что холодные мурашки побежали по спине… Неприятно как – то стало, и коньяк даже не помогает. Дурак!
За спиной, слышу, тотчас щелкнул дверной замок, и мы в полутемной комнате остались с ней одни. Ловушка!
– Что же ты, Борис, меня мучаешь? – затряслась она вся. – Что ты меня – то обманываешь, не даешь спокойно умереть? Зачем ты это, а?..
– Я… я Вас не… понимаю, – пролепетал я, ерзая на стуле.
– Ты почему ящик не взял? Да как ты… смел такое? Ведь ето мое последнее у могилы желанье, на чем душа моя держится – то. Ты, милый, все тут решишь ведь… Али зла хочешь себе и нам какого? Ежели я, паря, разгневлюсь…
– Нет, нет… – вскочил я с места, – ничего ведь такого нет…
– Я ведь тебе – то добра желаю. Я тебе, Борис, все отдаю, а не етим… выродкам, – показала она скрюченным пальцем на дверь. – Ежели хочешь все узнать, то етот хахаль Ольгин ночью задушить меня подушкой хотел, убить меня насильственно задумал… – Она повысила голос, чтоб слышно было у них, за дверью. – А ведь у меня душа, ведь я тоже человек! Какая б ни была!.. А убить – то меня хорошо должен ты токмо… Ты, Борис! С душою чистою своей, с твоим добрым сердцем… Головой – то своей понимаш?
– Как?.. Убить что ли?.. Я?!
– А как же! Ты и есть!.. Кто же еще?
У меня сильно запищало в ушах, закружилась голова… Водка что ли вдарила по мозгам? Я покачнулся.
– Вот ежели возьмешь… – продолжала увещевать старуха, тараща на меня водянистые глаза. – Как токмо ящик унесешь, так я сразу и успокоюсь, и подможешь ты мне, как я мужьям – то своим тогды помогла. Я ведь знаю, милок, что ты никому другому в городе не рассказал про наш разговор тогдашный. Да-а. А ящик – твой! Твой токмо! В етом ящике – то душа вся моя, вся жисть моя ляжит… Ты понял?
Понимать – то я, вроде, понимал, но от мандража и выпитого у меня, чувствую, мозги сильно затуманились – «пошли набекрень». В глазах поплыли круги и тени, лампа запрыгала светлыми пятнами… Ядрена – мать!
Старуха приблизилась вплотную, дыхнула на меня гнилостью, прошептала:
– Золото – то возьми… Возьми-и, милок, золото!
Она дрожащими руками протянула мне этот злополучный ящик, с угрозой в голосе выдохнула:
– А ежели не возьмешь, худо большое будет тебе… Худо!
Мне вдруг стало нестерпимо душно тут, и я, плохо соображая, машинально схватил этот ящик и тотчас кинулся к двери, стал отчаянно барабанить… Откройте!
За собой я услышал ее хриплый старческий голос:
– Ты убить, убить меня должен, убить!..
И я, действительно, в тот момент готов был ее убить, чтоб лишь вырваться поскорей из этой черной комнаты, чтоб не слышать старухин голос и не видеть пронзительных глаз ее… Прочь, прочь отсюда! Скорее! Скорее!
Тут щелкнул, наконец, замок – дверь открылась!
Я тотчас вылетел оттуда и, даже не одевшись, выбежал с ящиком на улицу… Домой! Только домой!
Я бежал, спотыкаясь и падая, по туманным улицам ночного Якутска, плохо соображая, прижимая к телу этот проклятый старухин подарок… Мелькали фонари, шарахались от меня тени людей в косматых шубах и шапках… Ну вас всех к ядреной матери! Прочь!
… Выскочил на Октябрьскую. Добежав до подъезда, с трудом поднялся на четвертый этаж, долго ковырялся в замке, не попадая ключом в узкую щелочку: сильно дрожали руки… Я скрючился весь от холода, чертовски замерз – аж зубами лязгал.
Ворвавшись в квартиру, первым делом ринулся на кухню, вытащил из холодильника спасительную бутылку с остатками водки и прямо из горла, в два приема, пропустил все до дна. Ух!
Дальше, уже отогревшись, выходил куда – то на площадку, ругался с кем – то, блевал там в подъезде… Снова заходил домой, плакал, смеялся, что – то искал… А потом в коридоре квартиры, споткнувшись, упал, больно стукнулся головой и провалился куда – то в черную яму…
Чувствую, что кто – то дергает меня, шлепает по лицу. Смотрю, значит, а это Янка Баишев стоит: «Эй, жив, догор? Тур, вставай!» Склонился надо мной, щербато лыбится, а я лежу на диване, и часы на стене 11 часов 26 минут показывают. Уже полдень? Ничего себе… Ядрена – вошь! Ноет затылок, страшно трещит голова, горят кисти рук и все лицо… Балда!
– Дай – ка закурить, – прошу у Янки. Жадно затягиваюсь, курю. Чувствую, немного полегчало. – Как это я?..
– А ты, чудак, вчера опять того… Тяпнул где – то сильно, – смеется он. – Еле на диван затащил. Тяжелый ты, черт!
– Где это так?.. – я смутно стал припоминать вчерашний вечер, этот злосчастный визит к старухе.
– Раздетый совсем пришел, хорошо, что руки не отморозил. А щеки – то Дед Мороз сильно поцеловал – красные стали. Хочешь посмотреться?
– Раздетый, говоришь? – удивился я, потирая горящие щеки. Вспомнил, как бежал по улице без пальто.
– Ну, да, – махнул Янка рукой. – Подхожу к твоей конуре, вижу: твоя дверь открыта настежь, а сам лежишь в коридоре на полу… Накачался. Дергаю, бужу тебя, а ты никак… Без задних ног, значит.
– Без задних… А где, догор, ящик? – тут вспомнил я. – Ящик – то где?
Янка удивленно посмотрел на меня:
– Какой ящик?
– Да ведь ящик с собой был железный, черный такой…
– Да не – ет… Лежал ты… В коридоре, на полу – то не было ящика. Осмотрел я тогда, везде пошарил, думал, что ты, может, бутылку с собой притаранил, дернуть немножко хотел… Не было, догор, ничего. Это точно. Все честно проверил, даже за шкаф твой заглядывал.
– Не было? – испугался я. – Шутишь, может? Отдай!
– Ха! Может тебе, Боря, приснилось? – засмеялся он. – Или того… Совсем? – Покрутил пальцем у виска.
– А пошел ты!..
Я с трудом, охая – ахая, поднялся с дивана, постоял, покачиваясь, потом вышел в коридор. Одежды и ящика не было.
Разозлившись, стал искать его везде – и в комнате, и в туалете, и весь коридор перерыл… Нету нигде. Нету – и все! Пропало, выходит, старухино золото. Ядрена – матрена! А может, он… Я молча, с подозрением посмотрел на Янку, думая: врет или не врет? Янка глядел на меня спокойно, даже весьма сочувственно, и я верил ему с детства, ибо он меня еще не обманывал никогда, не подводил, да и ребята все уважали Янку, как честного, надежного во всех отношениях парня. Нет, не мог он стибрить, не мог. Пропало «добро», так пропало! Может, это и к лучшему? Но тут я вдруг вспомнил последние слова старухи: «… худо большое будет тебе… Худо!» Чертова бабушка! И зачем я вчера поперся туда? Дурак!
Мне вдруг снова сделалось тоскливо и плохо, аж сердце сильно забилось в груди. Я свалился на диван, громко застонал, отвернулся к стенке, закрыл глаза. «Что же будет со мной теперь?.. Елкина мать!»
Янка, желая, видимо, облегчить мои страдания, сердобольно спросил:
– Может, Боря, того?.. Опохмелишься? Я быстренько сбегаю… Деньги у тебя найдутся?
– Деньги? – повернулся я, вздохнул. – Да поистратился я, догор, пиджак вот новый купил… – Потом вытащил из кармана штанов мятую «трешку». – На, вот последняя… Только «вермуть» этот не бери, лучше «Анапу».
– Бу сделано, шеф, – шутливо козырнул Янка. – На Петровского сбегаю… Иде наша не пропадала!
Но тут мы слышим, кто – то стучится в дверь. Кто это опять? Соседи или… милиция? Шумел, вроде, вчера в коридоре, ругался… А, может, это ящик мой принесли?!
– Иди, – говорю другу, – посмотри, кто пришел.
Янка пошел открывать.
Слышу из комнаты, что, вроде, мужчина какой – то зашел, меня спрашивает. «Дома он, заходи… Сюда, сюда», – говорит ему Янка.
Человек зашел в комнату, вижу: да это… Арнольд. Опять двадцать пять! Чего это он вдруг?..
Стоит. Мы молча смотрим друг на друга, будто впервые встречаемся. Янка в недоумении хлопает глазами: чего, мол?
Арнольд вдруг четко произносит:
– Агриппина Тарасовна умерла. Она просила, чтобы ты, Борис, пришел к ней… на похороны. Обязательно. С ящиком. Это были ее последние слова.
* * *Пока я, охая и ахая, валялся на диване, Янка быстренько, лётом, притаранил бутылку «Анапы», как того я и просил. На сдачу принес булочки с маком: вот и весь наш завтрак. Выпили – закусили. Пустая бутылка полетела в ведро – бодренько звякнула там.
Вино приятно разлилось по желудку, кишкам и мозгам… Стало легче, и захотелось еще. Но на второй заход башлей оставалось у нас всего – то ничего. Наскребли по карманам медяки, но на «вторую спасительную» не хватало всего пятидесяти шести копеек. Где добрать? Ту би о нот ту би?
И тут я вспомнил, что нижняя моя соседка, баба Нюра, как – то одолжила у меня летом пятерку на табак. Она, эта очень живая, говорливая и шустрая старуха, курила всегда какие – то дюже крепкие, очень вонючие самокрутки. Чего – то там к табачку подмешивала, колдовала «по фронтовой привычке», так как служила в сорок четвертом на аэродроме у самих «ночных ведьм». С некоторыми летчиками она переписывалась до сих пор и с гордостью показывала мне их фотографии. Жили – дружили мы с бабой Нюрой хорошо, не как с другими нашими соседями, которые чуть – чего, так сразу крутят 02. Личный покой – прежде всего!


