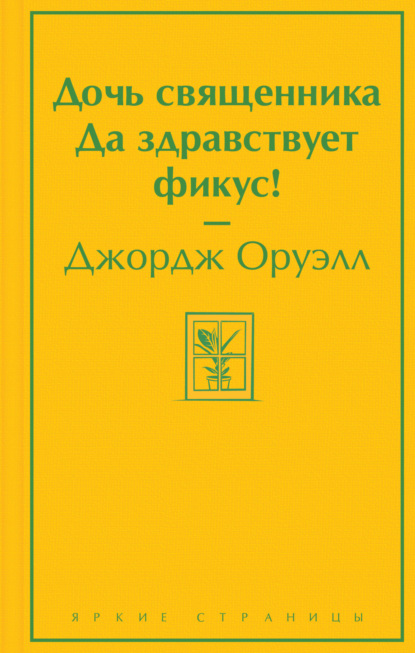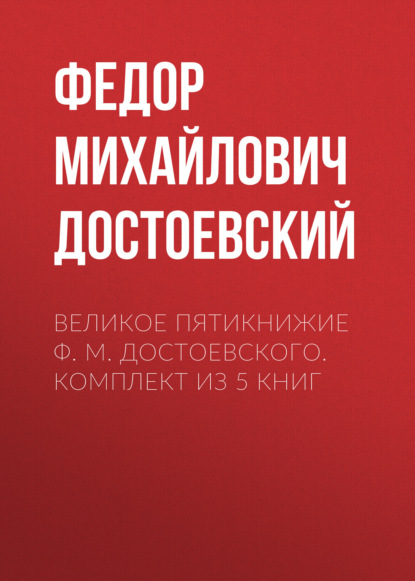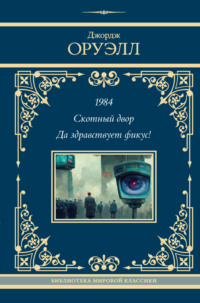Полная версия
Дни в Бирме. Глотнуть воздуха
– Женщина ушла на базар, – объявил он, довольный, что Ма Хла Мэй не командует в доме. – Ба Пе пошел за ней с фонарем, проводить домой.
– Хорошо, – сказал Флори.
Ушла тратить свои пять рупий – ясное дело, на игру просадит.
– Вода для ванной готова, святейший.
– Погоди, сперва собаку приведем в порядок, – сказал Флори. – Неси гребень.
Англичанин с бирманцем уселись на пол и принялись расчесывать шелковую шкуру Фло и ощупывать ее пальцы, вынимая клещей. Этим они занимались каждый вечер. За день Фло успевала нахватать уйму клещей – жуткие серые твари, сперва не крупней булавочной головки, раздувались от крови до размера гороха. Каждого снятого клеща Ко Сла клал на пол и усердно давил большим пальцем ноги.
Затем Флори побрился, искупался, оделся и сел ужинать. Ко Сла стоял у него за спиной, подавая блюда и обмахивая плетеным веером. В центре столика он поставил букет алых гибискусов. Блюда были затейливыми и никудышными. Начитавшись поваренных книг, преемники индийских поваров, обученных французами столетия назад, могли сотворить любое блюдо, кроме съедобного. Поужинав, Флори направился в клуб, сыграть в бридж и накидаться в хлам, как делал почти всякий вечер в Чаутаде.
5Несмотря на выпитое в клубе виски, Флори не заснул той ночью. Ущербная луна закатилась уже к полуночи, но бродячие собаки, проспавшие весь день из-за жары, исступленно выли на нее. Одна псина давно невзлюбила дом Флори и взяла себе за правило облаивать его. Она садилась в полусотне ярдов от ворот и каждые полминуты, как по часам, брехала отрывисто и злобно. Так продолжалось два-три часа, до первых петухов.
Флори ворочался с боку на бок, у него болела голова. Какой-то дурак сказал, что нельзя ненавидеть животное – ему бы не мешало провести ночь-другую в Индии, когда собаки воют на луну. В конце концов терпение Флори лопнуло. Он встал, вытащил из-под кровати жестяной армейский сундук, достал оттуда винтовку и пару патронов и вышел на веранду.
Даже при ущербной луне было довольно светло. Он видел собаку, как и мушку винтовки. Прислонившись к деревянному столбу веранды, он тщательно прицелился; когда твердый эбонитовый приклад коснулся его голого плеча, он поморщился. У винтовки была сильная отдача, оставлявшая синяк. Нежная плоть сжалась. Он опустил винтовку. Хладнокровный стрелок – это не про него.
Теперь он точно не заснет. Прихватив куртку и сигареты, Флори стал слоняться по саду, между призрачных цветов. Было жарко, и за ним неотступно вились москиты. По майдану гонялись друг за дружкой собачьи тени. Слева зловеще белели могилы английского кладбища, а чуть поодаль бугрились остатки китайских гробниц. Здесь, по слухам, водилась нечистая сила, и чокры из клуба плакали, когда их посылали через майдан в темное время.
«Шавка, бесхребетная шавка, – ругал себя Флори, впрочем, довольно вяло, как ругал уже не раз. – Трусливая, ленивая, не просыхающая, блудливая, самосозерцательная, вечно скулящая шавка. Все эти остолопы в клубе, эти тупые пентюхи, над которыми тебе так нравится превозноситься, они-то получше тебя, кого ни возьми. Они хотя бы мужчины, пусть и мужланы. Не трусы, не лжецы. Не падаль полудохлая. А ты…»
У него была причина к самобичеванию. В клубе в тот вечер произошло нечто скверное, грязное. Нечто вполне заурядное, вполне обыденное; но все равно паршивое, трусливое, бесчестное.
Когда Флори пришел в клуб, там были только Эллис и Максвелл. Лэкерстины отбыли на станцию, позаимствовав машину у Макгрегора, встречать племянницу, которая прибывала ночным поездом. Трое мужчин сели играть в бридж, и все шло вполне мирно, но затем появился Вестфилд с местной газетой «Бирманский патриот», пылая румянцем гнева на бледных щеках. В газете была клеветническая статья, порочившая мистера Макгрегора. Эллис и Вестфилд рассвирепели, как черти. Гнев их был столь велик, что Флори пришлось как следует постараться, чтобы выдавить из себя приличествующие эмоции. Эллис матерился пять минут, после чего сверхъестественная прозорливость подсказала ему, что за статьей стоит доктор Верасвами. И тут же у него в уме созрел контрудар. Они напишут и повесят на доску записку, дающую от ворот поворот недавнему предложению мистера Макгрегора. Не теряя времени, Эллис написал своим четким, убористым почерком:
«Ввиду подлого оскорбления, нанесенного намедни нашему представителю комиссара, мы, нижеподписавшиеся, желаем выразить свое мнение относительно того, что сейчас самое неподходящее время, чтобы рассматривать принятие ниггеров в клуб» и т. д. и т. п.
Вестфилд зачеркнул «ниггеров» тонкой продольной линией и написал сверху «туземцев». Внизу были поставлены подписи: «Р. Вестфилд, П. В. Эллис, С. В. Максвелл, Дж. Флори».
Эллис так обрадовался своей находке, что гнев его умерился вдвое. Сама по себе записка мало что значила, но о ней быстро станет известно в городе, и уже завтра доктор Верасвами будет в курсе. Фактически, европейское сообщество открыто называло доктора «ниггером». Эллис был в восторге. Весь остаток вечера он то и дело взглядывал на доску и радостно восклицал:
– Теперь этот толстопузик призадумается, а? Покажем этому педику, что мы о нем думаем. Вот, как с ними надо, а? И т. д. и т. п.
А Флори, стало быть, подписал публичное оскорбление своему другу. Он сделал это по той же причине, по какой уже тысячи раз делал что-то подобное; потому, что ему недоставало толики мужества, чтобы отказаться. Ведь он, конечно, мог отказаться, если бы решился; и тогда бы, конечно, Эллис с Вестфилдом ополчились против него. А Флори этого страсть как боялся! Насмешек, издевок! От одной мысли об этом он трепетал; он тут же вспоминал о родимом пятне, и горло у него сжималось, делая голос невнятным и виноватым. Только не это! Уж лучше нанести оскорбление другу – нечего и думать, что доктор не узнает об этом.
За пятнадцать лет, прожитых в Бирме, Флори успел усвоить, что нельзя перечить общественному мнению. Тем более, что он и так всегда был изгоем. Он стал им еще в материнской утробе, где волей случая получил родимое пятно. Он помнил, как пятно заявляло о себе в его жизни с раннего возраста: когда он пошел в школу, в девять лет, все на него глазели, а через несколько дней другие мальчики стали дразнить его Синяком, и это продолжалось до тех пор, пока один школьный поэт (теперь – Флори это знал – ставший критиком, автором вполне приличных статей для «Нации») не сочинил куплет:
Флори в джунгли ускакал, Морду взял у индюка.С тех пор к нему пристало прозвище Индюк. И было кое-что еще. Субботними вечерами старшеклассники устраивали «испанскую инквизицию». Излюбленной пыткой было схватить кого-нибудь жутко болезненным захватом (Особым тоголезским), известным лишь избранным иллюминатам, чтобы другой тем временем лупил несчастного каштаном на леске. Но Флори со временем вырос из «Индюка», поскольку был лжецом и хорошо играл в футбол – эти качества гарантировали успех в школе. В свой последний семестр он с приятелем напал на школьного поэта в отместку за его вирши и схватил Особым тоголезским, а капитан крикетной команды отделал его шиповкой. Это был период становления.
Из той школы Флори перешел в дешевую, третьеразрядную частную школу. Заведение было бедным, сомнительным, но подражало великим частным школам с их традициями Высокого англиканства, крикета и латыни; имелся даже школьный гимн под названием «Жизнь – это борьба», в котором Бог фигурировал в виде Великого Рефери. Недоставало только главного достоинства великих частных школ – их атмосферы подлинной культуры. Мальчики росли вопиющими невеждами. Одних розог было мало, чтобы заставить их глотать пресную кашу учебной программы, а учителя, обиженные на жизнь и свою зарплату, никак не годились в мудрых наставников. Из школы Флори вышел юным неотесанным оболтусом. Но даже тогда у него были, и он это знал, определенные наклонности; наклонности, которые, весьма вероятно, сулили ему неприятности. Конечно, он их скрывал. Мальчик, прозванный когда-то Индюком, хорошо усвоил жизненный урок, прежде чем начать карьеру.
Ему не исполнилось и двадцати, когда он прибыл в Бирму. Его родители, добрые люди, беззаветно любившие сына, нашли ему место в лесоторговой фирме. Это далось им нелегко, оплата его страховки съела все их сбережения; они писали ему письма, однако сыновняя благодарность ограничивалась беглыми отписками с интервалами в несколько месяцев. Первые полгода его бирманской жизни прошли в Рангуне, где он, как считалось, осваивал кабинетную сторону дела. Жил он в одной «норе» с четырьмя другими молодчиками, отдававшими все свои силы разврату. Да какому! Они хлестали виски, которое втайне терпеть не могли, горланили, навалясь на пианино, глупейшие, похабнейшие песенки и спускали сотни рупий на старых еврейских шлюх, страшных, как смертный грех. И это тоже был период становления.
Из Рангуна он перебрался в лагерь в джунглях, к северу от Мандалая, где добывали тиковое дерево. Жизнь в джунглях вполне его устраивала, несмотря на неудобства, одиночество и – едва ли не главное зло Бирмы – никудышную, однообразную еду. Флори тогда был еще очень молод, достаточно молод, чтобы геройская романтика кружила ему голову, и заводил друзей среди коллег. Кроме того, он охотился, рыбачил и примерно раз в год выбирался в Рангун, «к дантисту». Эх, хороши же были те рангунские вылазки! Набеги в знаменитый книжный «Смарт и Мукердам» за новыми романами из Англии, ужины в «Андерсоне», с бифштексами и маслом, проделавшими восемь тысяч миль в ящиках со льдом, грандиозные попойки! Он был слишком молод, чтобы понимать, что ждет его впереди. Не думал о веренице долгих лет одиночества, однообразия и морального разложения.
Он акклиматизировался в Бирме. Организм его привык к перепадам тропического климата. Каждый год с февраля по май солнце палило с небосвода, словно злой бог, затем налетал западный муссон, и вскоре хлесткий шквалистый ветер сменялся дождем, точнее ливнем, вымачивавшим все, что только можно: одежду, постель и даже еду. Жара не спадала, только добавлялось влажной духоты. Низины в джунглях превращались в топи, а рисовые поля – в трясину, источавшую затхлый запах. Обувь плесневела, как и книги. Полуголые бирманцы в широченных шляпах из пальмовых листьев вспахивали рисовые поля, погоняя волов по колено в воде. Затем женщины и дети высаживали зеленую рисовую рассаду, вминая каждый росток в грязь маленькими трехзубыми вилками. В июле и августе дождь лил почти беспрерывно. Затем в какую-то ночь с высоты доносился птичий клич – это невидимые бекасы летели на юг из Центральной Азии. Дождь начинал стихать и прекращался в октябре. Поля высыхали, всходил рис, бирманские ребятишки играли в классики, гоняя по земле семена бамбука, и запускали воздушных змеев на прохладном ветру. В начале короткой зимы возникало впечатление, что Верхнюю Бирму навещает призрак Англии. Повсюду расцветали полевые цветы, не сказать, чтобы английские, но очень похожие: пышная жимолость, шиповник с ароматом грушевых леденцов, даже фиалки в темных лесных уголках. Солнце держалось низко, с ночи до рассвета резко холодало, по долинам стелился белый туман, словно пар от гигантских чайников. Наступала пора стрелять уток и бекасов – их была тьма. С болот поднимались стаи диких гусей со звуком товарняка, несущегося по железному мосту. Рис колосился по грудь, желтый, словно рожь. Бирманцы выползали из домов, закутав головы, пряча руки под мышки и насупив от холода свои желтые лица. По утрам Флори шагал через хмурую туманную чащу с прогалинами росистой, почти английской травы между голых деревьев, на верхушках которых кучковались обезьяны в ожидании солнца. По вечерам, на обратном пути в лагерь, ему встречались буйволы, погоняемые мальчишками, и широкие рога плыли в промозглом тумане, точно полумесяцы. Все укутывались тремя одеялами, а неизменная цыплятина сменялась пирогами с дичью. Поужинав, англичане усаживались на бревна у большого костра, пили пиво и болтали об охоте. Красное пламя плясало, словно живое, отбрасывая круг света, по краю которого ютились слуги и кули[37], робевшие приближаться к белым, но тянувшиеся к огню, подобно собакам. Лежа в кровати было слышно, как с ветвей шелестит роса, словно крупный, тихий дождь. Хорошая жизнь, пока ты молод и тебя не тревожат мысли ни о будущем, ни о прошлом.
Флори было двадцать четыре, и он собирался в отпуск на родину, когда разразилась война. Он сумел уклониться от воинской службы, что было несложно и казалось в то время естественным. Штатские в Бирме убеждали себя для собственного спокойствия, что подлинный патриотизм состоял в том, чтобы «служить делу» (главное, делать акцент на слове «служить»); более того, те, кто оставил работу и ушли на фронт, вызывали негласную неприязнь. Но правда была в том, что Флори не пошел на войну потому, что Восток уже развратил его, и ему не хотелось менять виски, слуг и бирманских девок на скучные строевые учения и тяготы солдатской жизни. Война рокотала где-то за горизонтом, словно далекая буря. Но безопасность в этой жаркой, неряшливой стране обернулась чувством одиночества, заброшенности. Флори пристрастился к чтению и стал жить в книгах, когда жизнь утомляла его. Забавы юности приедались, он взрослел и как бы поневоле учился думать своим умом.
Двадцать седьмой день рождения он отметил в больнице, с ног до головы покрытый жуткими язвами – врачи называли их грязевыми язвами, но, скорее всего, в них было повинно виски и плохое питание. После этого кожа Флори еще два года оставалась рябой. Как-то незаметно он стал выглядеть и чувствовать себя гораздо старше. Юность осталась позади. Восемь лет в Азии, лихорадка, одиночество и периодические запои не прошли бесследно.
С тех пор его год от года все больше разъедало одиночество и горечь. А горше и неотступней всего сделалась его ненависть к атмосфере империализма, в которой он жил. По мере того как мозг его развивался – мозг развивается непроизвольно, и одна из трагедий недоучек в том, что это развитие наступает у них довольно поздно, когда они уже вовсю увязли в какой-нибудь гадости – ему открывалась истина об английском империализме. Индийская империя – это деспотия (великодушная, вне всякого сомнения, но все же деспотия), в основе которой лежит воровство. А что касалось колониальных англичан, всего этого сахибства, Флори проникся к ним, как к ближайшим соседям, такой неприязнью, что уже не мог смотреть на них непредвзято. Ведь, в конечном счете, эти несчастные черти были не хуже других. Жизнь у них незавидная: невелик барыш за тридцать лет скудно оплачиваемой работы в чужой стране, после которых возвращаешься на родину с убитой печенью и скрюченной в плетеных креслах спиной, чтобы прослыть на склоне лет занудой в каком-нибудь второсортном клубе. При всем при том «институт сахибства» безобразно идеализируется. Согласно общепринятому мнению, англичане, занятые на «аванпостах Империи», во всяком случае, способны и трудолюбивы. Это заблуждение. За исключением научно-технических областей – Лесного департамента, Департамента общественных работ и т. п. – нет никакой необходимости в британских представителях в Индии. Мало кто из них вкладывает в свою работу больше сил и ума, чем почтмейстер провинциального английского городка. Основную административную работу выполняют по большей части туземные служащие; что же касается основной опоры деспотии, то это не чиновники, а армия. Благодаря армии чиновники и бизнесмены, даже тупые, как пробка (и большинство из них действительно тупые), могут вполне надежно устраивать свои дела. Добропорядочные тупицы, лелеющие и пестующие свою тупость под защитой четверти миллиона штыков.
Жизнь в таком мире удушает, опустошает. Всякое слово и всякая мысль в таком мире подлежат цензуре. В Англии трудно даже вообразить подобную атмосферу. На родине англичане свободны: они продают свои души в общественной жизни и выкупают в жизни частной, среди друзей. Но дружба едва ли возможна, когда человек все время является винтиком в машине деспотии. Свобода слова немыслима. Все прочие виды свободы доступны. Ты свободен быть пьяницей, лодырем, трусом, сплетником, развратником; не свободен только думать своей головой. Твое мнение по любому более-менее существенному вопросу диктует тебе кодекс пакка-сахиба.
В итоге твое тайное бунтарство точит тебя, словно скрытая болезнь. Вся твоя жизнь становится пропитана ложью. Год за годом ты сидишь в зачуханных клубах, словно сошедших со страниц Киплинга, справа от тебя виски, слева журнал «Мир спорта», а полковник Дуболом разглагольствует с твоего одобрения о том, что этих паршивых националистов надо варить в масле. Ты слышишь, как твоих туземных друзей называют «грязными индюками», и покорно признаешь, что они и есть грязные индюки. Ты видишь, как оболтусы, только вчера ходившие в школу, раздают пинки престарелым слугам. И в какой-то момент в тебе вскипает ненависть к соотечественникам, и ты жаждешь, чтобы туземцы подняли бунт и утопили в крови эту Империю. И дело тут вовсе не в героизме или хотя бы сострадании. Ибо, au fond[38], какое тебе дело, если Индийская империя – деспотия, если индийцев притесняют и эксплуатируют? Все, что тебя волнует, это что тебе отказано в свободе слова. Ты – порождение деспотии, пакка-сахиб, связанный по рукам и ногам, словно монах или дикарь, нерушимой системой табу.
Время шло, и год за годом Флори все меньше чувствовал себя своим в кругу сахибов, все больше рисковал нажить себе врагов, когда говорил всерьез о чем бы то ни было. Поэтому он приспособился жить внутренней жизнью, скрытно, в книгах и тайных мыслях, которых нельзя было высказать. Даже в разговорах с доктором Верасвами он в некотором смысле говорил с собой; ведь доктор, добрый человек, мало что понимал из слов Флори. Когда твоя подлинная жизнь скрыта от окружающих, это разъедает душу. Жить надо по течению жизни, не против. Уж лучше быть твердолобым пакка-сахибом, из которого ничто не выжмет слезу, кроме школьного гимна «Через сорок лет», чем жить в молчании, в одиночестве, находя отдушину в тайных, стерильных мирах.
Флори никогда не ездил домой, в Англию. Почему, он затруднялся сказать, хотя вполне понимал, в чем было дело. Поначалу ему мешали непредвиденные обстоятельства. Сперва была война, а после войны его фирма испытывала такой недостаток квалифицированных специалистов, что ему не давали отпуска еще два года. Затем он наконец двинулся в путь. Ему не терпелось увидеть Англию, хотя он и боялся встречи с ней, как боишься встречи с красивой девушкой, когда растрепан и небрит. Из дома он уехал мальчишкой, подающим надежды и привлекательным, несмотря на родимое пятно; теперь же, всего десять лет спустя, он пожелтел, осунулся, пристрастился к выпивке и в целом производил впечатление человека в годах – как внешне, так и по привычкам. И все же ему не терпелось увидеть Англию. Корабль скользил по морю на запад, словно потертая серебряная посудина, оставляя за кормой зимний пассат. Хорошая еда и морской воздух разгоняли жидкую кровь Флори. И ему подумалось – он совершенно забыл об этом в застойном бирманском воздухе, – что он еще достаточно молод, чтобы начать все сначала. Он поживет год в цивилизованном обществе, найдет какую-нибудь девушку, которая не испугается его пятна – культурную девушку, не пакка-мемсахибу[39] – и женится на ней, после чего проживет с ней в Бирме еще лет пятнадцать. Затем они выйдут на пенсию – он к тому времени скопит, пожалуй, тысяч двенадцать-пятнадцать. Они купят сельский домик, окружат себя друзьями, книгами, детьми, животными. И никогда уже не потревожит их дух сахибства. Бирма, эта ужасная страна, едва не погубившая его, будет предана забвению.
В порту Коломбо Флори ждала телеграмма. Трое его коллег внезапно скончались от черноводной лихорадки. Фирма выражала сожаление, но просила его немедленно вернуться в Рангун. Ему предоставят отпуск при первой возможности.
Флори пересел на первое судно до Рангуна, проклиная свою невезучесть, и приехал поездом в штаб-квартиру. Он тогда жил не в Чаутаде, а в другом городе Верхней Бирмы. На платформе его ожидали все слуги. Совсем недавно он препоручил их en bloc[40] своему преемнику, а тот возьми да умри. Так чудно было снова видеть их знакомые лица! Каких-то десять дней назад он устремлялся в Англию и мысленно уже был там; теперь же он вернулся в опостылевшие ему места, с голыми черными кули, таскавшими багаж, и каким-то бирманцем, бранившим своих волов чуть дальше по дороге.
Слуги окружили его кольцом добрых смуглых лиц, протягивая подарки. Ко Сла – выделанную кожу, индийцы – всякие лакомства и цветочную гирлянду, Ба Пе, тогда еще мальчишка, протягивал ему белку в плетеной клетке. Воловьи упряжки стояли наготове, ожидая багажа. Когда Флори подошел к своему дому, с нелепой цветочной гирляндой на шее, окна его светились в холодных сумерках желтым теплым светом. У ворот старый индиец, похожий на чернослив, косил траву крошечным серпом. Жены повара и мали[41] сидели на пороге людской и растирали карри на каменной плите.
Что-то перевернулось в сердце Флори. Он пережил один из тех моментов, когда человеку открывается огромность и необратимость перемен, случившихся в его жизни. Он вдруг осознал, что в глубине души был рад, что вернулся. Эта страна, которую он ненавидел, стала ему родной, его домом. Он прожил здесь десять лет, и каждая частица его тела впитала бирманскую почву. Такие сцены, как эта – желтоватый вечерний свет, старый индиец, косящий траву, скрип деревянных колес, проносящиеся в небе цапли – были ему привычней, чем Англия. Он пустил глубокие корни, возможно глубже, чем где бы то ни было в чужой земле.
С тех пор он больше не заикался про отпуск. Отец его умер, затем и мать, а сестры, сварливые женщины с лошадиными лицами, которые ему никогда не нравились, вышли замуж и почти перестали писать ему. Его уже ничто не связывало с Европой, не считая книг, которые он читал. И он осознал, что само по себе возвращение в Англию не излечит его от одиночества; он постиг особую природу того ада, который уготован англо-индийцам. Ох уж эти горемычные старые зануды в Бате и Челтнеме! Эти похожие на склепы пансионы с англо-индийцами на всех стадиях деградации, без конца толкующими о мятеже бирманцев в Боггливале сорокалетней давности! Бедные черти, они знают, что значит оставить свое сердце в чужой стране, которую ненавидишь. У него был – он видел это ясно – только один выход. Найти кого-то, кто разделит с ним жизнь в Бирме – по-настоящему разделит, включая его внутреннюю, тайную жизнь, и вынесет из Бирмы те же воспоминания, что и он. Кого-то, кто будет любить и ненавидеть Бирму так же, как и он. Кто позволит ему жить, ничего не скрывая, ничего не оставляя под спудом. Кто поймет его: друг, вот в ком он нуждался.
Друг. Или жена? Эта совершенно невозможная вторая половина. Кто-нибудь, к примеру, вроде миссис Лэкерстин? Какая-нибудь чертова мемсахиба, тощая и желтушная, которая капризничает из-за коктейлей, сводит счеты со слугами и за двадцать лет жизни в этой стране не выучила на туземном языке ни слова? Боже упаси, только не одна из этих.
Флори перегнулся через ворота. Луна почти скрылась за темной стеной джунглей, но собаки все еще выли. Ему на ум пришли строчки откуда-то из Гилберта[42], глупая вульгарная припевка, но к месту – что-то насчет «излияний о вашем сложном душевном состоянье». Гилберту, сукину сыну, таланта было не занимать. Так что же, все его проблемы сводились к этому? К обычному позорному нытью, мелодраме бедной-несчастной-богатой девочки? Неужели он просто-напросто лодырь, придумывающий от безделья несуществующие беды? Призрачная миссис Уититтерли?[43] Гамлет без поэзии? Пожалуй. А если и так, облегчало ли это его положение? Нет, горечь не убывала при мысли, что ему некого винить, кроме себя, видеть, как он мечется, разлагается, мирится с бесчестьем, признавая свое бессилие, и знать при этом, что где-то в глубине его заложена возможность стать порядочным человеком.
Что ж, избавь нас бог от жалости к себе! Флори вернулся к веранде, взял винтовку, направил на бродячую собаку и, чуть морщась, спустил курок. Грохот раскатился эхом, и пуля зарылась в майдан, мимо цели. По плечу Флори стал расползаться бордовый синяк. Собака в страхе взвизгнула и бросилась наутек, но, отбежав на полсотни ярдов, продолжила брехать в прежнем ритме.
6Утренний свет разлился по майдану и ударил, желтый, как сусальное золото, по белому фасаду бунгало. На перила веранды уселись четыре черно-лиловых вороны, рассчитывая улучить момент и стянуть бутерброд, который Ко Сла положил у кровати Флори. Флори высунулся из-за москитной сетки, прокричал, чтобы Ко Сла принес ему джину, а затем пошел в ванную и какое-то время сидел в цинковой бадье, наполненной как бы холодной водой. После джина ему стало лучше, и он побрился. Как правило, он не брился до вечера, поскольку щетина его была черной и росла быстро.
В то время, как Флори угрюмо отмокал в бадье, мистер Макгрегор, в шортах и майке, расстелил у себя в спальне бамбуковую циновку и выполнял, не жалея сил, упражнения 5, 6, 7, 8 и 9 «Гимнастики для малоподвижных» Норденфлихта. Мистер Макгрегор никогда – или почти никогда – не пропускал утренней гимнастики. Упражнение 8 (лечь на спину и поднимать ноги перпендикулярно полу, не сгибая коленей) было исключительно болезненным для человека сорока трех лет; упражнение 9 (лечь на спину, подняться в сидячее положение и коснуться пальцами рук пальцев ног) было еще хуже. Не важно, нужно поддерживать себя в форме! Когда мистер Макгрегор вытянулся, превозмогая боль, к ногам, шея его и лицо побагровели, грозя апоплексическим ударом. Его большая жирная грудь лоснилась от пота. Ну же, ну же! Любой ценой нужно поддерживать форму. Через приоткрытую дверь за ним наблюдал слуга, Мохаммед Али, держа наготове чистую одежду для хозяина. Его арабское лицо, узкое и желтое, не выражало ни сочувствия, ни любопытства. Он наблюдал эти конвульсии – самоистязание, как он смутно догадывался, во имя неведомого сурового бога – каждое утро в течение последних пяти лет.