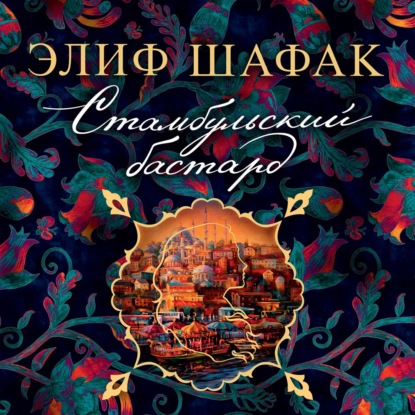Полная версия
Дороги, ведущие в Эдем. Полное собрание рассказов
– Прекрати эту бесовскую какофонию! Ни днем ни ночью от тебя покоя нет! Вылазь из-за пианино, кому сказано? Оно не твое, а мое, и если ты не перестанешь его терзать, я тебя засужу, глазом моргнуть не успеешь!
Ну завидует тетка, что у меня врожденные способности к музыке, а песни моего сочинения просто за душу берут.
– Полюбуйтесь, господин Сильвестер, во что превратились клавиши настоящей слоновой кости, – твердит она, ковыляя к пианино. – Ты их с мясом вырвал, чисто из вредности, вон что наделал!
А сама распрекрасно понимает, что еще до моего появления в доме инструменту этому самое место было на свалке.
На что я ответил:
– Все-то вы знаете, мисс Оливия-Энн, но я тоже не промах, и вас, очевидно, заинтересуют те истории, что я могу поведать. Кое-кто спасибо скажет за мои рассказы. К примеру, о печальной судьбе Миссис-Гарри-Стеллер-Смит.
Помните Миссис-Гарри-Стеллер-Смит?
Старуха заглохла и покосилась на пустую клетку.
– Ты же мне обещал… – начала она и прямо посинела, вот ужас-то.
– Может, – говорю, – обещал, а может, и нет. Вы поступили не по-христиански, обманув Юнис, однако же, если кое-кто оставит кое-кого в покое, то я, возможно, обо всем забуду.
И что вы думаете? Убралась она из гостиной тише воды ниже травы – чего еще желать? Прилег я на диван, в жизни не видал такой мерзкой рухляди. Диван этот – из гарнитура, который Юнис приобрела в тысяча девятьсот двенадцатом году в Атланте за две тыщи баксов наличными – ну, опять же, это она так говорит. Гарнитур обит черным плюшем с зелеными загогулинами и воняет мокрой курицей. В углу гостиной стоит необъятных размеров стол, который служит постаментом для портретов матери и отца Ю. и О.-Э. Папаша вроде даже солидный человек, но сдается мне (строго между нами), что у него в роду затесались черные. В Гражданскую войну он сражался в чине капитана – это я твердо усвоил благодаря сабле, которая красовалась над камином; сейчас и до нее дойдет речь. А мамаша с виду какая-то пришибленная, дурковатая – Оливия-Энн как раз в нее пошла, хотя у матери вид более достойный.
Только я задремал – слышу вопли Юнис:
– Где он? Где он?
И в следующий миг вижу, как она – бегемотиха такая, да еще руки в боки, – загородила собой дверной проем, а за спиной у нее все стадо копытится: Блюбелл, Оливия-Энн и Мардж.
Несколько секунд Юнис притопывала толстой босой ногой и обдувала жирную рожу картонной репродукцией с видом Ниагарского водопада.
– Где они? Где мои кровные сто долларов, которые он стянул, злоупотребляя моей доверчивостью?
– Ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Мое терпение лопнуло, – выговорил я, но из-за жары так разомлел, что не смог без промедления вскочить с дивана.
– Сейчас у тебя кое-что другое лопнет, – голосит она, а у самой зенки вот-вот из орбит вылезут. – Деньги эти скоплены мне на похороны, и я требую их вернуть. Сразу видать: такой и мертвого оберет – не побрезгует.
– Так, может, это не он, – промямлила Мардж.
– А вас, девушка, не спрашивают, – отрезала Оливия-Энн.
– Это он, он стырил, как пить дать, – заключила Юнис. – Да вы в глаза ему загляните: черные, вороватые!
Я зевнул и ответил:
– Как говорят в суде, если одна сторона выдвигает ложные обвинения в адрес другой стороны, то первая сторона может быть заключена под стражу, даже если для защиты всех причастных лиц достаточно запереть первую сторону в психлечебнице штата.
– Бог правду видит, да не скоро скажет, – голосит Юнис.
– Сестрица, – распалилась Оливия-Энн, – коли не скоро, ужель мы без Него не управимся?
И Юнис как с цепи сорвалась – бросилась ко мне с неописуемым выражением лица, подметая пол своей хламидой. Оливия-Энн засеменила чуть позади, а Блюбелл взвыла так, что этот вой, наверное, долетел до Юфалы[8] и эхом вернулся обратно; Мардж тем временем стоит поодаль, заламывает руки и скулит:
– Ну пожалуйста, пупсик, отдай ты ей эти деньги.
В ответ я только и сказал:
– Et tu, Brute?[9] – (Это из Шекспира.)
– Нет, вы на него полюбуйтесь, – заводит Юнис, – отлеживает тут задницу изо дня в день, даже марки почтовой не лизнет.
– Жалкая личность, – кудахчет Оливия-Энн.
– Можно подумать, ребенка вынашивает он, а не бедная наша девочка, – продолжает Юнис.
А Блюбелл поддакивает:
– И то правда.
– Неужто, – говорю, – закопченные кастрюли пришли котелку за черноту пенять?
– И как этому мерзавцу наглости хватает оскорблять меня в моем же доме, где он проедается три месяца кряду? – орет Юнис.
Я аккуратно стряхиваю пепел с рукава и не моргнув глазом отвечаю:
– Доктор Картер диагностировал у меня тяжелую форму цинги, а потому нервничать мне противопоказано, иначе изо рта пена хлынет и я, не ровен час, кого-нибудь укушу.
И тут Блюбелл осмелела:
– А почему б ему не вернуться к своему отребью, в Мобил, мисс Юнис? Я уж запарилась ведро за ним выносить.
Лучше бы эта черномазая молчала, потому как своим выпадом она меня взбесила так, что в глазах потемнело.
Внешне спокойный как удав, поднимаюсь я с дивана, вытаскиваю из подставки зонт – и давай лупить черномазую по башке, пока зонт не переломился точнехонько пополам.
– Ах, мой шелковый японский зонтик! – заверещала Оливия-Энн.
Мардж – в слезы:
– Ты убил Блюбелл, убил несчастную Блюбелл!
Юнис толкает Оливию-Энн в бок:
– Не иначе как он спятил, сестрица! Беги! Беги за мистером Таббервилем!
– Не люблю я мистера Таббервиля, – заявляет Оливия-Энн. – Побегу лучше за своим тесаком.
И только она рванулась к дверям, как я, почуяв смертельную опасность, повалил ее коронным блокирующим захватом. Но при этом сильно потянул спину.
– Он ее укокошит! – завыла Юнис, да так пронзительно, что оконные стекла задребезжали. – Он всех нас укокошит! Я тебя предупреждала, Мардж! Быстро, дитя, подай-ка мне отцовский клинок!
И Мардж, сняв со стены саблю, протягивает ее Юнис. Извольте: преданность жены мужу! Дальше – больше: Оливия-Энн саданула мне по колену, да так, что я волей-неволей ослабил захват. В следующий миг она уже мчалась по улице и распевала:
– Я увидел, как во славе сам Всевышний нам предстал и могучею стопою гроздья гнева разметал…[10]
Тем временем Юнис носилась по гостиной, размахивая саблей направо и налево, – я едва успел на пианино забраться. Тогда она взгромоздилась на круглый стул-вертушку (как он уцелел под весом этого чудовища – загадка).
– А ну слезай, – орет, – подлый трус, покуда я тебя на фарш не порубила! – и наносит удар саблей: царапина с полпальца осталась, могу показать.
К этому моменту Блюбелл уже оклемалась – и шмыг на улицу вслед за Оливией-Энн. Думаю, они всерьез вознамерились меня порешить, и один бог знает, чем бы кончилось дело, если бы Мардж не грохнулась в обморок.
Вот и все, что я могу сказать о ней хорошего.
Дальнейшее точно изложить не берусь; помню только, как нарисовалась вооруженная здоровенным тесаком Оливия-Энн во главе оравы соседей. Но коль скоро гвоздем программы стала Мардж, ее, наверное, сообща поволокли в спальню. В общем, стоило им отойти, как я немедленно забаррикадировался.
Завалил дверь вонючими черно-зелеными креслами, придвинул огромный стол красного дерева, весом в пару тонн как минимум, а до кучи – стойку для шляп и прочий хлам. Окна закрыл, опустил шторы. Весьма кстати нашел пятифунтовую коробку вишни в шоколаде, «Сладкая любовь» называется, и только что надкусил сочную, мягкую вишенку. Время от времени кто-то барабанит в дверь с другой стороны, голосит и умоляет. То-то же, вон как теперь запели. Ну а я что… я, в свою очередь, то и дело наигрываю им какой-нибудь мотивчик – пусть не сомневаются: настроение у меня превосходное.
Перевод Е. Петровой
Суеверие Причера
(1945)
Плывущая к югу туча заслонила солнце: темный островок тени навис над полем и медленно пополз через гору. А вскоре полил дождь. Летний дождь в солнечный день идет недолго – но и его достаточно, чтобы прибить пыль и отполировать листву. Когда дождь закончился, старый негр – звали его Причер – открыл дверь хижины и обвел взглядом поле, где из жирной земли буйно лезли сорняки, и каменистый двор, купающийся в тени персиковых деревьев, кустов кизила и сирени, потом поглядел на утрамбованный глинистый тракт, где редко появлялись не только машины и повозки, но даже и путники, и наконец уставился на выгнувшуюся дугой гряду зеленых гор, что тянулись, наверное, до самого края земли.
Причер был мал ростом, можно сказать недомерок, и все его лицо покрывала сетка морщин. Из его синеватого черепа торчали клоки серебристой шерсти, а в глазах затаилась печаль. Годы настолько его согнули, что он напоминал ржавый серп, а его коричневая кожа была с желтоватым отливом, как у сыромятного ремня первоклассной выделки. Он оглядывал свою запущенную ферму и задумчиво поглаживал пальцами подбородок, хотя, по правде сказать, никакие мысли его не посещали.
Было, как всегда, тихо, но на прохладном воздухе Причеру стало зябко, и он вернулся в хижину, устроился в кресле-качалке и, обернув ноги красивым лоскутным одеялом в зелено-розовую клетку с красными листьями, уснул. Тишину в доме нарушал только рвавшийся в распахнутые настежь окна ветер, теребивший яркие листы календарей и шуршавший вырезками комиксов, которыми он украсил стены своего жилища.
Через четверть часа Причер пробудился, потому как он никогда не засыпал надолго и все дни его давно превратились в череду коротких периодов сна и бодрствования, тьмы и света и мало чем отличались друг от друга. И хотя в доме было не слишком холодно, он разжег огонь в очаге, набил свою трубочку и стал, раскачиваясь в кресле, оглядывать комнату. На железной двуспальной кровати лежали внавалку одеяла и подушки, и вся она была усыпана чешуйками облупившейся розовой краски; отломанный подлокотник его кресла висел на честном слове и уныло постукивал; красивый рекламный плакат с золотоволосой девушкой, держащей в руке бутылку лимонада, прорвался в том месте, где у девушки был рот, отчего ее улыбка смахивала на блудливую ухмылку. Взгляд Причера остановился на плите в углу. Он проголодался, но от вида закопченной и покрытой угольной пылью плиты, заставленной горой грязных кастрюль, ему было невмоготу даже подумать о стряпне. «А что я могу, ничего я не могу! – сердито отрезал он – так иные старики привычно препираются сами с собой. – Мне до смерти надоела и капуста, и прочая дрянь. Буду вот так сидеть, пока не подохну с голоду, – вот что меня ждет! Готов поставить последний доллар на то, что ни одна собака не будет горевать по этому поводу, никак нет!» Эвелина, вот та была чистюля, аккуратистка, заботливая… но она умерла и уже две весны как лежит в земле. А из всех их детей осталась одна Анна-Джо, которая нашла хорошую работу в Сайпрес-Сити: мало того что жилье есть, так еще может каждый вечер веселиться сколько захочет. Во всяком случае, Причеру нравилось так думать.
Он был очень религиозный. И когда день стал клониться к вечеру, он снял с полки Библию, раскрыл и стал водить по строчкам трясущимся сухим пальцем. Ему нравилось делать вид, будто он читает, и он растягивал удовольствие: разглядывал иллюстрации и сочинял свои собственные предания. Эвелину эта его привычка всегда раздражала. «Ну и чего ты все время пялишься в Писание, а, Причер? Я же знаю, что у тебя мозгов для этого маловато… Ты же читать умеешь не больше моего!»
«Ну что ты, солнце мое, – возражал он, – кажный могет читать Добрую Книгу. Господь так все складно написал, что всякий могет!» Такое разъяснение он как-то услышал от пастора в Сайпрес-Сити, и оно его вполне устроило.
Когда солнце нарисовало ровное пятно от окна до двери, он закрыл Библию, заложив страницу пальцем, и проковылял на порог. С потолка на проволочках свисали синие и белые горшки с папоротником, чьи длинные стебли стлались по полу, точно распущенные павлиньи хвосты. С превеликой осторожностью, прихрамывая, он медленно спустился по ступенькам, вырубленным из древесных стволов, и встал посреди двора, сгорбленный, тщедушный в своем рабочем комбинезоне и рубашке цвета хаки. «Вот он я. Уж и не думал, что получится. Не думал, что сегодня найду в себе силы».
В воздухе пахло влажной землей, и ветер ерошил листву кизиловых кустов. Закричал петух, и его алый гребешок на миг взметнулся над высоким бурьяном и исчез за домом.
– Ты беги-беги, петушок, а не то возьму свой секач да оттяпаю тебе башку, так что ты поберегись! Но супчик из тебя вышел бы на славу! – Острые стебельки защекотали его босые ступни, он остановился и, зажав в ладони пучок травы, дернул. – А, бесполезно… Все равно ты тут же отрастешь снова, негодная трава!
Кизиловые кусты у дороги вовсю цвели, и дождь разбросал лепестки, которые мягко касались босых ног и застревали между пальцев. Причер брел, опираясь на палку, вырезанную из ветки сикоморы. Перейдя через дорогу и миновав заросли дикого пекана, он, по обыкновению, выбрал тропку, ведущую через лес к ручью и прямиком к Тому месту.
То же самое путешествие, тем же самым путем, в то же самое время: ближе к вечеру, – потому что так ему было проще достичь поставленной цели. Эти прогулки начались однажды в ноябре, когда он пришел к своему Решению, и продолжались всю зиму, когда землю прихватило морозом и мерзлые сосновые иголки липли к ступням.
Теперь был месяц май. Прошло полгода, и Причер, который родился в мае и женился в мае, подумал, что в этом же месяце суждено закончиться его миссии. Он верил, что именно сегодняшний день отмечен неким знаком, поэтому сегодня он ковылял по своей тропе быстрее обычного.
Солнечный свет собирался длинными пучками, путался у него в волосах и перекрашивал испанский лишайник, свисающий длинными поникшими усами с веток, заставляя серое превращаться в перламутровое, а потом в голубое и снова в серое. Застрекотала цикада. На ее стрекот тотчас откликнулась другая.
– А ну цыц, жуки! Чего это вы расшумелись? Одиноко вам, что ли?
Тропинка все норовила сбить его с толку, и иногда, оттого что на самом деле это была всего лишь узенькая полоска утоптанной земли, он терял ее из виду. Вдруг тропка резко спустилась в лощину, где пахло сладкой смолой, – отсюда начинался самый трудный отрезок пути: в густых зарослях дикого винограда было темно хоть глаз выколи, и кто-то, а кто – Бог ведает, грозно раскачивал нависающие с обеих сторон тяжелые ветки…
– А ну кыш оттудова, черти! Ваше поганое отродье не могет напугать Причера. И вы, чертовы призраки, поберегитесь! Причер идет! Вот он вам башку раскроит, да кожу сдерет, да зенки выколет и все ваше отродье отправит в геенну огненну!
И все же его сердце заколотилось сильнее, и палка грозно застучала по тропе, словно кому-то в предостережение; а зверь затаился где-то позади; и ужасные глаза, горящие адским огнем, зыркали из невидимого логовища.
Эвелина, насколько он помнил, в духов не верила, и это всегда его раздражало. «Замолчи, Причер, – бывало, говорила она, – я больше слышать не хочу твои дурацкие бредни про призраков. Нету никаких призраков, разве что в твоей глупой башке!» О-хо-хо, какая же она сама была глупая, ибо теперь, Господь в небесах свидетель, она обреталась среди хищников с голодными глазами, таящихся во мраке. Он прислушался и позвал: «Эвелина? Эвелина… отзовись, солнце мое!» И поспешил дальше, вдруг испугавшись, что настанет час, и она услышит его зов и, не ведая, кто это, сожрет его заживо.
Скоро послышалось журчанье ручья. От ручья до Того места оставалось пройти всего-то несколько шагов. Он раздвинул колючие кусты крапивы и, кряхтя от натуги, спустился к берегу, пересек поток, с заученной точностью ступая по камням. Косячки гольянов нервно метались на прозрачном мелководье, изумрудные стрекозы цеплялись за водную гладь. На противоположном берегу колибри, треща невидимыми крыльями, пронзал клювом сердце огромной тигровой лилии.
Тут деревья поредели, а тропинка, расширившись, выбежала на вырубку, похожую на полый кубик посреди леса. Вот оно, Причерово То место. Раньше, еще когда лесопилка работала, здесь стояла женская помывочная, но это было очень давно. Стайка ласточек пронеслась над головой, и тут же невдалеке послышалась чудное, настойчивое пенье неведомой птицы.
Причер выбился из сил и запыхался. Он упал на колени и прислонил палку к сгнившему дубовому пню, из которого гроздьями торчали шапки дождевиков. Потом, раскрыв Библию на странице, заложенной серебряной ленточкой, он сложил руки и поднял голову к небу.
Прождав в молчании несколько минут, он сощурился, вглядываясь в небесный свод и в дымные космы облаков, которые, точно клоки льняной пакли цвета матового стекла, едва заметно плыли по голубой тверди.
А потом позвал шепотом:
– Миста Исус! А, миста Исус?
Ему ответил ветер, взметнув вихрь сопревших за зиму листьев, которые завертелись колесами по зеленому ковру мха.
– Я вернулся, миста Исус, как и обещался, минута в минуту. Прошу вас, сэр, обратите свой взгляд на старого Причера.
Уверенный, что его слова услышаны, он печально улыбнулся и помахал рукой. Настала пора поведать все, что у него на душе. И Причер рассказал, что очень стар, а сколько ему – девяносто, а может, и сто, – он и сам не знает. И что он давно забросил свою ферму, и что в доме никого нет. А если бы кто из семьи с ним сейчас жил, тогда все могло бы быть по-другому. Осанна! Но Эвелина скончалась, а что с их детьми? Где они все: Билли-Бой, и Жасмин, и Лэндис, и Лерой, и Анна-Джо, и Бьютифул-Лав? Кто-то в Мемфисе, и в Мобиле, и в Бирмингеме, а кто-то и в могиле. В общем, никого не осталось. Они бросили землю, на которой он все жизнь работал от зари до зари, и теперь поле запущено, и ему так страшно по ночам в старом доме, потому что вокруг ни души: козодой на дереве – вот и вся его компания. И как же это жестоко – удерживать его здесь, когда он мечтает соединиться с другими, где бы они ни были.
– Слава тебе, миста Исус. Я такой старый, как самая старая черепаха, даже старее…
В последнее время он заимел привычку возносить свою мольбу по многу раз, и чем дольше он молился, тем все громче и все требовательнее звучал его голос, и в конце концов он зашелся свирепым пронзительным криком, который распугал соек, наблюдавших за ним с сосновых веток.
Он резко осекся, склонил голову и прислушался. Снова повторился этот странный, тревожный звук. Он поглядел направо, потом налево и вдруг узрел чудо: прямо на него, возвышаясь над зарослями кустов, наплывала огненная голова, покрытая ярко-рыжими курчавыми волосами, и изумительной красоты борода окаймляла нижнюю часть лица. Хуже того: ему явился и второй лик – тот был чуть бледнее, но еще более сияющий – и медленно двигался следом за первым.
От страха и изумления лицо Причера онемело и он застонал. Никто и никогда еще во всем округе Калупа не слышал столь печального стона. На вырубку из кустов выскочил черный с коричневыми подпалинами охотничий пес; он свирепо рычал, и с его клыков свисали длинные слюни. А потом из тени появились двое незнакомых мужчин, одетых в зеленые рубахи с расстегнутым воротом и в подтяжках из змеиной кожи, на которых держались плисовые штаны. Оба были невысокие, но крепко сложенные и широкоплечие, один курчавый, с видной огненно-рыжей бородой, а другой желтоволосый, с гладко выбритыми щеками. Они несли подвешенную к бамбуковой жерди убитую рысь, и на плечах у обоих болтались длинные ружья.
Только этого Причеру и не хватало! И он снова издал громкий стон, мигом вскочил на ноги и, точно перепуганный кролик, порскнул в лес и помчался по тропинке. Он так спешил, что даже забыл свою палку у старого пня, а его Библия так и осталась лежать раскрытая на мху. Собака бросилась к пню, обнюхала книгу и пустилась в погоню.
– Что это за дьявольщина? – спросил Курчавый, поднимая Библию и палку.
– Чертовщина какая-то! – отозвался Желтоволосый.
Они взвалили на плечи жердь, к которой рысь была накрепко привязана за лапы, и Курчавый сказал:
– Теперь надо догнать этого чертова пса…
– Это верно, – согласился Желтоволосый. – Вот токо мне бы передохнуть малость… Я себе волдырь натер с кулак! Болит – мочи нет!
Покачиваясь под тяжестью ружей и добычи, они затянули песню и двинулись к темнеющим соснам, и лучи заходящего солнца отражались в остекленевших золотистых глазах рыси и плясали в них огненными бликами.
Тем временем Причер уже одолел приличное расстояние. Он не бегал так резво с того самого дня, как за ним погналась змея-обруч[11] и чуть не отправила в самое Царствие Небесное. Из старой развалины он превратился в скорохода и мчался сломя голову. Ступни его уверенно и упруго отталкивались от земли, и, между прочим, тот болевой желвак в спине, что последние лет двадцать не давал ему житья, сразу рассосался без следа. Он и не заметил, как миновал темную лощину, а потом вприпрыжку перемахнул через ручей, да так проворно, что только промокшие штанины комбинезона хлопали, словно крылья большой птицы. О да, он несся, подгоняемый великим страхом, и топот его ног разносился по лесу грозным барабанным боем.
А когда он добежал до кизилового дерева, его и осенило. Пришедшая в голову мысль была настолько беспощадной и ошеломительной, что Причер споткнулся и налетел на дерево, оросившее его дождевыми каплями, отчего он еще больше перепугался. Он потер ушибленное плечо, облизал губы и кивнул:
– Отец мой Небесный, за что же мне это?
О да, да, он догадался. Он знал, кто такие эти незнакомцы, – спасибо Доброй Книге, но это знание, вопреки ожиданиям, не принесло ему успокоения.
Поэтому он поднялся, рысцой пересек двор и взбежал по ступенькам.
На крыльце он обернулся и поглядел в сторону леса. Все было тихо, спокойно: никакого движения, только тени рыскали вдалеке. Над горной грядой веером распускались сумерки. Поля и деревья, кустарники и лозы словно подернулись сеткой, наливаясь пурпурным и розовым цветом, а низкорослые персиковые деревья окрасились серебристо-зеленым. Невдалеке послышался собачий лай. Причер прикинул, хватит ли ему силенок пробежать несколько миль до Сайпрес-Сити, и тут же понял, что это его не спасет.
– Ни за что в жизни!
Закрыть дверь, задвинуть засов – и порядок! Теперь окна… Ах ты, ставни-то давно сломаны и оторваны.
Так он стоял посреди хижины, беспомощный, обреченный, и таращился на квадратные проемы, в которые снаружи через подоконник лезли стебли вьюнка. Что же делать?
– Эвелина?.. Эвелина! Эвелина!
Но в ответ послышался лишь шорох мыши за стеной да шелест календарного листа под игривыми наскоками ветра.
Тогда он, яростно бормоча, заметался по хижине и начал прибирать разбросанные вещи, смахивать пыль по углам да кому-то грозить:
– Эй вы, пауки-дураки да тараканы-смутьяны, а ну, брысь отсюдова! Ко мне идут гости, осененные могучей властью и славой…
Он запалил медную керосиновую лампу (подарок Эвелины на Рождество 1918 года) и, когда пламя разгорелось, поставил ее на полку над очагом возле выгоревшей фотокарточки (ее сделал бродячий фотограф, появлявшийся в этих краях раз в год), на которой можно было различить пухлощекое лицо цвета кока-колы: Эвелина улыбалась, и ее волосы были перетянуты полоской белых кружев. Потом он взбил атласную подушечку (Главная премия за лоскутное изделие, которую Бьютифул-Лав получила на фольклорной ярмарке 1910 года) и гордо бросил ее в качалку. Больше делать было нечего, он поворошил кочергой огонь, подбросил в очаг еще поленце, сел в качалку и стал ждать.
Ждал он недолго. Скоро послышалось пение: басовитые голоса разухабисто горланили песню, которая гулким эхом разносилась по всей округе:
– Я проработал на желе-е-езной доро-о-о-оге всю свою долгую жизнь…
Причер, закрыв глаза и торжественно сложив руки на коленях, мысленно отмерял вехи их веселого путешествия: прошли через заросли пекана… вышли на дорогу… зашли под крону мелии…
(Говорили, что накануне папиной смерти в комнату невесть откуда влетела огромная птица с красными крыльями и страшным клювом, покружила над его кроватью и, прежде чем кто слово успел вымолвить, исчезла.)
И Причер теперь ожидал такого же знамения.
Они поднялись на крыльцо: их сапоги тяжело ступали на просевшие ступеньки. Он вздохнул, услышав стук в дверь. Придется впустить их в дом. Он улыбнулся Эвелине, мельком вспомнил о своих непутевых отпрысках, потом медленно, нехотя дохромал до двери, отодвинул засов и открыл.
Курчавый, тот, что с длинной оранжево-рыжей бородой, первым шагнул через порог и обтер шейным платком квадратное загорелое лицо. Он отдал старику честь, приложив руку к невидимой фуражке.
– Добрывечер, миста Исус, – произнес Причер, низко, сколько смог, поклонившись.
– Добрый! – отозвался Курчавый.
За ним вразвалочку вошел и Желтоволосый, весело насвистывая и засунув руки в карманы плисовых штанов. Он молча смерил Причера взглядом.