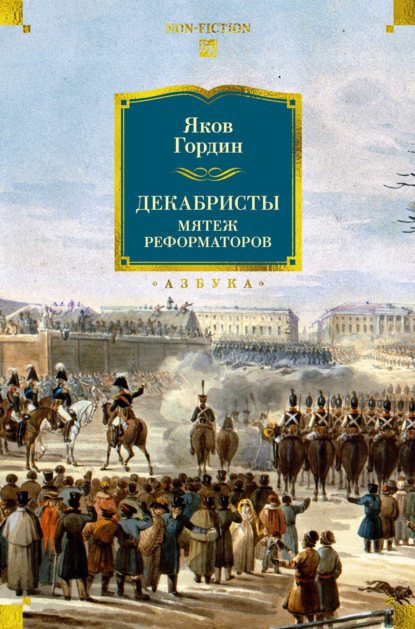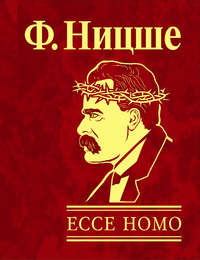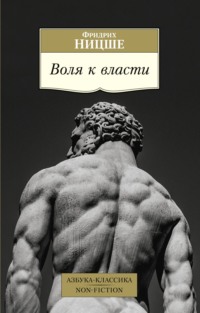Полная версия
Падение кумиров
Творите! Мне всегда стоило невероятных усилий, да и до сих пор еще стоит таких же усилий, осознать, что несказанно большее значение имеет название вещи, нежели сама вещь. Репутация, имя, облик, значение, общепринятая мера и вес какой-либо вещи – в основе своей чаще всего бездумно и легкомысленно навешенный ярлык, напоминающий небрежно накинутое платье, неуместность которого всякая вещь ощущает всей своей сущностью и даже кожей, – поддерживаются верой в них, из поколения в поколение они питаются одними и теми же соками и постепенно прирастают к вещи, пускают корни, врастают в нее все глубже и глубже, становятся ее плотью и кровью; то, что представляется всего лишь видимостью, в конце концов неизбежно становится сущностью и действует как сущность! Каким надо быть глупцом, чтобы наивно полагать, будто достаточно было бы лишь указать причины, породившие безумное заблуждение, и сорвать покров туманности, чтобы уничтожить этот мир, считающийся реальным, так называемую действительность! Только став творцами, мы сможем его уничтожить! Но не забудем одного: достаточно сотворить новые имена, новые характеристики и новые оценки, чтобы дать жизнь новым «вещам».
59Мы художники! Когда мы любим женщину, то очень скоро начинаем ненавидеть природу, лишь только вспоминаем о тех отвратительных ее законах, которым подчиняется естество всякой женщины; обыкновенно мы стараемся и не вспоминать об этом, но наша душа, которой претит малейшее случайное соприкосновение с такими явлениями, непроизвольно вздрагивает от чувства брезгливости, коли случается такое, и смотрит, как уже было сказано, на природу с презрением; мы оскорблены, и нам кажется, будто природа посягнула на нашу собственность, осквернив ее своими нечистыми, неосвященными руками. Мы затыкаем уши, дабы не слушать все эти разговоры о физиологии, и принимаем про себя категорическое решение: «Человек – есть душа и форма, и я не желаю слушать всякие выдумки о том, что в нем есть что-то еще». «Человеческий организм» – для всех любящих это мерзость, нелепица, вздор, богохульство и поношение любви. Теперь представьте себе – точно такие же чувства, каковые испытывает ныне каждый любящий по отношению к природе и естеству, некогда испытывал всякий, кто благоговел перед Богом и Его «святым всемогуществом»: все, что говорилось о природе астрономами, геологами, физиологами, врачами, воспринимал он как посягательство на свою драгоценнейшую собственность и, следовательно, как неприятельский выпад – причем неприятеля наглого и бесстыдного! «Закон природы» – уже в самом этом слове слышалось ему богохуление. В сущности, ему пришлось бы по душе, если бы вся механика была сведена к моральным актам свободного волеизъявления и своеволия; но поскольку ему никто не смог оказать такой услуги, то он запрятал как умел природу и механику в укромный уголок, подальше от самого себя и зажил спокойно в грезах и сновидениях. Ах, эти люди былых времен – они знали толк в снах и сновидениях, им даже не нужно было для этого сначала засыпать – но ведь и мы, современные люди, еще не утратили такой способности, хотя мы более склонны бодрствовать и тянемся к дневному свету! Стоит только начать любить, ненавидеть, страстно желать, словом – начать просто чувствовать, в тот же миг мы почувствуем, как снизойдет на нас дух грез, ощутим, как прильют силы сна, и восстанем мы, спокойные и невозмутимые, бесстрашно глядя вперед, отправимся по лихим и опасным тропам, не пугаясь никакой беды, не страшась ни единой опасности, мы поднимемся высоко-высоко, обойдем все крыши и башни безумного безрассудства, и не закружится у нас голова, будто от рождения привыкли мы к высоте – мы, лунатики дня! Мы, художники! Мы, укрыватели естества! Мы, странствующие сомнамбулисты, исступленно алкающие Бога! Мы, тихие и спокойные, неутомимые странники, чей путь устремлен ввысь, и высоты эти для нас не высоты, а долины, где мы чувствуем себя в безопасности!
60О расстоянии и притягательной силе женщин. Не оглох ли я? Я весь обратился в слух – неужели весь? Я стою здесь, и бушующие волны взвиваются ввысь, обрушиваясь на меня с неистовым жаром, их белое пламя лижет мне ноги, все наполнено воем, и стоном, и криком, и визгом, и в глубине глубин подал голос давнишний ниспровергатель земли и запел свою арию, гулко, глухо, как рассерженный бык: отбивает он такт, свой особый такт ниспровергателя, от которого даже у истрепанных ветрами скал, этих каменных чудищ, заходится в страхе сердце. И вот, неизвестно откуда, будто возникнув из пустоты, пред вратами этого адского лабиринта, всего лишь в нескольких саженях, явилось огромное парусное судно, скользящее, подобно призраку, безмолвно вдаль. О эта призрачная красота! В чем сила ее чар, околдовавших меня? Неужели весь покой и безмолвие мира нашли приют на этом корабле? Неужели здесь, на этом корабле, укрылось и мое счастье, мое благоденствующее Я, мое второе вековечное Я? Еще не умершее, но и не живущее? Словно призрачное, тихое, созерцающее, скользящее, парящее, двуликое существо? Подобное кораблю с белыми парусами, подрагивающими на ветру, будто крылья гигантской бабочки, устремившейся вдаль, за темное море! Да, именно так! Устремиться вдаль! Взлететь над бытием! Вот оно! Нет никакого сомнения! Кажется, весь этот шум сделал из меня мечтателя? Счастье не терпит шума и грохота, и мы переносим его мысленно куда-нибудь далеко, туда, где безмолвствует тишина. Когда мужчина стоит, оглушенный своим собственным шумом, средь набегающих стремительных волн своих устремлений, оставляющих на песке лишь размытые очертания замыслов, именно в этот миг предстают перед ним тихие, чудесные видения, скользящие куда-то вдаль, сулящие счастье, влекущие своей отрешенной недоступностью, – это женщины. И он уже готов поверить, будто там, у женщины, поселилось его лучшее Я, там, в тихой гавани, и шторм обратился в штиль, и самая жизнь станет мечтою о жизни. И все же! И все же! Мой благородный мечтатель, ведь на самом чудесном парусном судне не избежать шума и грохота и, к сожалению, не скрыться от тысячи докучливых шорохов. Вся прелесть женщины, ее могущество заключены, если выражаться языком философов, в действии на расстоянии – actio in distans, а это значит, что непременным условием в данном случае является прежде всего – дистанция!
61Во славу дружбы. Чувство дружбы в древности считалось самым высоким, более высоким, нежели прославленная гордость стоика и мудреца, с которой только и могла она сравниться, но которую все же превосходила как чувство более святое: прекрасный пример тому – история одного македонского царя, который преподнес в дар некоему афинскому философу, слывшему гордым нелюдимом, целый талант, каковой тот вернул ему обратно. «Как же так? – изумился царь, – неужели у него нет друзей?» Он хотел этим сказать: «Я чту эту гордость мудреца и независимость отшельника, но его человеческая сущность была бы достойна еще большего уважения, если бы чувство дружбы одержало победу над его гордыней. В моих глазах философ многое утратил, ибо показал, что из двух самых высоких чувств он знает только одно, другое же – самое святое – неведомо ему!»
62Любовь. Любовь прощает любимому даже его вожделение.
63Женщина и музыка. Отчего эти теплые дождливые ветры навевают музыкальное настроение, когда хочется самому сочинять мелодии? Быть может, это те самые ветры, легкие порывы которых проникают в церкви и навевают женщинам мысли о любви?
64Скептики. Боюсь, что состарившиеся женщины в глубине души гораздо более скептики, нежели все мужчины: отсутствие какой бы то ни было глубины, скольжение по поверхности считают они сущностью бытия, и потому все разговоры о добродетелях, о глубине для них не более чем хитрая уловка, прикрывающая эту «истину», всего лишь благопристойный фиговый листок, скрывающий pudendum[11] – то есть уступка правилам приличия и человеческой стыдливости, не более того!
65Самопожертвование. Есть благородные женщины, в чем-то смиренные и кроткие, которые, не умея выразить глубокую готовность принести себя в жертву, выставляют напоказ свои добродетели и стыдливость – свое самое ценное сокровище. И нередко этот подарок принимается, что, однако, не предполагает каких-либо далеко идущих обязательств по отношению к дарительницам, на которые они так рассчитывали, – какая печальная история!
66Сила слабых. Все женщины большие мастерицы преувеличивать свои слабости, они проявляют здесь завидную изобретательность, дабы предстать этакой хрупкой драгоценностью, которой самая мельчайшая соринка причиняет невыносимую боль: самое их существование должно вызывать у мужчин сознание собственной неотесанности и чувство некоей вины. Так защищаются они от грубой силы и всякого проявления «кулачного права».
67Сыграть самое себя. Она полюбила его и с этого момента взирает на все с доверчивым спокойствием какой-нибудь коровы. Но горе тебе! ведь не это притягивало его – а твое кажущееся непостоянство и загадочность! Он сам не склонен к погодным переменам – постоянства хватало ему в избытке! Не следовало бы ей остаться в прежней роли? Сыграть бесстрастное равнодушие. Разве не это подсказывает ей страсть? Vivat comoedia!
68Воля и подчинение воле. Рассказывают, как однажды к одному мудрецу привели некоего юношу и сказали: «Смотри, вот один из тех, кого испортили женщины!» Мудрец покачал головой и только усмехнулся на это. «Нет, – молвил он, – это мужчины портят женщин: за все грехи и прегрешения женщин отвечает мужчина, в нем совершается искупление, он призван исправлять ее ошибки, ибо мужчиной сотворен образ женщины, и женщина сотворяется по образу и подобию сему». – «Ты слишком снисходителен к женщинам, – сказал кто-то из гостей. – Ты их не знаешь!» В ответ на это мудрец возразил: «Мужчине должно иметь волю, женщине должно подчиняться воле – таков закон существования двух полов, истинно говорю! Суровый закон для женщин! Никто не несет ответственности за свое бытие, и менее всего – женщины: ибо у кого достанет для них милости и снисхождения!» – «Какая милость?! Какое снисхождение?! – раздался чей-то голос из толпы. – Женщин нужно лучше воспитывать!» – «Мужчин нужно лучше воспитывать», – сказал мудрец и знаком пригласил юношу следовать за ним. Но тот не внял его призывам.
69Способность к мести. Если кто-нибудь не в силах защитить себя и, следовательно, даже не испытывает подобного желания, он не слишком уж много теряет в наших глазах: гораздо более недостойным нам представляется тот, кто лишен способности и желания мстить, – будь то мужчина или женщина. Разве смогла бы удержать нас подле себя женщина (как говорят, привязать), если бы мы не знали, что она при случае способна пустить в ход кинжал (или нечто подобное кинжалу) и обратить его против нас? – или против себя, что в определенной ситуации было бы еще более чувствительной местью (китайская месть)?
70О властительствующих над властителями. Глубокое сильное контральто, которое временами еще можно услышать в театре, приподнимает неожиданно перед нами занавес, за которым открываются возможности, не вызывающие до сих пор у нас особого доверия; но тут мы начинаем верить в то, что где-то могут существовать женщины, наделенные душами высокими, героическими, способные и готовые бесстрашно возражать, принимать грандиозные решения, приносить огромные жертвы, способные и готовые властвовать над мужчинами, ибо то лучшее, что присуще мужчинам, превратилось в них, вопреки всем законам пола, в воплощенный идеал. Правда, подобное представление о женщине противоречило той партии, которая, по замыслу пьесы, была намечена для таких голосов: обыкновенно им отводится роль первого любовника, к примеру Ромео; но, насколько мне позволяет судить мой опыт, и постановщик, и композитор, ожидающие от таких голосов подобного эффекта, как правило, глубоко заблуждаются. Никто не верит таким любовникам: в их голосах по-прежнему проскальзывают нотки материнской нежности и заботливой мягкости, особенно в тех местах, когда самый звук голоса передает любовь.
71О женском целомудрии. Есть нечто поразительное и невероятное в воспитании благородных женщин, быть может, даже нет ничего более парадоксального на свете. Никто не сомневается в том, что воспитывать их должно в полном неведении in eroticis, дабы всякий намек на подобные вещи пробуждал в их душе глубочайшее чувство стыда, отвращения, желание бежать малейшего соприкосновения с ними. В сущности, это тот случай, когда вся «честь» женщины ставится на карту, ведь в остальном – что только не прощается женщине. Но в этом вопросе неведением должно быть проникнуто все их существо: глаза и уши, слова и мысли – все должно отторгать это «зло», даже самое знание здесь оборачивается злом. И что же дальше? Ужасающий удар молнии – брак, он выбивает почву из-под ног, швыряет в омут действительности и знания, и все это дело рук того, кого они любят и кем безмерно дорожат: их взору открывается борьба между любовью и стыдом, слияние восторга, податливости, чувства долга, сострадания и ужаса от неожиданного соседства Бога и Зверя – чего тут только не увидишь! – вот уж действительно уму непостижимое хитросплетенье разных пут, сковавших душу! Даже мудрейшему из мудрецов, знатоку человеческих душ, с его сострадальческой пытливостью, не под силу понять, как удается той или иной женщине не потеряться перед разгадкой этой загадки, и какие чудовищные жуткие подозрения разъедают, должно быть, ее несчастную, растерзанную душу, выбитую из привычной колеи, и как последняя философия женщины, ее скепсис бросают именно здесь свой якорь спасения! Далее следует все то же самое глубокое молчание, и часто молчание наедине с собою, когда ни слышать, ни видеть себя не хочется. Молодые женщины стараются выставить себя легкомысленными ветреницами; самым ловким из них удается изобразить даже нечто вроде бесстыдной дерзости. Женщины с легкостью воспринимают своих мужей как некий знак вопроса, ставящий под сомнение их честь, а своих детей как некое оправдание и искупление – их внутренняя потребность и желание иметь детей исполнены совершенно иного смысла, чем желание мужчины иметь потомство. Словом, сострадание к женщине не знает границ!
72Матери. Звери думают о самках иначе, чем люди, для зверя она существо, производящее потомство. У животных отсутствует любовь отца, есть лишь некое подобие той любви, какую испытывает человек к детям своей возлюбленной, с которыми он вынужден смириться. Самки получают от своих детей удовлетворение властолюбия, чувство ответственности, своего рода занятие, что-то очень понятное и доступное, располагающее к незатейливой беседе, – все это, вместе взятое, и есть материнская любовь, которую можно сравнить с любовью художника к своему творению. Беременность делает женщин более мягкими, податливыми, снисходительными, боязливыми; так и духовная беременность формирует характер созерцательный, который сродни женскому: это мужчины-матери. У животных прекрасным считается именно мужской пол.
73Святая жестокость. К одному святому подошел человек с новорожденным младенцем на руках. «Что делать мне с этим ребенком? – спросил он. – Смотри, какой он жалкий, уродливый, жизнь едва теплится в нем, и нет у него сил, чтобы умереть». – «Убей его, – воскликнул святой жутким голосом. – Убей, а потом три дня и три ночи держи его в руках, дабы запечатлелся неизгладимый след в твоей памяти, – тогда отпадет у тебя всякая охота приживать детей, коли не настали для тебя времена и сроки». Услышал это человек и пошел, удрученный, прочь; и многие осудили святого, ибо жестоким был его совет – ведь он велел убить дитя. «Разве не более жестоким было бы сохранить ему жизнь?» – спросил святой.
74Неудачницы. Никогда не будут пользоваться успехом те несчастные женщины, которые в присутствии любимого человека становятся суетливыми, беспокойными и слишком болтливыми, ибо самый верный способ соблазнить мужчину – поманить его несколько загадочной и холодной нежностью.
75Третий пол. «Низкорослый мужчина – это парадокс, но все же при этом он остается мужчиной, иное дело низкорослые девицы – сравнительно с женщиной обычного роста они выглядят как существа какого-то другого, особого пола», – сказал один старый танцмейстер. «Маленькая женщина никогда не бывает красивой», – сказал старик Аристотель.
76Величайшая опасность. Если бы во все времена не было несметного числа людей, содержащих свои мысли в строгости, лелеющих свою «разумность», каковую они почитают своею гордостью, долгом и добродетелью, этих друзей «здравого смысла», для которых всякие выдумки и фантазии, всякие завихрения мысли равносильны глубокому личному оскорблению и позору, то человечество уже давно бы погибло! Испокон веку нависает над ним величайшая опасность, не оставляющая и поныне их в покое, – опасность всеобщего умопомрачения, что означает для них разгул произвола, когда всякий начнет чувствовать, видеть и слышать на свой лад, наслаждаться невоздержанностью ума, упиваться безрассудством разума. Но не истина и истинность противопоставляются миру умалишенных, а всеобщность и общеобязанность веры, короче говоря, никакого своеволия в суждениях. Потребовалось немало нечеловеческих усилий для того, чтобы договориться друг с другом относительно множества вещей и навязать самим себе закон, предписывающий единообразие в толковании этих вещей, независимо от того, являются ли они истинными или ложными. Вот это и есть та строгость ума, благодаря которой сохранилось человечество, – но противоборствующие силы все еще не утратили своей мощи, так что будущее человечества, в сущности, по-прежнему внушает некоторые опасения. Вещи все еще продолжают меняться, в их образе постоянно что-то смещается, что-то сдвигается, и, пожалуй, теперь это происходит в гораздо большем объеме и гораздо быстрее, и все еще находятся противники всеобязательности, и первыми здесь выступают лучшие умы – исследователи истины! И по-прежнему вера, призванная быть единой для всех, вызывает у натур тонких отвращение и новые непотребные желания; даже самый ее медленный темп, неукоснительное соблюдение которого она предписывает всем духовным процессам, это уподобление черепахе, признанное здесь нормой, вынуждает художников и поэтов переметнуться в другой лагерь: горячие головы! Их так и тянет отдаться безумию только потому, что у безумства такой лихой темп! Итак, нужен добродетельный ум – или нет, лучше уж употребить здесь менее двусмысленное слово, совершенно однозначное, – нужна добродетельная глупость, нужен хороший метроном, исправно и невозмутимо отмеряющий неповоротливые движения медленного ума, дабы благочестивые верующие, исповедующие великую всеобщую веру, не разбрелись бы кто куда и не прерывали бы своего танца: удовлетворение этой потребности не терпит отлагательства, ибо именно она здесь правит бал, распоряжаясь всем и вся. Мы же – сторонники другого лагеря, мы – исключение, мы – опасность, – нас нужно вечно защищать! Что ж, и в пользу исключения можно кое-что сказать, при условии что оно никогда не станет правилом.
77Животное с чистой совестью. Пошлость всех развлечений, в которых находят удовольствие жители юга Европы, – будь то, скажем, итальянская опера (к примеру, Россини или Беллини) или испанский плутовской роман (известный нам более всего в его французском обличье вроде «Жиль Блаза»), – конечно же, не ускользает от моего внимания, однако это ничуть не оскорбляет меня, равно как и пошлость, с которой сталкиваешься, прогуливаясь по Помпее и даже, честно говоря, при чтении античных авторов: отчего это происходит? Оттого ли, что здесь отсутствует стыд и любая пошлость чувствует себя здесь уверенно и проявляет себя без всякого смущения, заменяя собою в упомянутой выше музыке и романах благородство, обаятельность и страстность? «Животное имеет такие же права, что и человек: так пусть же бегает оно свободно, безо всякого стеснения, а ты, любезный мой собрат, как ни старайся, все ж остаешься животным!» – вот та мораль, какую, думается мне, можно извлечь, глядя на своеобразное проявление любви к ближнему у южан. Дурной вкус уравнен в правах с хорошим и даже обладает некоторыми преимуществами, особенно в тех случаях, когда он становится насущной потребностью, неизменно приносит удовлетворение, когда он, так сказать, превращается в язык, понятный всем, и сводит свое богатство мимики и жеста к избитому шаблону; изысканному же вкусу, напротив, всегда свойственно какое-то активное беспокойство и некоторая неуверенность в себе, сомнение в способности уразуметь все должным образом – он никогда не был народным и никогда таковым не будет! Народною была и остается маска! Так пусть же эти маски и все, что им под стать, идут к себе на маскарад и там резвятся вволю под музыку из тех самых опер, упиваясь всеми этими задорными, бодрящими мелодиями и виртуозными каденциями! Да и сама античность! Разве можно разобраться в ней толком, не поняв до конца радость наслаждения маской, сокровенную суть всякого маскарада! Именно в такие минуты очищается и отдыхает античный дух; и, быть может, такое очистительное омовение в том древнем мире было более необходимо натурам избранным, возвышенным, нежели простым и низким. Совершенно иначе я воспринимаю всякое проявление низкого вкуса в творчестве северян, например в немецкой музыке: меня невероятно оскорбляет любая пошлость и банальность. К этому примешивается еще и стыд оттого, что художник потерял высоту и даже не потрудился избавить нас от необходимости лицезреть, как он краснеет: мы стыдимся вместе с ним и чувствуем себя глубоко оскорбленными, ибо догадываемся, что он-то полагал, будто спуститься с высот ему пришлось только ради нас.
78За что мы должны быть благодарны. Только художники, и в особенности художники сцены, приучили людей пользоваться своим зрением и слухом, дабы с некоторым удовольствием они прислушивались к самим себе, к своим ощущениям, своим желаниям; именно они научили нас ценить героя, скрытого в каждом из этих самых обыкновенных людей, научили искусству перевоплощаться по отношению к самому себе в непритязательного зрителя, взирающего с благоговением на героя, – искусству быть актером, разыгрывающим перед самим собой пьесу, где он и герой, и зритель в одном лице. Только так мы сумеем преодолеть в себе некоторые низкие свойства человеческой натуры! Не ведая всех этих тайн актерского искусства, не зная правил поведения на сцене, мы вечно представляли бы себя крупным планом, испытывая на себе действие тех оптических законов, по которым все то, что близко, – кажется чудовищно большим, все самое обыкновенное и простое обретает невиданные формы, и создается иллюзия, будто это и есть самая действительность. В какой-то мере похожих результатов добилась та религия, которая велела досконально изучить греховную сущность человека, хорошенько рассмотрев ее через увеличительное стекло, и объявила затем грешника страшным бессмертным преступником: расписывая перспективы вечной жизни, она приучала человека смотреть на себя отстраненно, как на нечто уже отжившее, как на некое целое.
79Прелесть несовершенства. Я вижу перед собой поэта, несовершенные творения которого оказываются, как это нередко случается в жизни, гораздо более привлекательными, нежели все гладкие, округлые шедевры, вышедшие из-под его пера, – действительно, это проявление крайнего бессилия приносит ему гораздо больше пользы и славы, чем блеск его неисчерпаемых сил. Ни одно его произведение никогда не раскрывает до конца то, что он, собственно, стремился им выразить, что он хотел бы видеть в нем; кажется, будто он только предощущал видение, но в его душе осталась непреодолимая тяга к этому вожделенному видению, оно-то и питает его столь же непреодолимое красноречие вожделения, утоляет его ненасытную алчность! Оно-то и дает ему силы! Оно помогает поэту возвысить своего слушателя над своим творением и всеми прочими «шедеврами» и помогает найти для него крылья, чтобы тот мог воспарить, вознестись так высоко, как никогда еще не удавалось ни одному слушателю: возвысившись, они чувствуют себя поэтами и пророками и потом отдают виновнику их счастья дань восхищения, как будто он дозволил им лицезреть свою святыню, свою сокровеннейшую тайну, как будто он достиг своей цели и действительно увидел вожделенное видение и приобщил к нему других. Его слава только выиграет от того, что он не доберется до самой цели.