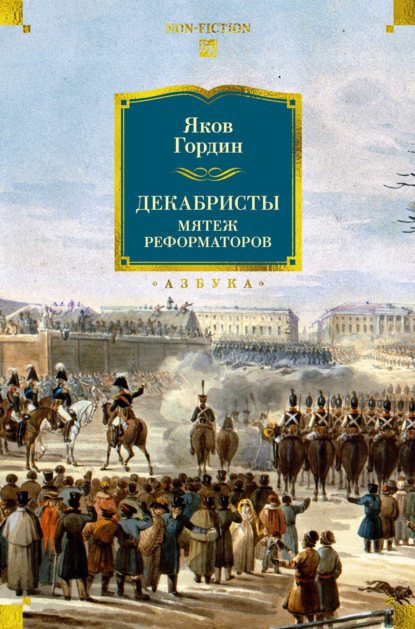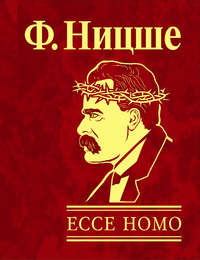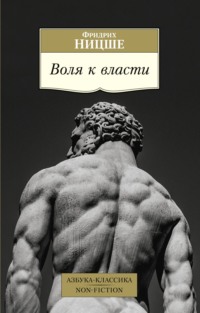Полная версия
Падение кумиров
Изменившийся вкус. Изменение общего вкуса гораздо важнее, чем изменение мнений; мнения со всеми их доказательствами, возражениями и прочим интеллектуальным маскарадом суть лишь симптомы изменившегося вкуса, а вовсе не его причины, как это было принято до сих пор считать. Каким же образом происходит изменение вкуса? Сначала небольшая кучка людей – это особы избранные, наделенные властью и обладающие влиянием, – нимало не смущаясь, высказывают свои суждения – hoc est ridiculum, hoc est absurdum[10] – и тиранически навязывают другим сей приговор, который постепенно становится привычкой многих, а затем – всеобщей потребностью. То обстоятельство, что эти избранные тем не менее имеют свои собственные обонятельные, осязательные, зрительные и вкусовые ощущения, объясняется обычно особенностями образа жизни, питанием, пищеварением, быть может разным количеством неорганических солей в крови и мозгу, короче говоря – в физической природе: они, однако, достаточно мужественны, чтобы принимать ее в том виде, как она есть, и прислушиваться ко всем ее требованиям, даже если они уже едва различимы: их суждения по вопросам эстетики и морали и являются такими «едва различимыми звуками» физики.
40О недостатке благородной формы. Отношения между солдатами и вышестоящими чинами еще не утратили былой культуры, как, скажем, отношения между рабочим и работодателем. Пока что, по крайней мере, та культура, которая имеет в своей основе военные устои, значительно выше культуры индустриальной: эту последнюю в ее нынешнем виде можно отнести к самой низкой форме бытия из всех существовавших доныне. Здесь действует просто закон всеобщей нужды: одни хотят жить и вынуждены продаваться, но презирают того, кто пользуется этим бедственным положением и покупает рабочего. Странно, что подчинение сильной личности, вызывающей страх и ужас, то есть личности поистине ужасной – тиранам, полководцам, – воспринимается как нечто гораздо менее неприятное, чем подчинение некоей безвестной и не представляющей никакого интереса личности, каковыми являются по существу все промышленные магнаты: в работодателе рабочий видит обычно только хитрого пройдоху, кровопийцу, спекулирующего на чужих бедах, для рабочего он последний человек – и потому безразлично, как его зовут, как он выглядит, какие у него привычки и что о нем думают другие. Фабрикантам и крупным торговцам, вероятно, не хватало до сих пор именно тех форм и признаков, которые как раз и отличают высшую расу, – благодаря которым пробуждается интерес к человеку как к личности; если бы они усвоили благородные манеры потомственных дворян, их взгляд, их жесты – то, может быть, не было бы социализма масс. Ибо массы, в сущности, всегда готовы принять любое рабство, лишь бы повелитель постоянно демонстрировал свое превосходство, свое законное право повелевать, данное ему от рождения, – и достигается это благородством форм! Самый низкий человек чувствует, что благородство нельзя просто сыграть, и потому он должен чтить этот плод, зревший в течение столь долгого времени, – и наоборот, отсутствие таких благородных форм и пресловутая вульгарность фабрикантов с их жирными красными ручищами наводят его на мысль о том, что всего лишь случай и удача вознесли одного на вершины власти, вынудив другого подчиниться: ну что же, думает он про себя, попробуем-ка и мы удачи, вдруг подвернется случай! Попробуем-ка вытянуть нужную карту! Так начинается социализм.
41Против сожаления. Мыслитель расценивает свои действия лишь как попытку разобраться в чем-то, как некий вопрос: всякая удача или неудача являются для него прежде всего ответом. Если же что-то не получается, он не будет сердиться или уж тем более испытывать чувство сожаления – это удовольствие он оставляет тем, кто действует по принуждению и оттого боится получить порядочную трепку от господина, коли тот будет недоволен результатом.
42Работа и скука. Искать работу только для того, чтобы заработать денег, – характерно почти для большинства людей цивилизованных стран; для них работа только средство, а не самоцель; поэтому они столь неразборчивы, если работа сулит хорошие барыши. Но есть и другие люди – таких очень мало, – они скорее умрут, чем станут заниматься работой, не доставляющей им удовольствия: это люди взыскательные, им трудно угодить, их не заманишь хорошим жалованьем, сама работа – для них наивысшая награда. К этой редкой породе людей относятся художники, люди искусства, все те, кто склонен к созерцанию, сюда же, однако, можно причислить и тех бездельников, которые жизнь свою тратят на охоту, путешествия, любовные приключения и похождения. Все они готовы взять на себя любую работу и терпеть нужду, но только при одном условии – работа должна доставлять удовольствие, тогда, если надо, они возьмутся и за самую трудную, и за самую тяжелую. В противном же случае они сознательно не выходят из состояния апатии, даже если эта апатия грозит им всяческими бедами – обнищанием, бесчестием, опасными болезнями и смертью. Скука страшит их меньше, нежели работа, не приносящая удовольствия: они даже испытывают некую потребность в скуке, ибо она сулит грядущую удачу. Для мыслителей и всех изобретательных умов скука означает неприятное «затишье» души, которое предвещает удачное плавание и свежий попутный ветер; ему нужно только пережить это «безветрие», терпеливо и спокойно, не выходя из себя, переждать это состояние, – натуры более низкие, конечно же, никогда не смогут заставить себя поступать подобным образом! Гнать от себя скуку любыми способами – недостойно, так же как недостойно работать без удовольствия. Именно этим, по-видимому, отличаются азиаты от европейцев: они способны гораздо дольше сохранять спокойствие, нежели последние; ведь даже их наркотики – длительного действия и требуют терпения, в отличие от омерзительно быстрого действия европейского яда, именуемого алкоголем.
43О чем говорят законы. Изучая законы уголовного права того или иного народа, не следует считать их выражением национального характера; законы не дают представления о том, каков тот или иной народ, скорее они показывают все то, что данный народ воспринимает как нечто чуждое, из ряда вон выходящее, чудовищное, инородное. Законы опираются на исключения, относящиеся к нравственной стороне нравов; самые суровые наказания предусмотрены как раз для тех случаев, которые у других народов не выходят за нормы морали. Так, например, для вагабитов существует лишь два смертных греха: вера в другого бога (не в бога вагабитов) и – курение, называемое у них «позорным видом пьянства». «А как же убийства и прелюбодейство?» – спросил изумленный англичанин, узнав об этом. «Что ж, Бог милостив, Он всех простит!» – ответил старый вождь. Или, например, древние римляне считали, что для женщины существует два смертных греха – супружеская неверность и употребление вина. Старик Катон утверждал, что обычай целовать родственников был заведен лишь для того, чтобы держать женщин в этом смысле под неусыпным контролем; всякий поцелуй означал вопрос: пахнет ли от нее вином? И действительно, женщин, уличенных в этом злодеянии, приговаривали к смертной казни, и вовсе не потому, что женщины под воздействием вина вовсе разучатся говорить «нет»: римляне испытывали страх прежде всего перед этой пагубной, оргиастической, дионисической силой, которая порой – особенно в те времена, когда вино в Европе еще считалось новшеством, – как смерч проносилась над югом Европы, одурманивая тамошних женщин; римляне воспринимали это как чудовищное подражание чуждым нравам, подрывающее основу основ римского мировосприятия; им чудилась в этом прямая измена Риму, проникновение чужеродных влияний, равносильное потере суверенной целостности страны.
44Вера в обоснованность наших действий. Выявление истинных мотивов, которыми до сих пор руководствовалось в своих деяниях человечество, представляется, несомненно, весьма существенным. Но какое бы значение ни придавалось этому знанию, для человека познающего гораздо более важными являются не столько сами мотивы, сколько вера в обоснованность того или иного поступка, то есть то, что человечество, не слишком утруждая себя долгими размышлениями, испокон веку принимало за истинный движитель своих действий. Объяснение счастья или несчастья, выпавшего на долю того или иного человека, зиждилось на вере в обоснованность того или иного поворота судьбы – при этом никогда не принимались во внимание собственно причины, вызвавшие его! Об этом уже никто и не вспоминал.
45Эпикур. Да, я горжусь тем, что воспринимаю характер Эпикура, быть может, иначе, чем кто-либо другой, я знаю о нем много, но это не мешает мне наслаждаться счастьем созерцать древность, вступившую в полосу предвечерних сумерек: я вижу его глаза, они смотрят на белесую воду, взгляд охватывает морские просторы и уносится вдаль, туда, за скалистый берег, освещенный солнцем, в свете его лучей резвятся большие и малые звери, легки и спокойны их движения, так же как легок и спокоен этот свет и этот взор. Такое счастье мог придумать только человек, обреченный на вечные страдания, – счастье иметь такие глаза, перед взглядом которых затихает море бытия, глаза, не устающие наслаждаться видом глади морской, превратившейся в яркую, нежную, трепетную пленку: никогда еще доныне мир не видывал такой скромности в наслаждении.
46Наше удивление. В том, что наука занимается выявлением предметов, обладающих постоянными, устойчивыми свойствами, а они, в свою очередь, дают толчок к новым открытиям, заключается глубокое и прочное счастье – ведь все могло быть совершенно иначе! Ибо мы принимаем как нечто вполне естественное зыбкость и причудливость наших суждений, мы настолько привыкли к вечной переменчивости всех человеческих законов и понятий, что не устаем дивиться тому, насколько устойчивыми оказываются научные выводы! В былые времена человеческий дух не знал такого непостоянства: общий порядок, при котором основу нравственности составляла порядочность, поддерживал веру в то, что вся внутренняя жизнь человека навеки прикована вечными скобами к железной необходимости; быть может, и тогда люди испытывали такое же сладостное удивление, слушая чудесные истории и сказки о феях. Все эти чудеса оказывали на людей тех времен такое благостное воздействие, что им хотелось, наверное, на мгновение забыть все правила, не вспоминать о вечности. Хотя бы раз ощутить уходящую из-под ног почву! Воспарить! Ошибаться! Валять дурака! Вот что считалось раем и исключительной роскошью в те незапамятные времена; а наше блаженство сродни блаженству, которое испытывает потерпевший кораблекрушение, после того как удачно выберется на берег, встанет обеими ногами на нашу добрую старую землю и удивляется, отчего это она не качается.
47О подавлении страстей. Если постоянно сдерживать свои страсти, считая, что всякая несдержанность в этом смысле более пристала натурам «низким», грубиянам, неотесанным мужланам, то есть пытаться подавить не столько сами страсти, сколько язык и жесты, которыми они выражаются, то результат будет как раз прямо противоположный: именно страсти окажутся подавленными, в лучшем случае – они утратят свою силу, подвергнутся изменениям. Поучительным примером в этом смысле может служить двор Людовика XIV и все, что в силу существовавшей зависимости было связано с ним. Следующее столетие, воспитанное в духе подавления, утратило и сами страсти, каковые были заменены грациозным, легким, игривым поведением, – это был век, не способный на дерзость и невоспитанность, так что даже оскорбление облекалось в формы учтивые и для ответа выбирались не менее любезные слова. Быть может, нынешнее время непостижимым образом являет собой образчик полной противоположности: я повсеместно наблюдаю – в жизни, в театре и даже, надо сказать, в литературе – какое-то упоение малейшим грубым всплеском страсти, любым жестом, выдающим ее: ныне обходятся просто неким условным проявлением страсти – только не самой страстью! И тем не менее этот путь рано или поздно приведет к ней, и наши потомки достигнут тогда истинной дикости, отличной от дикости и необузданности голых форм.
48Необходимые знания о лишениях и невзгодах. Быть может, ничто так не разъединяет людей, как то, насколько они познали лишения и невзгоды: нищету духа и страдания тела. Что касается последнего, то мы, нынешнее поколение, наверное все без исключения, хотя и стремимся преодолеть наши хвори и недуги, не обладая достаточным личным опытом, представляем собой никудышных работников и никчемных мечтателей: по сравнению с теми временами, когда господствовал страх – это был самый продолжительный из всех периодов истории, – тогда каждому человеку приходилось защищать себя от насилия, и ради достижения этой цели он был вынужден сам применять насилие. В то время всякий мужчина проходил хорошую школу физических страданий и лишений, и в этом добровольном самоистязании, воспитывающем привычку к боли, пусть в какой-то мере и жестоком по отношению к самому себе, он видел необходимое средство самосохранения; такую же выучку проходили все его родные и близкие, в те времена людям доставляло удовольствие причинять боль, и вид чудовищных страданий не вызывал ничего, кроме чувства собственной безопасности. Что же касается страданий духовных, для меня в каждом отдельном случае важно то, познал ли человек эти страдания на собственном опыте или знает о них лишь понаслышке; считает ли он необходимым прикидываться знатоком в этой области, полагая, будто это признак более утонченного воспитания, или он вообще в глубине души не верит в большие душевные страдания и всякое упоминание о них вызывает у него те же ощущения, что и упоминание о физической боли: тут же начинают ныть зубы и болеть живот. Мне представляется, что ныне такое положение дел является господствующим. У людей не выработана привычка переносить боль в двух ее основных формах, и, кроме того, нынче не так уж часто удается увидеть страдальца – из этих двух обстоятельств проистекает важное следствие: сейчас боль ненавидят в гораздо большей степени, нежели в былые времена, и какая только напраслина на нее не возводится – никогда так скверно не говорили о ней, ведь даже одна мысль о боли воспринимается как нечто едва переносимое, что дает основание считать повинным в этом самое бытие, осыпаемое упреками и укорами. Появление различных философских учений, окрашенных духом пессимизма, ни в коей мере нельзя рассматривать как следствие каких-либо страшных потрясений и катастроф; сомнение в ценности бытия возникает в те времена, когда жизнь становится настолько изнеженной и легкой, что всякий укус какого-нибудь назойливого комара расценивается – идет ли речь о теле или о душе – как некое невероятно кровавое злодейство, а недостаток опыта в области подлинного страдания приводит к тому, что возникает непреодолимое желание выдать воображаемое страдание – то есть расхожее представление о нем как о некоей муке – за страдание высшего рода. Можно было бы, конечно, дать рецепт, спасающий от философии пессимизма и чрезмерной чувствительности, каковые представляются мне поистине бедствием нашего века, но, наверное, сей рецепт покажется слишком жестоким и будет отнесен к тем явлениям, которые и позволили сформировать распространенное сейчас суждение: «Бытие есть зло». Итак, вот мой рецепт: от «невзгод» спасут только – невзгоды.
49Великодушие и родственные явления. Такие парадоксальные явления, как неожиданная замкнутость в поведении человека добродушного и открытого, как юмор человека меланхолического склада и в первую очередь великодушие, выражающееся в нежелании удовлетворить чувство мести или зависти, оказываются свойственными тем людям, которые обладают мощной внутренней силой расточительства, людям, которые быстро пресыщаются и подвержены приступам отвращения. Они пресыщаются столь стремительно и с такой силой, что единственным спасением от возникающего затем неизбежного чувства опустошенности, скуки, отвращения может быть лишь полная смена привычек и представлений; эта внезапная, судорожная смена вызывает, как правило, резкие ощущения – у одного это проявляется в неожиданной сдержанности поведения, у другого – в смехе, у третьего – в слезах и в желании принести себя в жертву. Человек великодушный – по крайней мере, тот тип, который производит всегда самое сильное впечатление, – представляется мне тем, кто, терзаемый безудержной жаждой мести, утоление которой вполне достижимо, ограничивается мысленным удовлетворением этой потребности, испивая полную чашу до самого дна, до самой последней капли так, что необузданное желание стремительно сменяется чудовищным отвращением, – теперь он, как говорится, превозмог себя и готов простить своего врага, милостиво терпеть его и даже воздать ему почести. Но, совершая такое насилие над самим собой, надругаясь над своим чувством мести, которое еще недавно было столь мощным, он отдается во власть новому, растущему в нем чувству, которое отныне стало набирать в нем силу, – отвращению, правда, делает он это все с той же нетерпимостью и необузданностью, как совсем недавно, когда силой своего воображения он лишил себя радости подлинной мести тем, что уже мысленно исчерпал ее всю до конца. Великодушие заключает в себе столько же эгоизма, сколько и месть, только качество этого эгоизма иное.
50Страх перед одиночеством. Укоры совести, даже у самого совестливого человека, ничто по сравнению с тем чувством, которое постоянно нашептывает: «Вот это и это противоречит правилам хорошего тона в твоем обществе». Холодный взгляд, поджатые губы тех, среди которых и для которых ты воспитан, вызывают чувство страха даже у человека сильного. Но чего же, собственно говоря, тут страшиться? Одиночества – вот тот аргумент, перед которым отступают самые убедительные доводы, высказываемые в пользу того или иного человека, в пользу какого-нибудь начинания! Так говорит в нас стадный инстинкт.
51Чувство истины. Мне нравится скепсис, всякое проявление которого я позволю себе приветствовать словами: «Давайте попробуем!» Но я не желаю больше ничего слышать о всех тех предметах, о всех тех вопросах, что препятствуют проведению эксперимента. Здесь проходит граница моего «чувства истины», ибо там храбрость уже утратила свои права.
52Что знают о нас другие. То, что мы знаем о самих себе и что хранится в нашей памяти, не определяет счастья нашей жизни в той мере, как это принято считать. В один прекрасный день на нас обрушивается то, что о нас знают другие или думают, что знают, – и тогда мы осознаем: это имеет над нами гораздо большую власть. Ведь легче справиться со своими собственными угрызениями совести, нежели со своей дурной репутацией.
53Где начинается добро. Там, где глаза, утратившие былую зоркость, уже не в силах различить злые инстинкты, которые приняли трудноуловимые утонченные формы, человек провозглашает царство добра, и ощущение того, что он очутился в царстве добра, возбуждает все его желания и стремления, которые подавлялись и обуздывались инстинктом зла, – такие как чувство уверенности, удовольствия, доброжелательности. Таким образом: чем слабее зрение, тем дальше простирается добро! Отсюда вечная жизнерадостность, присущая простым людям и детям! Отсюда – мрачность и тоска, близкая угрызениям совести, которые свойственны великим мыслителям!
54Сознание видимости. Какое упоение, какое обновление и вместе с тем сколько ужаса и иронии испытываю я, с моим «познанием», перед лицом бытия! Я открыл для себя, что весь прежний мир людей и животных, вся глубочайшая древность и прошлое той жизни, обладавшей всей полнотой восприятия и ощущения, продолжает во мне творить, любить, ненавидеть, размышлять – и я очнулся внезапно от этого сна, но только для того, чтобы осознать, что я пребываю в мире грез и мне следует вернуться обратно, дабы не погибнуть: подобно тому как должен пребывать во сне лунатик, рискующий иначе оступиться и сорваться вниз. Что же такое для меня теперь «видимость»? Вполне очевидно, что ее нельзя противопоставить некоей сущности – ибо, говоря о какой бы то ни было сущности, я могу лишь назвать предикаты ее видимости! Ее нельзя принимать за безжизненную, ничего не выражающую маску, которую можно напялить на любого «X», а потом с таким же успехом стянуть! Видимость для меня уже сама по себе начало действующее, живое, которое беспощадно насмехается над самим собой, и в результате пробуждает во мне чувство нереальности, ощущение, что все здесь кажимость, все наполнено призрачным светом, все лишь фантастическая пляска духов – и не более того, а я, «познающий», оставшийся в мире сна, исполняю свою партию в этом танце, и что «познающий» – всего лишь средство продлить время земного танца, благодаря чему он становится одним из распорядителей на празднике бытия, и благородная последовательность и взаимосвязанность каждого шага познания есть и будет, наверное, величайшим средством, при помощи которого можно сохранить неизменной общность сновидений, средством, которое создает основу взаимопонимания всех обитателей мира сна, средством, которое делает сон бесконечным.
55Последнее благородство. Что значит быть «благородным»? Приносить жертвы? Конечно же нет: ибо и сладострастник, одержимый похотью, приносит жертвы. Отдаться какой-нибудь одной страсти? Тоже нет, ибо страсти бывают низменными. Делать что-нибудь для других, бескорыстно и самоотверженно? Конечно же нет: ибо ведь именно благороднейшим душам свойственно самое последовательное своекорыстие. Нет, человека делает благородным то, что страсть, охватывающая его, представляет собой нечто особенное, хотя он сам и не подозревает о ее необычности: выбор подхода редкого и неординарного, состояние на грани умопомрачения; ощущение скрытого жара вещей, кажущихся всем прочим холодными; угадывание ценности предметов, для которых еще не изобрели весов; принесение жертвы на алтарь неведомому богу; храбрость, не требующая награды; полная самоудовлетворенность, избыток которой сообщается людям и вещам. Иными словами, обладание особыми свойствами и неведение относительно собственной необычности – вот что такое благородство. При этом, однако, следует задуматься над тем, что подобные рассуждения приводят к несправедливой и, в сущности, ложной оценке того, что было для человека привычным, понятным, необходимым, то есть того, что как раз более всего способствовало сохранению рода, словом – всех существовавших доныне правил, принятых в обществе. Стать защитником всякого правила как такового – вот, быть может, та последняя форма, то воплощение утонченного вкуса, которое может явить миру благородство.
56Жажда страданий. Когда я думаю о той жажде деятельности, которая гложет миллионы юных европейцев, чья лихорадочная предприимчивость возникла лишь от скуки и от незнания, куда себя девать, я прихожу к выводу, что, вероятно, это просто жажда страдания, стремление как-то пострадать, дабы таким образом иметь более или менее правдоподобное объяснение своим поступкам и действиям. Беда превратилась в необходимость! Отсюда – вопли политиков, отсюда – все эти выдумки, басни, страшные сказки о «бедственном положении» всех возможных классов и наша слепая готовность верить в них. Эти юнцы требуют, чтобы откуда-нибудь извне на мир снизошло – или хотя бы показалось на горизонте – вы думаете счастье? – нет, несчастье! – их неуемная фантазия уже хлопочет, суетится, пытаясь заранее сотворить себе чудище, с которым бы она потом могла сразиться. Если бы сии юноши, одержимые манией страдания, чувствовали в себе достаточно внутренних сил, чтобы изнутри приносить самим себе пользу и самим же причинять себе вред, они сумели бы тогда сотворить себе и свою собственную самодостаточную беду. Их открытия в этой области обладали бы тогда большей изощренностью, а удовлетворение выражалось бы в формах, подобных изысканной музыке: ныне же они оглашают весь мир криками о бедственном положении и тем самым лишь сеют смуту, слишком часто пробуждая тревожное предощущение беды! Они не знают, куда себя девать, – и потому желают другим несчастья: ведь им всегда нужны другие! Все новые и новые другие! Простите уж, любезные друзья, – я возьму на себя смелость позаботиться о своем счастье сам.
Книга вторая
57Реалистам. Вы, трезвые люди, полагающие, будто хорошо вооружены против страстей и мечтаний, вы, старающиеся изо всех сил выдать свою пустоту за гордость и украшение, вы величаете себя реалистами, прозрачно намекая на то, что мир в действительности сотворен таким, каким он представляется вам: только перед вами действительность предстает в своей первозданной наготе, и вы сами, без сомнения, составляете ее лучшую часть – о, вы, возлюбленные Саисские изваяния! Но даже если вы скинете с себя свои последние покровы, разве исчезнет ваша страстность, рассеется тьма, составляющая вашу сущность, которую можно сравнить разве что с рыбой, пропадет ваше сходство с влюбленным художником – «действительность»! Вы все еще распространяете повсюду оценки, уходящие своими корнями в страсти и влюбленности былых столетий! А ваша трезвость – это все еще трезвость пьяницы, терзаемого тайным неистребимым желанием! Или ваша любовь к «действительности», например, – ведь это все та же древняя, исконная «любовь»! И в каждом ощущении, в каждом впечатлении, улавливаемом нашими чувствами, есть след этой древней любви, вплетающийся в причудливый узор, сотканный из мечтаний, предрассудков, безрассудства, неведения – всего не перечесть! Взгляните на ту гору! Или на то облако! Где в них «действительность»? Снимите-ка с них слой фантазий и очистите от всякой шелухи человеческих выдумок, вы, трезвые! Да, если бы вы только могли это сделать! Если бы вы сумели забыть ваши корни, ваше прошлое, все то, чему вас учили в детстве, – все то, что есть в вас от человека, – всю вашу человеческую человечность, и то, что есть в вас от животного, – вашу звериную животность! Для нас не существует «действительности» – но и для вас ее тоже нет, вы, трезвые, – мы давно не так уж далеки друг от друга, как вам это представляется, и, быть может, наше стремление добровольно выйти из состояния опьянения заслуживает не меньшего внимания, чем ваша вера в то, что вы вообще не способны поддаться опьянению.