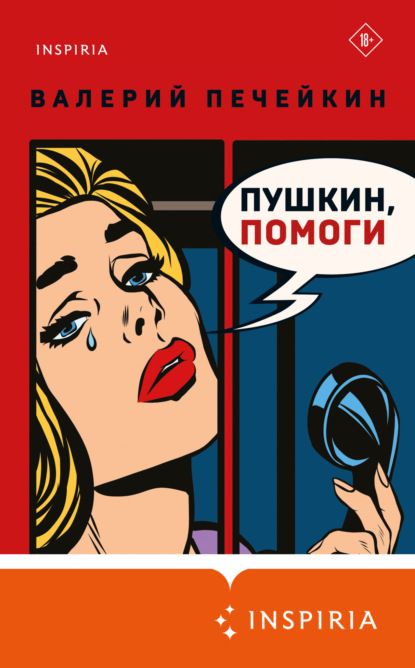Полная версия
Рюбецаль
Но что я знала о человеке, для которого наша третья по счету встреча – свидание вслепую? Что он в ссоре с матерью, что его бизнес дышит на ладан, а потому, вероятно, он работает в двух местах, деля день между ними.
Я смотрела на то, на что эти несколько дней запрещала себе смотреть. Не зажмуриваясь, я видела разложенные на косой пробор, свисающие вдоль щек волосы, родимое пятно, кольцо с молитвой, журнал в правой руке, водянисто-голубые глаза, и я спрашивала:
– Ты любишь меня?
Он стоял чуть сбоку от черного литого барельефа в торце, вполоборота к платформе, противоположной той, на которую я сошла, и держал обеими руками, у живота, букет бледно-розовых георгин. Когда я приблизилась не с той стороны, откуда меня ждали, он повернулся, не резко, а как бы отставляя на время некое размышление. Углы губ его пошли вверх, брови же были чуть сдвинуты, что могло выдавать принуждение себя к улыбке, но тут значило обратное: нахмурился он заведомо, а улыбнулся – на меня, как на нечто гораздо менее безнадежное, чем сулил разговор по телефону.
Я поблагодарила за букет, правдиво добавив, что люблю георгины, и придержав, что раньше мне вообще не дарили цветы.
– Это георгины? – Он глянул на свое подношение со спокойным любопытством.
Что открывала мне его деланая ровность? Ему хотелось увидеть женщину, так далеко зашедшую в своем интересе, и вот он видит. Ему остро хочется узнать, когда и где я увидела его, при каких обстоятельствах, как выяснила место работы, однако он молчит, боясь быть бестактным, но и не в силах сронить что-то вопиюще необязательное, безразличное, предсказуемое. Он не решается запустить программу, которая конвертирует меня в то, что легче всего принять и открыть, – в заполнение промежутка между последней и очередной длительной связью. Не решается потому, что наш незваный, даровой случай обязывает к бережному обращению – слишком уж хрупок тщеславной и утлой хрупкостью: то ли хитрое изделие, то ли ломкий хрящ.
Он представился Кириллом, я назвалась, и мы как будто поставили подписи под свидетельством о том, что встреча – ошибка. Мы признали, что в тупике, куда нас завела ненасытность: перейдя рубеж телефонного разговора, мы переступили через триумф, после которого следовало почивать на лаврах. Мы попрали нашу награду – и отменили победу.
Та, в вагоне, готовая служить чем и чему угодно, проехала «Дмитровскую» – ее дожидался запасник, архив, хранилище невостребованного возможного. Я не досмотрела фильма, на место героини которого со сладостной прилежностью подставляла себя в каждом кадре, но тоскливо-страстное самозаклание экранной бедовой меланхолички свертывалось, стоило только подставить ее на место меня. На своем единственном месте в той же, но трехмерной истории я могла быть только ничтожным средством к ничтожной цели.
На эскалаторе он пропустил меня вперед и еще отступил вниз на пару ступенек – механическая галантность или соображение выгоды для обзора, но то, что теперь, легализовавшись, уже я стою выше и впереди, и пристыжало меня, и тяготило стыдом за него.
Как только мы вышли на улицу, Кирилл спросил, хотела бы я погулять или посидеть в кафе. Я выбрала кафе, чтобы больше не нести букет, упруго валившийся то влево, то вправо. Прогулка между тем досталась в придачу: ведь если Кирилл жил где-то здесь, то ел либо дома, либо вблизи работы, стало быть, и здешний общепит существовал для него немногим более достоверно, чем для меня. Среди вывесок, мимо которых мы шли, попадались и вывески заведений быстрого питания, но таких, где ритм задан бургером – утрамбовывать в этот ритм беседу было бы смешно. Подходящим показалось кафе азиатской кухни на другой стороне улицы. Я не навыкла посещать такие места, да и Кирилл, вероятно, судя по равнодушному замедлению, с которым повел меня вдоль столов. Мы сели за последний в ряду у окна. Кирилл снял пальто, и я вспомнила, что тогда, в вагоне, одет он был так же: черные кожаные брюки и оливковая рубашка, из матово-переливчатой, имитирующей шелк ткани.
Я заказала только кофе, и Кирилл вдогонку – кажется, просто чтобы услать официанта. Тот, почти благоговейно вызволивший от меня цветы, через некоторое время поставил их на стол в стеклянном кувшине для лимонада.
Изумление Кирилла нашим одинаковым кольцам, как всякое безотчетное и бескорыстное изумление, вышло радостным, и я первой, за него, внутренне осеклась, но тут же и он, глянув на меня коротко, чуть откинулся и стал смотреть в окно.
Я сказала, что свет совсем апрельский. Нет, Кирилл покачал головой, слишком много меди – апрель скорее серебряный. Приложив его «медь» к тому, что видела, я сразу уверилась, насколько он точен. Медная искра бежала по каждой волосяной грани, и песочная розовость оседала на плоти и на бесплотном, пригашая изжелта-газовые рефлексы, разрыхляя остроту свечения. Равно голуби и «сталинский» вал фасадов, укреплявший тот берег Бутырской улицы, обменивали сизый пепел масти на эту розовую соль, и в воздушной середине между асфальтом и небом, в самом воздухе этого, для глаз и дыхания, пространства цвет оживал; цвет возвращался свету и его пальцами мимолетом разносился повсюду – сдержанно-семейная обоюдная ласка твари.
За то, что я это вижу, способна видеть, даже теперь, когда я не одна, за то, что оно не исчезло рядом с Кириллом, за это я была благодарна Кириллу.
Да, скорее сепия. Может, сравнение с металлами ему ближе, предположил Кирилл, потому что его специальность – металлогения, он окончил Горный институт. Мне, перехватила я, пришла на ум метафора из области фотографии потому, наверное, что – «фотос», свет, а не потому, что я фотограф или художник. Я всегда невольно отмечаю, какой свет, – не знаю, откуда это, но сколько себя помню. И меня уже давно интересует философия света. Гегель называл свет первым «я», источником субъективности, то есть различения, личности в чувственном мире, который был бы иначе лишь грузно, непроницаемо, невыносимо-вязко объективен. Но верно и то, что свет не смотрит на лица и примиряет различия…
Но ведь я не философ? Профессиональный, он имеет в виду. С дипломом.
Надежда и брезгливость в его тоне застали меня врасплох, как волна из-под колес проскочившего на пешеходный «зеленый» автомобиля.
Нет. Диплом у меня документоведа. А профессия, как в трудовой книжке значится, – делопроизводитель. Но о философском факультете я действительно всерьез подумывала и в старших классах, и даже на первом курсе Историко-архивного, чуть было не собралась переводиться, но, видимо, мне, слава Богу, дано трезво смотреть на вещи – трезво не для философии, а для того, чтобы оценить свои способности, может быть, не спорю, и, как вы дали понять, сомнительные просто по факту пола…
Что значит «дал понять»?
Ну, мне показалось, может, я ошибаюсь, что вы к женщинам профессиональным, дипломированным философам относитесь иронически.
«Я?!» Как первое его изумление походило больше на радость, так это было дистиллированным изумлением, не шутливым, не оскорбленным, но в своей образцовости доверчивым. Сто процентов показалось. Его родил профессиональный философ, буквально родил, – какая уж тут может быть ирония. Мать – доктор философских наук, профессор, член-корр. РАН. Он помолчал. Так что я должна извинить его, он совсем не хотел меня задеть.
Я спохватилась о Горном.
Да, он изучал горное дело, конкретнее – обогащение полезных ископаемых, в дипломе у него так и значится. Только пусть я сразу забуду куваевские романы и весь этот задушевный мачизм. (Мне было нечего забывать.) В горную промышленность он не стремился, со старших классов метил на геофак МГУ, при котором посещал студию, а до нее кружок при минералогическом музее имени Ферсмана. Он мечтал посвятить себя минералогии, а именно, геммологии – науке о самоцветах, правда, и кристаллохимию рассматривал как более общее направление. Но Бог ссудил так, что он попал в Горный, хотя иначе как теорией заниматься тогда еще не мыслил, твердо знал, что будет ученым-геохимиком. А что диплом писал по обогащению драгметаллов, предпослав, таким образом, себе прикладную специальность, – то так сложились обстоятельства. Подавляющее большинство – ну или, по крайней мере, когда он поступал, таковых еще было большинство – идет в геологи ради образа жизни, ради экспедиций, это радикально иной человеческий тип, с представителями которого ему никогда не удавалось найти общий язык. Они всерьез мнят себя последними романтиками. Между тем нет ничего более антиромантического, чем экспедиция. Он был в экспедиции однажды, и одного раза ему хватило. Миф экспедиций стоит на двух заблуждениях: что если ты проводишь в них жизнь, то, значит, тобою движет любовь к природе – раз и бегство от социума – два. На самом деле в экспедиции легко дышат те, у кого социальный инстинкт переразвит, пчелиного уровня, которым пресловутая природа вне общения с себе подобными задаром не нужна. В экспедициях ты постоянно среди людей. Невозможно остаться наедине с собой. Не одному – это-то пожалуйста, правда, максимум на час, – но не наедине с собой…
Он же мечтал не о мужском бродяжном братстве, а о камнях и металлах, которые полюбил еще в отрочестве, – драгоценные камни и металлы прежде всего. Все началось со школьной экскурсии в Кремль, их, четвероклассников, повели смотреть Оружейную палату, и, пока девчонки дивились на платья всяких Екатерин, а парни – на мушкеты и пищали, он не мог оторваться от окладов, потиров, панагий, царских регалий. Он впервые видел драгоценные камни и тогда же понял, что ничего прекраснее не увидит никогда, что ничего более прекрасного просто не предоставлено человеческому зрению. По счастью, сгоряча он поделился восторгом с матерью одноклассника, которая их сопровождала, и та рассказала ему о музее имени Ферсмана, куда он на другой день помчался и бывал там уже при всякой возможности, а вскоре записался в кружок…
Меня уже распирало имя аббата Суггерия, так ладно и навечно объединившего собою наши пристрастия – философию света и драгоценные камни, и что-то вроде многоточия в монологе дало мне отмашку. Рефлекторное недовольство моим перехватом и новизна имени сначала насторожили Кирилла, но он пожелал узнать, о чем я, и в итоге богослов и строитель, чье восхищение блеском каменьев как физической зримостью того Божественного света, о котором учил Псевдо-Дионисий, создало цветной витраж, – малый средневековый гигант представил ему свои плечи для опоры.
Вот это и есть любовь к природе. Любовь, основанная на знании и понимающем наслаждении. Только такая любовь неэгоистична, потому что ей достаточно своего предмета издалека. Любить ходить в горы не значит любить горы. Чтобы любить горы, необязательно подниматься на них и совсем уж противно любви их покорять.
Но он-то горы любит?
Смеет утверждать, что да.
«Это злое усердие в удвоении, усилении, сметь утверждать, эта надменная задиристость – не ресентимент ли, – думалось мне, – обожателя гор, подвизающегося по коммерческой части? Идеал одинокого восхождения, банальность про любовь издалека – романтизм, тем и вполне ходовой, и людный, открыточный, как «Странник над морем тумана», Auf die Berge will ich steigen[3], вырос передо мной, вспугнув прежний, ранненоябрьский, только мой». Но и этим, принадлежащим Кириллу, кондовым, как его кожаный портфель, я понимающе наслаждалась.
«…Совершенно лишне доказывать кому-то или самому себе любовь к горам, связывая с ними профессиональную деятельность и тем более досуг (от альпинизма его тошнит; а от высоты?..» – подумалось мне безо всякой, впрочем, издевки). Как эта любовь проявляется у него, вообще едва ли можно продемонстрировать. Так сложилось, что работал он всегда только в пределах Москвы. И так вышло, что практически никогда не по специальности. Одно время профессионально занимался музыкой. С другом и однокурсником Иваном, плюс еще трое из Института стали и сплавов, они играли – не смейтесь – индастриал-метал (а что еще?), вдохновлялись «Rammstein», разве что размах и уровень были по возможностям и способностям: получалась Neue Deutsche Härte, «новая немецкая тяжесть» на русский лад. Из уважения к «первоисточнику», точнее, преклонения, Кирилл дважды брался учить немецкий и со второй попытки освоил бы азы, кабы не Иван, убедивший-таки, что главное – не буква, а дух. Группа называлась Konrad. Никакого особого смысла здесь нет, это анаграмма его инициала и фамилии – К. Андронов. Они выступали в ДК, а как-то раз случился и стадион, на разогреве у одной команды из Германии, название которой вряд ли мне что-то скажет. Группа продержалась, однако, шесть лет, был даже записан альбом, который, правда, расходился потом еще лет десять, но, в конце концов, весь тираж был продан, а это немало.
Тевтонская нота, которую я считала своим домыслом, никому и ничему, кроме меня, не обязанным и Кирилла ни к чему не обязывающим, теперь точно динамиками приближенная, ударила по барабанным перепонкам, хлестнула через край, обесценив мой вклад. Чувство, будто меня разжаловали, уравновешивала, льстя, моя проницательность, хотя и слишком чудесная, чтобы не быть поддавками мне Провидения. Она, эта нота, уже вплелась в мое понимающее наслаждение грамотной, хорошо артикулированной – правильной, спрямленной речью Кирилла.
Кстати, вся фирма – они двое с Иваном; это Иван нашел поставщика, зарегистрировал бренд, снял офис, а Кирилла позвал коммерческим директором, что было не совсем последовательно. Они хотели бы расширить бизнес, торговать не только фонариками, но и разными светодиодными лампами, однако ниша уже плотно занята, а с тех пор, как фонарики встроены во все гаджеты, дела идут откровенно плохо. Так что он уже год как на полставки преподает основы геологии в Строительном колледже. А до их с Иваном бизнеса поработал в нескольких инжиниринговых компаниях.
Говоря, Кирилл иной раз исподволь прокручивал кольцо, довольно свободно сидящее на пальце, – само по себе движение не было нервно-суетливым, но все же очевидно навязчивым. Когда он улыбался, напряжение, тоже, как и речь, выправленное, спрямленное, словно натягивалось, особенно если Кирилл молча слушал, склонив голову набок, и давало на выходе приторность. Когда же он нарочно серьезнел, например подтрунивая над собой времен музыкальных опытов, то лицо его, наоборот, расслаблялось, делалось ясно и мирно-скучным.
Он не каждую секунду мне нравился, а иную – был неприятен, но я любовалась им.
Извинившись за, возможно, слишком личный вопрос, я спросила, почему все-таки не МГУ, а Горный и что заставило его поменять теоретическую науку на прикладную.
Вопрос личный, но есть личные вопросы, на которые стоит отвечать, и он ответит. На геофак МГУ был большой конкурс, по сведениям из проверенного источника, собирались нещадно «валить», а попасть в «отвалы» значило армию. Он решил подстраховаться Геологоразведочным институтом, благо университет всегда проводит экзамены чуть раньше других вузов, но руководитель кружка посоветовал Горный, куда Кирилл и подал документы после непроходного балла в МГУ, и, как уже сказал, Бог судил за него. А направление на третьем курсе Горного поменял потому, что маячило создание семьи, в итоге сорвавшееся, и он, не без некоторых мук, конечно, решил иметь специальность более перспективную с точки зрения трудоустройства и достаточного для прокорма семьи заработка.
По умолчанию я перенесла выданный мне лимит и на второй сугубо личный вопрос, защищаясь перед собой тем, что, упомянув о сорвавшемся браке, Кирилл не может не ожидать засева им самим подготовленной почвы.
Нет, семьи нет и сейчас. Женат он никогда не был, живет один. А я не была замужем, правда, и планов на этот счет не вынашивала, живу с родителями.
Чем дольше длилась встреча, тем дальше нас разводила, но, вопреки разрушительной избыточности того, что длилось, пока мы сидели друг против друга, я была счастлива. Это, длящееся, было нашим ребенком, и премиальные цветы, туповато громоздящиеся в кувшине, словно все поздравляли и поздравляли меня, не умея остановиться сами, пока их не уберут с глаз. И пусть «новорожденный», сразу встав на ноги и не нуждаясь в заботе, великодушно отторгнул родителей. Бесплодное само стало плодом, разрешив собой и избавив «мать», да и «отца» от круговорота сожалений о нерешительности и угрызений об опрометчивости. Но тогда уж это родители выпростались из плаценты мелкого маловерия, скаредной самоохраны. Преступив, да, неблагоговейно преступив, приступили к жизни – вызывающе под землей, – к жизни на вольном воздухе.
Когда я сказала, что заплачу за свой кофе, Кирилл не стал натужно протестовать. С заботливостью, клонящейся в деловитость, он поинтересовался о следующем разе: где и когда мне удобно. Нигде и никогда. Я сама удивилась верному тону и единому выдоху. Я очень счастлива. И буду счастлива еще долго. И поэтому следующего раза не будет. Он не нужен.
Кирилл не позволил мне насладиться этой, к нему относящейся, ему воздающей честь, горно-белоснежной необратимостью.
Кому? Мне следующий раз не нужен? А если нужен ему?
Его почти возмущение было настолько поперек, что и меня почти возмутило, вырвав: «Как это?»
А вот так. Я счастлива – флаг мне в руки, но то, что произошло, касается нас обоих. Я не могу поэтому просто сбежать. Он констатировал, до такой степени не прося, что даже не упрекая. Я именно сейчас ему необходима. (Утвердительность поясняюще смягчилась.) И я не должна бояться: он не сделает мне ничего плохого. Он произнес это без снисходительного поддразнивания волокиты, которому льстит девичья опаска. Не прося, он просил и всей возможной для себя пуританской серьезностью вкладывался в эту просьбу. Просьбу, которая, недвусмысленно, ясно, как на просвет, не касалась мужского и женского.
Но зачем была я необходима? Вызвать чью-то ревность? Устрашить или, наоборот, умиротворить его матушку? Обеспечить ему фиктивный брак? Ничто из этого не стоило моего страха.
Я и не боюсь его. Тут дело в другом. Просто по пути сюда все успело закончиться. Слишком быстро все закончилось…
Из памяти подло высунулось, что так говорят о половом акте, и меня, наверное, бросило в краску. Но либо Кирилл был чище меня, либо я была для него чище его, а значит, и меня подлинной.
Ну, раз так, раз все закончилось (не только тон, но и голос его пустотело, в горькой легкости от обиды приподнялся), тогда он может открыть мне без обиняков, что вынес из нашей встречи.
Эта «встреча», которая у меня внутри всегда опережала «свидание», укоряла меня. Укора мне от меня же, которой вдруг стало больно не знать и не узнать никогда, о чем он собирался просить.
Разобрать, за себя или за него эту боль, а вернее, разлепить ее на боль за себя и боль за него, не получалось тем паче, что я уже видела подоплеку моей вероломной принципиальности – прежде всего, если не лишь сознание несексуальной и неромантической сути его нужды во мне.
Где та точка, в которой я уже знала об этой сути, а посему и знала, что бояться мне нечего? Я понимала это уже в вагоне. Постановщица, исполнительница и зрительница малобюджетной урбанистической драмы, не без – благопристойной, вымученно-атмосферной – эротики, с обязательным катарсисом открытого финала. Перебирая, что с ходу отклоню, как особа порядочная и воцерковленная, а что взвешу, и не собираясь отклонять ничего, я обманывала себя с другим обманом. Как особе порядочной и воцерковленной, мне тем дешевле давалось парение над предрассудками, что пикировать на них и рвать в мясо заведомо не придется. Полно: неужели я верила в то, что на станции «Дмитровская» фантазия и жизнь сыграют химическую свадьбу, что человек, к которому я приближаюсь, заговорит со мной немного отретушированными репликами сценария? Не по добродетельности или чистоплюйству я не могла быть ничтожным средством к ничтожной цели, а потому, что цели как истца и целомудрия как ответчика нет. И жертва (по пути), и отступничество от нее (по прибытии), и безоглядность, и своевременная разумность летели в молоко, но прямой, моей же наводкой.
Я понимала все еще за два дня, с вечера среды, с телефонного разговора, если не прежде звонка. На платформе понимала, что он в мыслях не имеет заполнять мною паузу, – не потому, что опять-таки сверхъестественно чистоплотен или милосерден, а потому, что любила я, а не он, я искала его, а не он меня, я нуждалась в нем, а не он во мне.
Но это ведь означает еще один радиус самообмана. Безотчетно успокоенная тем, что заранее соглашалась на все, чего он от меня захочет, дурачу себя, сочиняю себя и его, я тем самым по-настоящему заранее соглашалась на все. На его настоящее «все», а не сочиненное мною. На «все» как на круглый ноль. Понимая, что назначенная мне встреча – подачка, ну, не так патетично, отправление чуткости, я зачем-то ведь ехала на «Дмитровскую». Ноль подрос до единицы: от меня все-таки что-то нужно, но что-то буднично-благонамеренное, опрятно-человеческое.
Но теперь, когда самый внешний обруч самообмана лопнул, переигрывать поздно. Поставить себя перед ним в той невинности, которую он боялся смутить, вернуть себе эту невинность – я не представляла, как взяться. С одной стороны, раз решила за нас я, то у меня было право отменить решение, с другой – после того как я объявила, что все закончилось, все закончилось и для него, здесь уже он был в своем праве. Напрямик извиниться? Или окольно, любезностью показать, что откладываю бегство и готова к услуге?
Так что же он вынес?.. Когда на платформе он меня увидел, мой взгляд и как я взяла букет, то понял, что это не жалость.
Последнее слово, вопросительно повторенное мною, он выговорил почти горделиво, даже подбородок как будто чуть подался вперед, так что шея стала заметнее.
Да. Жалость. Он притронулся к пятну костяшками пальцев, не опуская подбородка и продолжая глядеть на меня в упор. То есть сначала он думал, что я посредник его матери (так уж вышло, что напрямую они с некоторых пор не общаются), а когда выяснилось, что нет, предположил, что я… просто проявляю сострадание, в котором, как мне кажется, он нуждается.
И он не рассердился?
Зачем?
Не почувствовал себя оскорбленным?..
Зачем… Напротив. Решил посмотреть на человека, который отважился сломить инерцию, по которой мы все движемся друг мимо друга, можем даже наступить на самолюбие, прикинуться… изобразить увлечение, чтобы другой человек поверил в себя. Подарить другому человеку… надежду… На слове «надежда» он повел плечами, как бы отдавая его тем, кто охотнее и увереннее им пользуется.
Но когда… (Кирилл опустил глаза и прочистил горло, и на миг мне до ненависти стало страшно, что он сейчас прослезится.) Когда я появилась, тут он совсем растерялся, потому что увидел, что… что это не жалость, а…
Он понял, что перемахнул и подать назад невозможно. Это был самый момент, чтобы, придя ему на помощь, спасти себя.
Так зачем я необходима ему?
Это уже не важно.
Небрежность скороговорки наказывала меня, но я не далась. Важно.
Хорошо. (Он словно ставил тире вместо звена «Пеняйте на себя».) Ему нужна сестра.
Медицинская?
Чья-то, подложная язвительность другим концом огрела меня саму, но Кирилл или не уловил ее, или наскоро простил, или принял как заслуженную.
Нет. Родная.
Это связано с наследством? Я не буду участвовать в юридических махинациях!
Мое самоотвержение треснуло с мстительным смаком, как вдруг трескается расхваленное изделие на глазах покупателя. Но Кирилл простил мне и это: улыбка, которая вывела на его лицо мое уже второе после «наркотиков» подозрение в криминальном умысле, пусть и исковерканная наконец объединенными силами приторности и напряженности, еще упорствовала быть нашей связкой, нашей перемычкой.
Он же сказал, что мне нечего бояться. Только заранее предупреждает: то, что он сейчас будет говорить, возможно, и даже наверняка никакого отношения не имеет ко мне настоящей, так что я смело могу не принимать на свой счет того, что покажется чересчур. Ну, покажется бестактным… Так вот, мой взгляд, когда я подошла на платформе. В нем была уязвимость. Не то чтобы стрелка развернулась и он понял, что это я нуждаюсь в его жалости, не то чтобы я смотрела на него не сверху вниз, а снизу вверх – фигурально выражаясь, понятно. Но когда ему открылось, что я не жалею его, а… Скажем так, для меня он кто-то, кого жалеть не за что… Тогда-то он вспомнил, что всегда мечтал… Лет в шестнадцать-семнадцать-восемнадцать мечтал о младшей сестре. Ну вот нет у него сестры!.. (Последнюю фразу Кирилл подоткнул в конце, для устойчивости, смешком, похожим на сбивку дыхания, покаянным и недоверчивым.) И именно сейчас сестра ему необходима. Именно такая, как я. Вот я не мечтала в детстве о старшем брате?..
Он недолго ждал, что я уступлю подсказке, и мое оцепенение перевесило.
Ладно… Простите мне Бога ради этот какой-то бред о сестре… Кирилл положил и секунду удерживал на столе ладони, как на только что захлопнутой крышке, после чего легко, будто оттолкнувшись, встал. Но и я вскочила, то ли поспевая за ним, то ли преграждая ему дорогу.