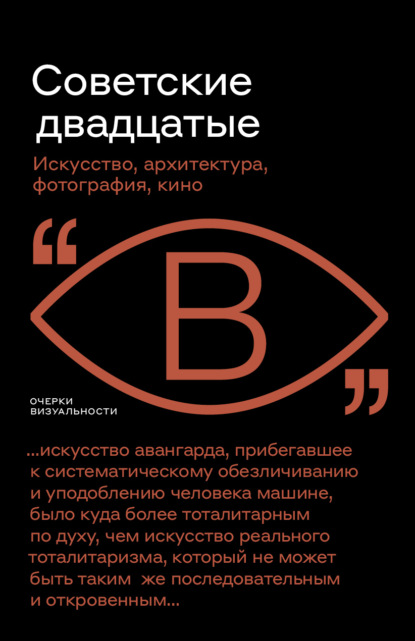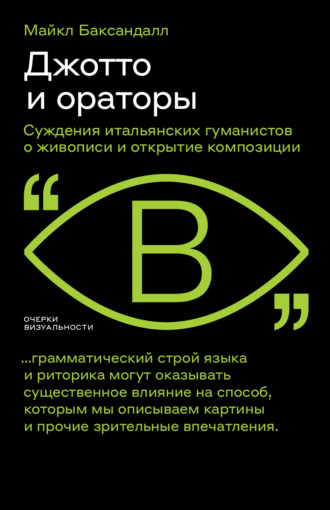
Полная версия
Джотто и ораторы. Cуждения итальянских гуманистов о живописи и открытие композиции
Гуманисты очень хорошо понимали, что классическая латынь категоризировала некоторые виды опыта отличным от их родного наречия образом, поскольку это проявлялось в возникавших при изучении языка трудностях. В целом они были склонны давать определения словам, для которых не имелось точных синонимов, в основном цитируя их в контекстах и отмечая оттенки различий близких по смыслу слов. Второй метод, обозначение differentiae, лучше всего подходил для руководств начального уровня:
Inter formam et pulchritudinem. Formam oris proprie. Pulchritudinem totius corporis dicimus.
Inter venustatem et dignitatem. Venustatem muliebrem. Dignitatem virilem pulchritudinem dicimus.
Inter decus et decorem. Decus honoris. Decor forme est.
Inter decentem et formosum. Decens incessu et motu corporis. Formosus excellenti specie dicitur.
Inter decorem et speciem. Decor in habitu. Species in membris[11].
Значительная часть Elegantiae Лоренцо Валлы, лучшей лексикографической книги, созданной ранними гуманистами, представляет собой более точную и полную версию этого же метода:
Decus, decor и dedecusDecus – это, скажем, почет, завоеванный хорошо исполненным делом: соответственно, decora войны – это слава, награды и почести, приобретенные солдатом в бою. Dedecus – противоположное decus… Decor это своего рода красота, или pulchritudo, проистекающая из соответствия (decentia) вещей и людей одновременно месту и времени, будь то в действиях или в речи. Речь может идти и о добродетелях, если употребляется decorum: и относится не столько к добродетели самой по себе, сколько к тому, что принято считать добродетельным, прекрасным, подобающим…
Facies и vultusFacies имеет отношение скорее к телу, vultus – к душе и воле, или voluntas, от которого и происходит, vultus как форма супина от volo, я желаю.
Поэтому мы говорим о гневных или скорбящих vultus, а не facies; и о широком или длинном facies, а не vultus. (Superficies – это составное существительное от facies и отличается от него незначительно. Мы говорим о facies моря или земли примерно так же, как и об их superficies, и facies человека это первое, на что мы смотрим, обращая на него свой взор.) Иногда уместно любое из этих слов: безобразное facies и также безобразные vultus, взволнованные или изменившиеся facies либо vultus. И подобных случаев много.
Fingo и effingoFingere в строгом смысле имеет отношение к горшечнику или figulus, который лепит фигуры из глины. Отсюда значение можно распространить в общих чертах на другие предметы, искусно созданные с помощью человеческого таланта и мастерства, особенно если они необычны или обладают новизной. Effingere значит fingere в другой форме, изображать путем fingere, как у Цицерона (De oratore ii. 90): «tum accedat exercitatio, qua illum, quem delegerit, imitando effingat atque exprimat…» («За этим пусть последует упражнение, в коем он должен с точностью воспроизводить подражанием избранный образец»[12].) От effingere происходит существительное effigies, означающее образ, сотворенный в вылитом сходстве с чем-то или кем-то, либо по образу истины, как в живописи, так и в скульптуре. (XVIII (b), (c), (e))
Таким образом, итальянец, учившийся должным образом употреблять фразу вроде vultus decorem effingere (изображать красоту лица*), учился также упорядочивать свои наблюдения о живописи и художниках новым, а вернее старым, способом. Материалы руководств покрывали сравнительно немногое; всякий приличный гуманист сам составлял свой словарь, двигаясь в этом деле на ощупь, открывая, так сказать, классические ящички один за другим, и в той мере, в какой он ставил перед собой цель подражать Цицерону, связывал себя обязательством использовать классические категории в своей собственной речи.
Сложно судить, как сильно это повлияло на подходы гуманиста к описанию визуальных явлений, но какие-то изменения произошли. Ниже – два кратких восклицания о картине Пизанелло. Первое, на неоклассической латыни, было написано гуманистом Гуарино да Верона около 1427-го:
Quae lucis ratio aut tenebrae! distantia qualis!Symmetriae rerum! quanta est concordia membris!(XI, строки 60-I)Какая трактовка света и тени! Какое многообразие!Какая симметричность предметов! Какая гармония частей!Второе было написано в 1442 году по-итальянски Анджело Галли, секретарем Федериго да Монтефельтро, герцога Урбинского:
Arte mesura aere et desegnoManera prospectiva et naturaleGli ha data el celo per mirabil dono[13].Без сомнения, Гуарино и Галли увидели в Пизанелло разное, хотя и невозможно узнать, насколько впрямую их замечания связаны с их подходом к картинам. Однако ясно, что Галли обращает внимание на те качества у Пизанелло, которые Гуарино не мог, даже если и хотел бы, выразить по-латыни. Взгляд Галли на художника – победоносно народный. В частности, mesura, aere и maniera – это набор связанных между собой понятий из терминологии светских танцев Кватроченто, и независимо от того, оперировали ли уже этими терминами художники или нет, их богатые коннотации, по большей части, опираются на это. Доменико да Пьяченца, написавший около 1440–1450 года самый ранний из уцелевших трактатов Кватроченто о танцах, называл пять разделов танца подобно тому, как гуманисты выделяли пять разделов риторики; в танце это mesura, memoria, maniera, mesura di terreno, aere[14], и Галли с тонким критическим чутьем переносит на Пизанелло те три из пяти разделов, которые адекватно применимы по отношению к изображению фигур: mesura, maniera, aere. Mesura – важнейший компонент, согласно Доменико – это ритмическое качество. Это «tardeza ricoperada cum presteza» (промедление, наверстанное быстротой*); она определяет размер, а именно «tutte presteze e tardeze segondo musica» (все ускорения и замедления, согласно музыке*). Maniera связана с zentile azilitade (изящными движениями*) фигуры:
nota che questa azilitade e maniera per niuno modo vole essere adoperata per li estremi: ma tenire el mezo del tuo movimento che non sia ni tropo, ni poco, ma cum tanta suavitade che pari una gondola che da dui rimi spinta sia per quelle undicelle quando el mare fa quieta segondo sua natura, alzando le dicte undicelle cum tardeza et asbassandosse cum presteza[15].
Значение aere определить сложнее: «e quella che fa tenire el mezo del tuo motto dal capo ali piedi» (то, что заставляет держаться в движении целиком, с головы до ног). Последователи Доменико истолковывали этот термин. Согласно Антонио Корнацано, это «un' altra gratia tal di movimenti che rendati piacere a gli occhi di chi sta a guardarvi» (иная грация в движениях, та, что делает тебя приятным для глаз тех, кто на вас смотрит)[16]; согласно Гульельмо Эбрео – «…e un atto di aierosa presenza et elevato movimento, colla propria persona mostrando con destreza nel danzare un dolcie et umanissimo rilevamento» (…изящная манера держаться и отчетливое движение, позволяющее собственной персоной с ловкостью выказать в танце изящное и человечнейшее поведение)[17]. Так, Галли, придворный поэт, уподоблял нарисованные фигуры Пизанелло, придворного художника, определенным визуальным элементам современного придворного танца, и это были элементы, знакомые в теории и на практике всякому знатному господину. Это очень приемлемая художественная критика, наиболее талантливая из всех критических высказываний того времени о произведениях Пизанелло, и критика в высшей степени народная. Гуманистическая латынь никак не могла предложить категории с такими же смысловыми связями и вызывающие такой же отклик, даже несмотря на то, что, как мы увидим позже, и она опиралась на метафорическое описание визуальных качеств. Используя латинский язык, Гуарино лишал себя средств из арсенала Галли, и перечисляемые им качества неизбежно оказывались столь же неоклассического характера. Взять хотя бы первое, ratio – это слово необычайно богатой и суггестивной сложности: таким термином Гуарино может указать на тщательно взвешенное и системное качество, последовательно подкрепленное подходящей причинной базой, в светотени у Пизанелло – качество, связанное с scientia.
Итальянский язык и латинский язык Цицерона могли сосуществовать легко, дополняя друг друга, поскольку каждый обладал своей сферой употребления. К чему гуманисты должны были относиться критически – так это к вульгаризированному лексикону средневековой латыни: в этом вопросе классицизм принуждал их к основательной чистке. Одни, классические слова были возвращены к жизни; другие, постклассические, вроде pulchrificatio или deiformitas, были отброшены; важнее всего то, что значения очень многих слов, подобно таким как ratio, были переопределены в свете их классического употребления. Естественно, ревизия не была проведена в один этап. Она проводилась частями: тут использовалось одно новое слово, там старое варварское слово исключалось, в другом месте знакомое слово употреблялось в ином или более узком значении; в эпоху ранних гуманистов этот процесс никоим образом не был закончен. И все-таки постепенно, начиная со времен Петрарки, баланс внутри словарного запаса был видоизменен, и, попросту с точки зрения доступности слов, стало проще говорить об одних вещах и гораздо труднее о других, не ставя при этом под сомнение чье-либо следование классическим принципам[18]. Например, сильно обеднели возможности разбираться в нюансах splendor. Схоластический лексикон был чрезвычайно богат на слова, обозначавшие блеск разного характера, но гуманисту существительное вроде resplendentia или refulgentia, глагол вроде supersplendeo или сочетание вроде perfusio coloris более не представлялись допустимыми. «Блеск» как сфера опыта в лексическом смысле имел дурную репутацию вплоть до того, что стал объектом избыточной правки, поскольку даже приличные классические слова в этой области редко встречаются в гуманистической латыни; к самому слову «блеск» гуманисты не испытывали склонности и использовали его разве что для метафорического описания исключительного морального или литературного превосходства. По этой причине нельзя с уверенностью ставить знак равенства между отсутствием утверждений о «блеске» в гуманистических текстах и соответствующим недостатком интереса по отношению к блистательным произведениям живописи; splendor – как и, в сущности, такое первоочередное ренессансное качество, как proportio – были словами, которых гуманисты избегали по внутренним формальным причинам. Увлекательно наблюдать, как флорентийский гуманист Амброджо Траверсари откликается на блеск византийского великолепия Равенны, оперируя безупречно классическими категориями – magnificus, candidus, discolor, insignis, lucidis, speciosus, conspicuous, – ни разу не обращаясь к splendor[19].
Как фактическое исключение монашеских слов, так и возвращение классических слов в период Раннего Возрождения проследить легко; что на практике оказывается менее понятным, и в подобной же степени важным, это изменения в значениях многих общих для классической и средневековой латыни слов, поскольку очень часто изменение не подходит к определению, буквально в смысле того, к чему слова отсылают или что обозначают. Значение слов – в их употреблении, и большая часть значения слов в классической латыни лежит в установлении связей с другими словами, в системе перекрестных ссылок, различений, оппозиций и метафорических привычек, которые были размыты и накладывались друг на друга в средневековой латыни, где, в конце концов, возникли свои сконструированные системы. Когда гуманисты начали подражать Цицерону, установление перекрестных значений внутри словаря стало одной из областей, подлежащих реконструкции. Зачастую это оказывалось трудноосуществимым:
Pulcher может означать fortis, а fortis – pulcher, как у Вергилия, Aeneid vii. 656–657: satus Hercule pulchro / pulcher Aventinus. Поскольку кроме как применительно к Геркулесу pulcher означает fortis, эпитет может показаться неподходящим. Соответственно, fortis можно использовать вместо pulcher для восхваления женщин. Virtus и pulchritudo – взаимозаменяемы, так же как и malitia или vitium – с deformitas: см. у Вергилия, Aeneid iv. 149–150, haud illo segnior ibat / Aeneas – т. е. уже не deformis…[20]
Затруднение объяснимо. Смыслы и перекрестные значения, предположения, что при использовании одного слова отвергается другое, негласное понимание, что противоположным используемому слову являлось определенное иное – все это в совокупности покоилось на весьма зыбких основаниях. Даже в античном мире это была система, поддерживаемая элитой, получившей одинаковое образование и обладавшей определенным интеллектуальным уровнем. Гуманисты так и не смогли восстановить эту систему до цельного и осознанно ощущаемого состояния, но некоторые из наиболее заметных ее частей, особенно те, которые были детально рассмотрены и разъяснены античными писателями, стали очень заметны в их дискурсе.
Один из примеров – слово ars (мастерство; ремесло, занятие; теория, научный труд). В средневековой латыни ars употреблялось в большинстве своих классических смыслов; было принято, среди прочего, одобрительно говорить об ars, мастерстве или умении, о художнике или о понравившемся произведении искусства. Петрарка и гуманисты употребляли это слово в отношении качества из той же области. Тем не менее, оказавшись в контексте неловко имитирующих Цицерона прозаических форм и словоупотреблений, оно стало нести немного другую нагрузку, и, в частности, стало уже невозможно не принимать всерьез тот факт, что ars было словом, чье соотношение с некоторыми другими категориями определялось очень жестко. Одной из таких категорий было ingenium, связь которого с ars подробно рассматривалась и объяснялась в классической риторике. Как ars было мастерством или способностью, усвоенными через правила или подражание, так ingenium было врожденным талантом, которому невозможно научиться:
…ars erit quae disciplina percipi debet.
Ea, quae in oratore maxima sunt, imitabilia non sunt, ingenium, vis, dacilitas et quidquid arte non traditur[21].
Каждое из этих слов обретало часть своего значения из имеющегося между ними различия; оба слова, будучи самостоятельными единицами, подразумевали, но не содержали в себе значения друг друга. Более того, в любом художественном деле у каждого из них была своя сфера действия: например, ingenium было связано с изобретением, ars – больше с манерой исполнения. Средневековые авторы были знакомы со многими из классических руководств по риторике почти в той же мере, что и гуманисты, но они не были готовы применять эту систему, придавая ей такой вес или отдавая исключительное предпочтение. Соединенные в пару, ars et ingenium сразу стали оружием в критике и спорах гуманистов; выражение использовали в полной мере уже в Треченто, в защите поэтического письма[22]. Связь между ars и ingenium в разных контекстах оказывалась вследствие этого настолько тесной, что не представлялось возможным говорить об ars, не делая опущение ingenium конструктивной мерой. Особенно – в контексте прославления; к 1400 году хвалить человека лишь за его ars было чуть ли не равнозначно предположению, что он не обладал ingenium, поэтому сопряженные ars et ingenium либо какое-нибудь иное слово из той же категории, вроде scientia, было тем, за что хвалили практически всегда. Гуманисты хвалили друг друга за ars et ingenium, затем без резких переходов хвалили за те же самые качества художников, значительно дотошнее, чем когда-либо это делали сами древние авторы: в текстах, напечатанных в конце этой книги, ars et ingenium, либо ars et natura, либо artificium et ingenium, либо manus et ingenium – одно из наиболее часто встречающихся выражений. Едва ли найдутся следы глубокой вдумчивости в употреблении этих слов по отношению к художникам и скульпторам; и действительно, во всех рассматриваемых текстах лишь не ранее середины XV века ситуация начинает оцениваться критически, а также ставится вопрос, правильно ли применяется термин ingenium по отношению к подобным людям. В диалоге Анджело Дечембрио De politia literaria, написанном около 1450 года, один из собеседников, Лионелло д'Эсте, в ходе длительной дискуссии высказывает предположение, что ответ на этот вопрос – отрицательный:
Age nunc scriptorum ingenia uti rem divinam et pictoribus incomprehensibilem omittamus: ad ea redeundum quibus humana manus assuevit…
…poetarum ingenia, quae ad mentem plurimum spectant, longe pictorum opera superare inquam, quae sole manus ope declarantur[23].
В рамках его собственного сдержанного взгляда на деятельность художников он был прав, однако вывод, к которому он приходит, по правде говоря, опоздал на сто лет, чтобы возыметь хоть какой-то эффект: помимо всего прочего, arte e ingenio давно стало клише также и в просторечном языке[24]. Весьма характерно, что в других частях книги Лионелло приходится говорить об ars et ingenium художников так же, как это делали остальные; его аргументы не подходили его стилю речи. Однако каким бы несистемным и непродуманным образом гуманисты ни обращались с этим выражением в повседневной практике, они что-то говорили о сущности живописи. Ars посредством антитезы стало характеризоваться четче: способность обучать и учиться по правилам и образцам. Ingenium принесло с собой мощный набор ассоциаций, возникавших в виде спорных вопросов об одаренности и воображении художника. Истоки большей части тяжеловесной теоретической дискуссии XVI века об искусстве лежат в гуманистической латыни и ее лексиконе, определенным образом категоризирующем творческие способности. Системой были слова.
Еще одной приводящей в замешательство особенностью классической системы была непринужденность, с которой она ввела в действие межсенсорные метафоры. Весьма значительная доля терминов античной риторики представляла собой метафоры из сферы визуального опыта – метафоры, надо признать, порой полумертвые, но гуманисты неминуемо оживляли их попросту в процессе изучения: стиль речи мог быть translucidus или versicolor. Подобная вольность в обращении с метафорами присутствовала в гораздо меньшем корпусе классической художественной критики, и здесь значительная доля терминов заимствовалась из области риторики[25]. Когда Плиний описывает художника как «gravis ac severus idemque floridus ac umidus»[26], слова отсылают к совокупности их использования в критическом значении в рамках риторики. Эта привычка прибегать к метафорам – как к укоренившемуся набору античных терминов, так и к образованию им подобных – была, вероятно, одним из наиболее эффективных средств гуманистической критики; как мы увидим позже, значительная часть того, что достигнуто Альберти в трактате De pictura, обусловлена именно этим.
Гуманисты не всегда управляли этой терминологией. Лионелло д'Эсте в De politia literaria Анджело Дечембрио пытается провести различия между двумя своими портретами, один из которых кисти Якопо Беллини, второй – Пизанелло:
Meministis nuper Pisanum Venetumque, optimos aevi nostri pictores, in mei vultus descriptione varie dissensisse, cum alter macilentiam candori meo vehementiorem adiecerit, alter pallidiorem tamen licet non graciliorem vultum effingeret…[27]
Два из употребленных здесь терминов, gracilis и vehemens, наполнены смыслом, который они приобрели как термины риторики. Основное значение gracilis – «стройный»; в отношении стиля выражения мыслей, с другой стороны, слово использовалось в смысле «простого» или «не имеющего украшений». Vehemens могло быть использовано в смысле «мощного» или «яростного», как по отношению к живым существам, так и к стилю речи. Но каждое из этих слов – gracilis и vehemens – обозначало один из трех genera dicendi, или уровней стиля[28]. Genus gracile являлось синонимом genis humile, стиля без украшений, достоинствами которого являются чистота и ясность. Genus vehemens являлось вариацией genus sublime, резко ритмичного, тяжело украшенного стиля. Один – вольный стиль, второй – эпический. Если бы Дечембрио использовал эти слова, в полной мере управляя их метафорическими значениями, это была бы чрезвычайно выдающаяся критика. Скорее всего, он этого не делал, однако в любом случае оттенки побочных смыслов могли присутствовать в сознании всякого читателя-гуманиста. Дечембрио говорил больше, чем знал.
Есть и другие случаи, когда гуманисты использовали риторические метафоры на очень высоком уровне. Например, рассуждение о художниках в De viris illustribus Бартоломео Фацио возникло из аналогии между живописью и писательским мастерством. Фацио настаивал на том, что фигуры в живописи должны быть выразительными и жизнеподобными. Он процитировал Горация – о необходимости поэзии волновать сердца слушателей:
non satis est pulchra esse poemata; dulcia suntoet quocumque volent animum auditoris agunto[29], —и после этого сказал: «Так надлежит, чтобы и живопись была не только украшена разнообразием красок, но гораздо более была бы представлена [в ней], так сказать, некая жизненность [figuratam esse convenit]»[30]. Figurat[us] – это слово из Квинтилиана, и Фацио опирался на классическое определение Квинтилианом функции риторической figuarae:
Часто бывает полезно и отступать несколько от обыкновенного порядка, а иногда и прилично: как видим в статуях и картинах: и одежда, и лицо, и положение различно. В прямом и неподвижном теле нет ни малой красоты. Прямо изваянная или написанная голова, опущенные руки и сжатые ноги, сверху до низу делают изображение принужденным и неприятным. А наклонение, или, да так скажу, движение придает некоторую живость. А потому руки и лицо принимают тысячу видов. Одни из таковых изображений кажутся стремящимися и бегущими: другие представляются сидящими, или наклонившимися; иные наги или одеты, а некоторые в том и другом состоянии вместе. Что можно видеть в уродливейшем и труднейшем положении, как метатель круга Мирона? Но если бы вздумал кто осуждать хотя мало что в сей статуе, не показал ли бы крайнего своего невежества в художестве, в коем особенно удивления достойна та самая новость и трудность работы? Таковую же красоту и приятность придают слову фигуры [figurae] в мыслях и речениях. Ибо изменяют они некоторым образом правильность и бывают тем самым разительнее, что отступают от обыкновенного образа речи[31].
Отрывок развивает мысль Фацио за него, возможно, точнее и определенно решительнее, чем он сам мог бы справиться.
В завершение рассмотрения этого вопроса можно обратить внимание на случай перевода сложных критических категорий подобного рода на вольгаре. В 1424 году Леонардо Бруни написал знаменитое письмо Николло да Уццано и deputati, ответственным за создание дверей Баптистерия во Флоренции, где высказал рекомендации относительно второй пары дверей Гиберти, к созданию которой тот должен был вскоре приступить: суть заключалась в том, что сюжетные панно должны были быть одновременно illustre и significante, и Бруни берет на себя труд разъяснить значения этих терминов:
Io considero che le dieci storie della nuova porta, che avete deliberato, che siano del vecchio testamento, vogliono avere due cose, e principalmente l'una, che siano illustri; l'altra, che siano significanti. Illustri chiamo quelle, che possono ben pascer l'occhio con varietà di disegno; significanti quelle, che abbino importanza degna di memoria[32].
Бруни адаптирует и объясняет термины критики, которые он привык применять по отношению к художественному языку. Illustris означало одновременно «богато украшенное» и «яркое»:
Стиль можно назвать illustris, если используемые слова избраны за их грузность и используются в метафорическом значении, и с преувеличением, и в качестве прилагательных, и с удвоениями, и синонимично, и созвучно с действием и представлением явлений. Это род слога, который буквально представляет явления взору, поскольку касаем именно чувством зрения…[33]