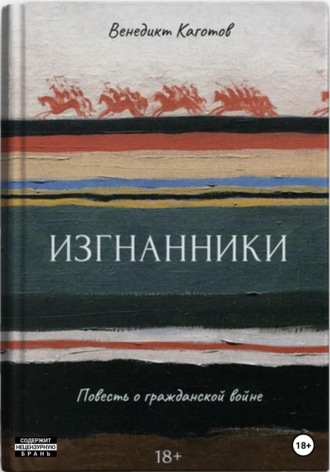
Полная версия
Изгнанники. Повесть о Гражданской войне
Той же ночью озверевшие венгры с простынями незаметно пробрались через чердак, по карнизу подкрались к русину и, зажав ему рот, перерезали горло, но не удержали. Тело рухнуло вниз. Встревоженные аисты подняли крик, перебудили лагерь. Началась драка, и сонная охрана, не разобравшись, открыла сплошную пальбу по вывалившейся на улицу толпе, а затем и по крышам. Утром на месте метался птичий пух, лип к кровавым лужам, лежали на простынях убитые венгры и пострелянные аисты. Розовели в разбитой скорлупе их мертвые птенцы. Гнезда были пусты. Оставшиеся яйца собрали и попытались выходить в тепле, но все они через пару дней погибли. А через неделю прибыл поезд с продовольствием.
Вспоминая поведанную доктором историю и особо того по рассказам уже немолодого дунайца, гибель которого отзывалась в душе страстной жалостью, до рези в носу, Эдвин спросил:
– Скажите, доктор, наш обмен не вызывает в лагере каких-либо недовольств?
– Doch.
– Я должен признать ужасающее впечатление от лагеря – вальяжно произнес Эдвин, оглядываясь – С прошлого визита размеры отходов на вид умножились вчетверо, а весом, должно быть, удесятерились! За две недели и при отсутствии всяких средств производства! Несколько опровергает Энгельса, не находите? Поражающее искусство людей – у них ничего нет, но сколько, однако, производится мусора! А все потому, что здесь совершенно исключен честный труд. Достаточно лишь сравнить территорию с огородом, где абсолютный, прямо геометрический, порядок. Я полагаю чудовищным, что люди так скоро опускаются морально. Даже не верится, во что превращаются европейцы, когда хотят есть. Трудно поверить, чтобы… – Эдвин помедлил, рассматривая доктора – чтобы Гёте, голодая, обнаружил в себе подобную глубинную дикость.
– Честный труд – повторил доктор, опустив голову и в смущении оправляя свои брюки, – мне памятны сибирские зимы на прокладке железнодорожных путей. Люди, сидевшие по сквозным баракам в дырявых интендантских мешках вместо штанов. Они оставляли зубы в конских жилах, которые застывали, только их вытаскивали из котлов. А крутившиеся в снежном буране казаки гнали и гнали нас на работы. Шпалы и рельсы, абсолютная геометрия. Вот встреча народа-Гёте и народа-Достоевского. Настоящее трудовое знакомство Deutscher Michel с Иваном. Без петербургских нежностей.
– Есть ли новости от ваших товарищей? – резко сбил тему Эдвин, вспомнив, что в разговорах с доктором всегда отчего-то становится рассеянным, опасно углубляется и рассуждает на отвлеченные темы. Он решил вернуться к делам и сосредоточиться на каких-нибудь цифрах.
– Благодаря вашим документам, господин Эрлингтон, пятеро наших товарищей смогли добраться до Харбина. Двое новообращенных славян получили разрешение заключить брак с русскими женщинами. Еще двум австрийским прапорщикам и одному вольнонаемному, владельцам химической лаборатории, позволили свободно жить во Влади.
– Я рад…
Доктор по привычке предложил Эдвину папиросу, и канадец, в очередной раз отказываясь, подумал, что и немец, возможно, в его обществе впадает в некую рассеянность, и что это, возможно, некое особенное обоюдное воздействие умов. Мысль показалась любопытной.
Разговор прекратился. Немец курил глубоко и сладко, неспешно выпускал через ноздри синие струйки, отчего походил на усатого, погруженного в усталую задумчивость дракона. Сhinoiserie – усмехнулся про себя канадец – всюду Китай. Незаметно он вновь погрузился в размышления и против воли вновь обратился к немцу.
– Скажите, доктор, как вы, ваше, то есть, общество, воспринимаете в лагере мировые события? Я интересуюсь наблюдениями за человеческой реакцией.
Мои наблюдения – протянул доктор, – они весьма посредственны, я все же хирург. Полагаю, большинство из нас в этом отношении просто вынуждены как говорится Auf der Bärenhaut liegen. Впрочем, могу заинтересовать вас таким фактом. Спустя несколько месяцев в плену, я обнаружил за собой и за многими другими офицерами навязчивую необходимость вычитывать газеты между строк, что пагубно воздействовало на наше состояние. Посудите, настоящих новостей, как правило, крайне не хватает, газеты, которые вы привыкли читать в клубе, вовсе не желают исполнять условия подписки, так что остается довольствоваться чем-то наподобие «Lorraine Nachrichten» или социалистическими бумажками, что печатают солдатские комитеты, или в лучшем случае общением с экземплярами местной интеллигенции. Так вот, получая в два месяца одну достойную германскую газету, вы изучаете ее до дыр, однако содержимое не утоляет всю вашу жажду. Эту жажду сведений. И вы начинаете подозревать, уж не скрыт ли намек на истину между строк. Этого намека, разумеется, нет и, чем старательнее вы его отыскиваете, тем быстрее сходите с ума. Не забывайте, как шутит дьявол…
Вы загнаны на другой конец света… неудивительно.
Да, вот только именно здесь, у Тихого океана, прочь от несчастного Fatherland, люди перестают зваться пруссаками, баварцами, ганноверцами, швабами и становятся немцами. Даже на фронте они не чувствовали себя такими братьями, как здесь. Дружба с самыми истинными основаниями укрепляется в изгнании. Одни лишь лотарингцы в замешательстве несут свой крест… И все же отсутствие новостей…
Доктор страшно закашлялся, пугая Эдвина, и желтая его шляпа упала в пыль.
– Я с удовольствием введу вас в курс – спешно прокричал канадец, будто бы это могло при необходимости спасти доктору жизнь – В Париже завершается конференция. Германия получает по заслугам, а Клемансо, говорят, так прямо и сказал: боши заплатят за всё. Удивительно, как кайзер мог столь бездумно втравить нас всех в эту бойню! Сколько жизней, сил и ресурсов потрачено попусту! Четыре года позора и тщеславия для этого мерзавца, сбежавшего в итоге к голландцам!
– Занятно. Вам, господин Эрлингтон, очевидно, не приходит в голову мысль, что я являюсь подданным Германии, и что вы говорите о моём Отечестве… Закон и право… как вечная наследная болезнь, государству передается государством, а разум, подобный шелухе, чуме лишь служит – сдерживая кашель, с трудом проговорил доктор. Он наконец выпрямился и стал приминать и возить тростью по грязи свою шляпу.
Вы правы, я вас совсем не отождествлял. Вы же немец.
Я-то?.. – тихо и обессиленно переспросил доктор – Да, пожалуй, что я немец и предпочту Rheinwein… Ich bin deutsch. И сейчас даже более, нежели в четырнадцатом году. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Так, неужели вы думаете о Клемансо лучше, чем о Вильгельме? Мы должны отдать французам нашу землю? Разве это справедливо?
– А разве нет? Я, доктор, мало озабочен принадлежностью Эльзаса. Но я помню поля Фландрии, вот уж отлично удобренная лакомая земля – тут Эдвин замер и погладил костяшками пальцев бородку – когда я был там по делам миссии, то всюду сплошь тухли тела. Их, знаете ли, не успевали хоронить, а вскоре с наступлением оттепели уже и нельзя было никого распознать, и бригады брали только тех, что лежали поверх, чья форма позволяла установить армию. Чем ярче светило солнце, тем сильней тонкий кондитерский запах гниения терзал противогазы. С заморозками смрад исчезал, с теплом возвращался вновь, и я знал тех, кто пускал себе пулю в рот, избегая мертвецкой карусели. Я полагаю, раз уж безумный кайзер явился виновником мясорубки, то отчего бы французам, поседевшим в траншеях, не заполучить себе Страсбург.
– Я – император и облачаюсь в доспехи, как солдат – пробормотал немец.
Эдвин заметил, что доктор более обычного подавлен и с момента встречи в поле ни разу на него не взглянул. Неужели это из-за стычки с лейтенантом, из-за грубости? От беседы складывалось неприятное ощущение бессвязности, словно каждый говорил сам с собой, и ответы служили лишь формальным звеном для продолжения монолога. Эдвин понял, что говорит гораздо больше собеседника, чего с ним почти не случалось. Впрочем – сразу подумал он – тут ведь и не я, а от лица Эрлингтона – пускай болтает.
– А как вы находите, между тем, дело доминионов? Возьмем, скажем, Канаду. Благодаря пронырливости Бордена страна имеет нынче суверенное представительство в Париже, визирует, так сказать, Версальский договор, членствует в Лиге Наций. Достойное ли возвышение? Как бы на то посмотрел теперь Бисмарк из своего поместья на Гельголанде?
– Войны начинают одни, гибнут в них другие, а расплачиваются третьи – продолжил доктор.
– Я не соглашусь. Вам это признать будет прискорбно, но тут уж все три роли за немцами – на этих словах Эдвин, ощупывая подушку под сюртуком, твердо решил и погрубить, и похвастать, не так ли, в конце концов, ведут себя упитанные люди – я, дорогой доктор, прежде назвал кайзера безумцем, однако же и народ германский разве отличен разумом? Вы потворствовали и развязали ад, да еще и потерпели поражение, а, как известно, просвещенный суд судит проигравшегося, пускай даже повинных и множество, и я их вины не умаляю. Я только к суду не принадлежу и нахожу честным помогать во Владивостоке каждому, не разбирая наций, ведь все мы из казарм побежденных, пока эта кошмарная война, голод и страдания военнопленных и беженцев не окончены.
– Я знаю и ценю вашу заботу, господин Эрлингтон… – дрожа ответил доктор и тут же резко спросил: Могу я задать вам вопрос? О сегодняшнем происшествии?
– Пожалуйста – Эдвин с любопытством следил за немцем, довольный собой. Он рассчитывал на будущее, что для убедительности характера следует чаще упражняться в изложении чуждых и даже, может быть, вообще идиотских мыслей.
– Вы так ревностно вступились за вашего работника. Ein Sturm im Wasserglas! Неужели он Ваш близкий друг? Ведь вы в Приморье не первый месяц и осведомлены, что у местного населения, особенно азиатского, человеческая жизнь не ценится, не говоря уж о вовсе эфемерной гуманности. Почему же вы тогда… да еще в таких выражениях… А если лейтенант решит изучить бумаги? Японцы внимательны и злы. Если он поймет? Как полагаете, не затруднится ли теперь ваша миссия в лагере?
О лимонах беспокоится – несколько разочарованно заключил Эдвин.
– На вас, я вижу, произвело плохое впечатление… За последние годы, доктор, я привык постоянно менять мнение об окружающем мире. Очень полезно. И я привык притом не изменять себе… Я не вы-но-шу хамства. Наглой, бездумной демонстрации силы. Физически не выношу – у меня от подобного страшная мигрень. И я не прощаю хамства. Я не остаюсь простым свидетелем. К тому же, вся эта ситуация быстро забудется. Но вот в другой раз, я уверен, эти двое син-то задумаются, прежде чем избивать человека. Большие избиения, о которых мы с вами рассуждали, начинаются с позволения вот таких оскорблений и оплеух. И неважно, бьёт ли японец китайца, унтер солдата или полицейский бродягу.
– Так вы лишь преподали им урок? – ободрился доктор – в таком случае, господин Эрлингтон, позволю себе заинтересовать вас напоследок одним замечанием на ваш счет. Сегодняшний инцидент продемонстрировал так называемый Verhaltensentwicklung или «поведенческий изыск» по-французски. Как считается в психологии, всякая бурная деятельность в условиях тотального хаоса, подобная той, какую ведете и вы, может в сущности развиваться двумя путями – организации и дезорганизации. Проще говоря, первый путь – это бюрократия, тогда как второй – авантюра. Оба эти пути, конечно же, могут пересекаться и соединяться, допустим в делах дипломатических. Так вот, наблюдая за вами… – тут доктор вновь ужасно закашлялся и, откинув голову, стал глубокими вдохами сбивать приступ.
– Я вижу в вас, господин, путь крайней… дезорганизации – с силой выговорил немец и прикрыл глаза – я имею ввиду именно реакцию на всякое событие… Желание не только участвовать, но исправлять, утверждать свои решения наперекор. Это желание – не что иное, как опасная форма апатии, признак человека дезориентированного, глубоко фрустрированного. Что я желаю сказать, а именно, что позволяют высказать мои познания в этой области, так это предостережение. Мое вам, господин, дружеское предостережение – ослабьте, непременно ослабьте свой натиск на этот мир, хотя бы теперь, во Владивостоке. Вам, конечно, представляется, будто вы действуете расчетливо, прочно опираетесь на факты, но то, что вы принимаете за факты, и, поверьте, со стороны это замечательно видно, это есть тульпа, феноменально резонирующая с реальностью. Ваши действия, ваши идеи обернутся против вас катастрофой…Wo Rauch ist, ist auch Feuer – последние фразы немец произносил, задыхаясь.
– Вы, доктор, кажется, перечитали ваших венских коллег… – с улыбкой прервал его Эдвин.
***
Заставленная поверх мешков с хлебом ящиками, куда свалили кости, лохмотья, дырявые подошвы и консервные банки, тележка тяжело гремела за серебристой коляской. У ворот Эдвин, отвалившийся на сиденье с локтями позади и выставивший в расстегнутый сюртук надутый сиреневый жилет, махнул нагло уставившемуся на него маленькому лейтенанту.
– Хорошего дня, мистер Мо-ет-сун-ко – громко крикнул он для всего лагеря, переврав название японца – Ждите скорой встречи.
Во Владивосток возвращались другим путем. Долгим. Не доезжая и не видя еще городских окраин, свернули к песчаному карьеру, в котором застыла красноватая помойная топь. Было пусто. В шалашах по взгорью трепыхались серые полотна, завалились расставленные для сбора воды треноги с бычьими пузырями, запылились кострища. Ни ворон, ни собак, кроме отбившейся от хозяев лайки, что обидчиво щурилась из ложбины у дороги. Больше месяца прошло, как здесь выловили трех изрубленных казаков. Велось следствие, что-то рыли в нечистотах полицейские в противогазах, искали, по слухам, головы. Потом мели и долго вычесывали граблями соседние холмы, повыселив всех квартирантов. Так и забросили съестной прииск.
– Что это? Откуда тут канделябры? – спрашивал Эдвин, уставившись в опустошенную наполовину телегу.
Ящики с мусором раскидывали бегом, вместе, и китайцы, и Эдвин, раздевшийся до сорочки и таскавший на вытянутых руках, задерживая дыхание.
– Мне любопытно – спросил он своего возничего, обмахиваясь кепи и поправляя накладную бородку – каково это, получить извинения от офицера японской армии?
В ответ высокий худой китаец в черной тоге, с золотой медалью на груди, с заплетенной бородой до медали, в котелке лишь повторил без интонации:
– Каково это… – он стоял неподвижно, разглядывал свою тень. Потом шепотом произнес – раскаяние твоего врага – как мертвая змея, принесенная бешеной лисой…
– О-о-о, да ну сколько же еще просить… – Эдвин даже застонал – …не переводи свои сельские мудрости! На европейских языках это совершенная бессмыслица. Я после каждой такой фразы чувствую какую-то удрученность. Не Конфуций же ты и не странствующий философ, ну так и скажи прямо!
– Недосягаемая мысль – широко улыбнулся китаец, прикладывая палец к виску – умаленный тот офицер всего лишь поведал, сколь возможно передать его, что я есть безвольный стебель камыша, выученная падчерица, упоенно прелюбодействующая с отчимом-чужеземцем – иноверцем и корыстолюбцем, кто опутал и попрал родную мою кровь и землю, опустив ладонь на глаза и ногу на живот… Но он сам – не великий воин, и не заступник, и недостойный славного подвига – примет все же судьбу мою отныне в свои руки, и вырвет предательский дух мой, и придаст позорной казни…
– Да о чем же ты? Ведь там было не более пары слов? – Эдвин опустил ящик и, поворачивая головой, захрустел шеей – скажу Герги, как ты его своей речью дразнишь и перевираешь.
– Так вот тот син-то и сказал: «отыщу и вздерну» – ответил, засмеявшись, китаец и перекрестился.
– Чёртов скот… Почему же ты не объяснился на месте? Сейчас обратно уже не время… Но в следующий раз. Доведу дело до конца. Будет при мне говорить…
– Не стоит переживать, тот офицер, мышиное лицо, приговорил себя теперь…
Покуривая у коляски после, китаец вдруг показал на Эдвина пальцем и спросил:
– А вот ты посещал местные иллюзионы? Размыслить примечательно, в нашем городе только многие американские воины впервые побывали на кинофильмах и увидели наездника Уилла Харта. Известно и иное. Трехзначное число обозначает число картин, ввезенных для просвещения народа миссией страны Канады во Владивосток. Чрезвычайно меня интересует, что за коллекция. В Харбин прошлым годом специально с верующими ездил смотреть «Отца Сергия». После распутинских дел у нас не дозволяется. Дочерей еще водил видеть «Культуру мексиканской агавы». Сам ученый Аксенов в путешествии запечатлен. О лесном промысле, скажи, нет ли новых каких фильмов? О корабельной сосне особо?
– Раздобуду тебе список. Да ты и сам можешь узнать, разве не демонстрируют эти фильмы?
– От того и вопрос мой…
Под вечер встали на пустыре у железной дороги. Эдвин спустился, бережно взял армейский мешок и передал возничему пачку денег:
– Найди пока рабочих, пусть разгружают. Расплатишься сам. Удостоверения все при тебе?
Китаец кивнул, и Эдвин направился мимо электрических столбов к цепям разомкнутых вагонов. Крытые товарные с крутыми бордовыми бортами и длинные угольные под рваным брезентом, почтовые, все в перечеркнутых надписях, побитые пулеметами, и подгорелые пассажирские с грибной порослью печных и вытяжных труб смешались на запасных тупиковых ветках, растянулись в оба конца. Безнадежно порывались друг к другу их буферы и одинокие крюки упряжи. Как в оковах томились в космах увядшей осоки колесные пары, роняли лепестки ржавчины, тоскуя по веселому и легкому, по самому тихому ходу. Отъятые от составов, они источали горесть и в бессилии замирялись со злой судьбой, которая пресекла их порыв, обездвижила, бросила на краю земли вне времени расписаний, за пределами назначенных пунктов, превратив в жалкий приют для сотен семейств, спасавшихся от войны в переполненном Владивостоке.
Виднелась по левую сторону к городу передовая, где беженцы прошлым летом опрокинули вокзальный гарнизон, посланный на их выселение – глиняный врезанный поперек дороги перекоп и навал рельс кончался у трех свободных путей. Прямо, меж стыков опасно накрененных балластных кузовов синели прямоугольники спокойного залива. Кричали оттуда чайки. Свернув где-то, Эдвин набрел и сердито отмахнулся от неопрятного чесавшего запекшийся на лбу бинт крикуна, загорелого, который тут же полез к нему с икотой, луковой отрыжкой, с monsieur и s'il vous plaît, то ли продавая что-то, то ли клянча. Скопом вынырнули из-под рессоры и захрустели по битому стеклу на колее грязные мальчишки. С крыши яростно полетели по ним камни. Попало одному в спину, другому – в скулу. Проступили мокрые отметины на рубашке, и сквозь рев был выплюнут в ноги задорно блеснувший из вишневой каши зуб. Позади грохнула раздвижная дверь. Из темноты две голые волосатые руки выбросили дощатый настил, показался силуэт на коленях, заботливо согнувшийся над стонущим.
– Во-во, во-во! – зазывал кого-то тонкий голосок.
В отсутствие мужчин повсюду основательно, со вкусом обживались хозяйки. Устало переворачивали на огне лепешки, обнимали малышей. Руки их в бежевых и розовых кофтах так были костлявы, что не могли обвить, улечься на шеях в ласковом изгибе, и квадратно обрамляли детские головки. Женщины деловито убирались, мерили лоскутные занавески, набивали травой наволочки из платьев, обшивали гнутые зонтики и обжигали выеденные консервные банки для питья. У откоса спешно драли обивку с большого красного дивана, смешно проваливались пятками в кротовьи норы, пятились, приседая, лупили железными прутьями подлокотники и топили отхваченной щепой чудовищный медово-желтый самовар. Земля была вылизана. Ни дощечки, ни тряпки, ни окурка. Все прибрано к рукам.
Блуждая, уже, казалось, потерявшись, Эдвин, отыскал, наконец, нужный вагон, купейный светло-зеленый, отделенный от остальных двумя пустыми платформами и глухими и мрачными багажными склепами по соседним путям. Железные ступени к тамбурной площадке гулко оповестили о каждом шаге. В ответ лязгнуло наверху, и из-за приоткрытой двери к нему выглянула худенькая старушка в теплом красном платке на плечах со сломанным букетом сухих шаров-георгинов. Поведя добрыми синими глазами, в которых ускользала кобальтовая поволока, она принялась стыдливо прятать беспорядочные завитки коротких сиреневых волос, выкрашенных как у многих после тяжелой болезни цветочным варом. Поднятая слабая рука в миг побагровела до рыжих и фиолетовых тонов. От стремительно наплывшего закатного зарева бледность налилась пунцовым соком. Зарозовела мочка уха, тронулись трещины сухих губ, и медью от носа к щекам разбежались игривые леопардовые веснушки. Придерживая полы голубого в тон глаз атласного платья, сильно ей, впрочем, великого, заколотого миллионом булавок, старушка поздоровалась по-французски и пригласила войти.
В просторном купе со следами вырубленных перегородок и диванов сидел на скамье у окна ее муж. Генерал. Череп его был гладко выбрит, а нижнюю половину лица совершенно скрывали седые усы и борода-трезубец, столь распушенные, что казалось, будто он подобно охотничьему псу закусил разом и бережно носил в пасти три беличьи тушки, и нельзя было понять, намеренно ли ухожена борода или хороша от природы. Вознесенные над узкими глазами черные еще брови вместе с невидным ртом придавали ему вид большого лукавца, но по длинным с заостренными костяшками пальцам, крепко вцепившимся в обложку книги цвета опавших листьев, по строгой осанке можно было угадать и железный неподвластный норов. Поверх простой солдатской формы генерал носил синий с вереницей орденов и копнами золотых погон мундир, залитый у жесткого алого воротника никак не изводившейся артериальной кровью – не стерпел по слухам чего-то от чешских солдат на полустанке.
Увидев Эдвина, он, не вставая, сдержанно поздоровался. Молчаливо возвышалась в тени за ним фигура его спутника, высокого лысеющего красноносого человека в очках, который еще в первую встречу произвел впечатление тягостное и гадкое. Это был умалишенный, по всему – из командного состава – но теперь в блестящем смоляном фраке с длинными фалдами он походил на индюшку. Он то выпячивал грудь, растопырив хвостом за спиной ладони, то резко в пояс кланялся, словно собирался клевать с пола. Во время бесед «полковник», как однажды обратился к нему генерал, не переставая подпрыгивал и перебивал, задорно декламируя стихи и распевая по-русски.
– Мое почтение, господа – учтиво произнес Эдвин, опустив мешок – как и обещал, доставил сегодня отменный свежеиспеченный хлеб. Белый. Более полутора тысяч фунтов. Сейчас его разгружают у балластных вагонов.
– Вы садитесь, пожалуйста, сударь – сказала старушка и указала на стул без спинки в центре купе – Желаете кофе? Можно распорядиться. Тут при нас солдатик теперь, он сварит.
– Благодарю, но откажусь. Вижу, мадам Кавковская, вы счастливо поправились. Очень рад. Так Вам к лицу красная накидка, придает совсем здоровый вид.
– Правда, что счастливо – улыбнулась она – знаете, ведь меня спасли добрые люди и здешнее потрясающее изобилие. Китайские дети каждый день ходили, приносили с рынка овощи и мандарины. Молока в округе не достать, и вот мой муж давил сок собственноручно. А когда узнали, что я и не встаю совсем по болезни и есть не могу, стали передавать зеленое пюре в прелестных стеклянных баночках от конфитюра. Как открыл наш фельдшер – это пассированная смесь из шпината и морских водорослей. Лекарственная, богатая йодом, солью и даже вкусная.
– Известное блюдо. Его часто подают в виде супа или вместе с рисом. Говорят, очень полезно, особенно если вместе с китайской водкой.
– Ох, это лишнее – старушка мягко улыбнулась Эдвину – мой супруг водки ни в каком виде, даже медицинском, в доме не терпит. А пюре я детишек тех теперь ещё прошу приносить. Четверо молодых юношей у нас и женщина одна в лихорадке… А вы, значит, привезли с собой хлеба? Очень тоже нужно, для детей особенно. В подобной обстановке совсем маленьких можно накормить только смоченным мякишем.
– Привез, сколько смог, за раз, сударыня, и хотел бы подробнее обсудить это дело с вами и генералом.
Старушка растерянно посмотрела на Эдвина, а генерал, отшвырнув на скамью книгу и, по-прежнему сидя, процедил сквозь бороду:
– Неужели мой французский так плох, что не позволяет доходчиво объясниться? Что ж, готов повторить свои слова. Никаких дел с вами иметь не стану. Люди и без того получают достаточную помощь от американского союза…
– Да неужели достаточную, генерал? Ведь каждый день прибывают новые семейства. Я расспрашивал американцев – союз вынужден был с этого месяца вновь сократить паек. Разве это не соответствует действительности…
– Был у нас царь-дурачок. Черный хлеб за пяточек. Стала федеративна республика. Горбушка восемь рубликов… – стеснительно и с каким-то сомнением вступил в диалог из угла полковник.
– Соответствует или нет, – перебил в унисон генерал – но ваш хлеб здесь никто не купит. Средств нет. Вы все надеетесь найти ответственного человека под выгодную сделку? Расположить обещаниями, выпросить paiement d'avance, выманить последние сбережения. Все это было, было и задолго до вас, на каждой станции… Нет? Вы истинный благодетель? В таком случае – раздавайте товар бесплатно и немедленно уезжайте.


