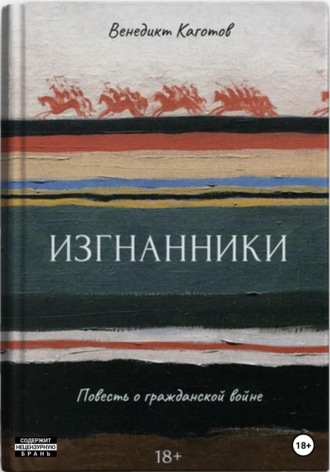
Полная версия
Изгнанники. Повесть о Гражданской войне
Издали оттуда, разбиваясь на несколько голосов, неслась по улице высоко веселая песня.
J'ai planté des roses blanches, sous une pierre qui poids sur les hanches.
J'ai planté des roses à peine rouges, dans des fraises, où des mains dociles sans bouge.
J'ai planté des roses jaunes miel. Buvez de cire d'un la fossette jugulaire
J'ai planté des roses écarlates sur le sable, dans le baiser des lèvres muettes
J'ai planté une rose noire au-dessus de cœur cruel tel un coq du foire.
J'ai planté une rose noire au-dessus de cœur cruel tel un coq du foire.
Oh, Roses, tindez tien racines d'araignée
et serrez-les forts ma bien-aimée
et serrez-les forts ma bien-aimée
Oh, Roses, sous la terre se trouve la beauté,
avec le couteau dans la poitrine.
avec le couteau dans la poitrine.
Ah, Roses, pour devenir des dence églantier
effrayez les oiseaux et encerclez ce lieu entière
effrayez les oiseaux et encerclez ce lieu entière1
В клумбах у крыльца французские офицеры без мундиров и кепи с голыми по локоть руками радостно прикапывали кустовые розы, цепляясь красными дутыми штанами за матовую листву. На первом этаже в разбитой ширмами зале, клубились табачные воронки. Одни летели от распахнутых ставен, другие смело в них бросались, растворяясь в сирени. Солдаты носили ведрами воду, возили тележки со стопками бумаг. Штабисты, постукивая за печатными машинками, листали свежую прессу, спорили перед картой, чертили, еще чертили. В гамаке над ними между бивней мамонтового скелета, который дьявольским холмом нависал из накуренной дымки, спал телеграфист.
Этажом выше, где расквартировались на днях, Эдвин застал своих сослуживцев за зеркалами. В шорохе брились над тазами, укладывали помадами волосы, чистили мундиры. Из высоких в пол окон расползался масляными параллелепипедами свет и захватывал в самом центре залы исполинское чучело какого-то невиданного давно вымершего бронзово-красного под загар тигра. Как мамонта и еще одну непонятную тварь, французы не сумели вытащить его из музея и не решались располагаться рядом, особенно после того, как весной в ночную грозу это чучело рухнуло на койку и проткнуло зубами спящего сержанта.
Войдя, Эдвин отдал честь капитану, самому старшему по званию в их группе.
– Господин Вурдэ – протянул тот, взглянув исподлобья и продолжая скрести ножницами эфес сабли – Говорят, Вы ночью нас покинули… Искали развлечений? Или по-прежнему упражняетесь ночами? Опять гимнастические трюки с мячом на морском воздухе?
– Не мог заснуть и решил прогуляться у моря – Эдвин говорил вязко, неразборчиво. Как всегда, после ночного бодрствования подъем сменился тоскливой апатией, опустошенностью. Слова давались неохотно. Болевшая голова клонилась к подушке, тянул живот – пропустил вчерашний ужин.
– И пропустили необыкновенный завтрак… – многозначительно, словно в насмешку над его мыслями сказал капитан, откладывая саблю. Эдвин даже вздрогнул и отчетливо услышал, как ухмыляются остальные – …с одним загадочным инцидентом, которым мы как раз совершенно поглощены. Честно говоря, хотелось бы узнать и Ваше мнение, как человека, склонного рассуждать рационально. Пусть и не участника самого события…
Что ж, тогда без предисловий… Сегодня утром любезный повар, милый Жан, подал к кофе по обыкновению свежий хлеб, кремовый суп из печеной тыквы и ветчину. С крайне, однако, изысканным гарниром. Представьте… Тарелку почти целиком подминал какой-то жуткий желтый клубень. Из шершавой кожуры в рубцах вились и омерзительно переплетались отростки, точно крошечные космы на изуродованной ожогом голове. В разрезах истекала белая слезящаяся мякоть. Не знаю уж, где откопали эту чертову кочерыжку, но выглядела она пугающе живой… Развеселившись, каждый из нас стал делать предположения: это сердце влюбленного енота, ну как можно спутать; ошибаетесь, перед вами – идейный большевик; да нет же – сущность британской дипломатии… Но особенно отличился наш мистер Стратчерс, большой поклонник мистических россказней. Оглядываясь по сторонам, он испуганно зашептал, что нечто похоже на корень мандрагоры. «Ведьмину ступу»! «Эхо чернокнижника»! В общем, известный десяткам сумасбродных личностей под десятком наиглупейших названий смертельный яд. И вот тут произошёл поистине непредсказуемый психический, я уверен, феномен…
Мы замолкли и начали в недоумении переглядываться, озадаченные столь бесцеремонной попыткой нас отравить. То есть вроде бы продолжили шутку. Но затем… Всех окунуло в некое зловещее ощущение. Чего-то – и в этом определении мы сошлись – непоправимого. Назвать разве еще паучьим. Подходяще ли, господа? – капитан оглянулся, но никто ему не ответил.
– Вспоминали после все одинаково, как вспороло между лопатками и подняло рывком. От сонливости вяжет, водишь головой, руками, а вокруг все серо и липко. Нет формы, будто гнездо. И ясно сразу – не спастись. И на тебя словно взирает с насеста безликая сила, не живая, не механическая, а будто мертвая сама. Хищно наблюдает, как ты корчишься. Свисает податливой грудой вроде теплого теста, а давит жестко. Заставляет гнуться, чуть не ползти, вжимать шею. Кажется, вот-вот навалится на тебя, высосет и бросит как сухую корку. Оттого… до холодной испарины панический страх… Не окопный, знакомый… Не перед боем, где бережешь свою земную жизнь, а горький, можно сказать даже, духовный страх, религиозного свойства. Предчувствуешь, что все твое человеческое естество сгинет начисто. И не будет вообще ничего-ничего, и даже самого этого ничего, и его тоже не будет. И хотя и безысходность полная, но подтягиваешь оружие поближе, чтоб последнее совершить, не поддаться безвольно. Лично… сам до кровавого отпечатка сжимал револьвер, аж ногти треснули. А к кульминации когда подходило, значит, вытрепывало последнее, да вдруг также неожиданно и оставило…
Прикусывая изнутри верхнюю губу, наигрывая пальцами по колену, капитан выдерживал паузу.
– …Здравый рассудок восстановил сержант Кэррик. Он задержался, вошел в самый разгар завтрака, когда мы, по его выражению, сидели подобно манекенам… Раскачивались над столом, бормотали нелепости. Он и заявил невозмутимо, что на тарелке – простой корень сельдерея. Неужели никогда не видели? Да на любой ферме выращивают. Едят в таком виде не часто, не в ресторанах, конечно, но у меня, мол, бабушка целиком запекает с ароматными травами… к рыбе… В рассеянности мы смотрели на него, тяжело дышали, загнанно. Дрожали. Я – за кружку, кофе хватился отпить, так и выронил, пальцы не послушали…
Капитан замолк, сосредоточенно разглядывая красные, расслоенные ногти на левой руке.
– Что ж… Как вам история, господин Вурдэ, как опишите? Психоз? Коллективное помутнение? Истерия?.. Но ведь не женское же собралось общество на водах!
– Скажу, что приглашение сержанта на обед в его родовое гнездо в Саскачеване многие теперь, должно быть, отклонят.
– Прошу, не шутите, адъютант.
Приняв сперва рассказ за розыгрыш – чем часто все развеивались от безделья – Эдвин быстро уловил общую подавленность. Капитана слушали молча, а сам он, начав высокомерно с привычной витиеватостью, под конец сбился, что-то обдумывал по ходу, подбирая нерешительно слова. Но взволнован был, видно, совершенно искренне. Этот пухлощекий человек с выдавленным над воротником молочно-желейным сгустком гладкой шеи, с подвижными черными глазами, вечно воодушевленный множеством порученных ему бесполезных дел, каждое из которых велось, разумеется, всерьез и самозабвенно, обладал текучим и почти безликим слогом. Выражался часто отвлеченно и еще чаще, наслаждаясь un truism, с брутальной животной самоуверенностью, несомненно, однозначно, абсолютно. Скучные ненужные фразы и утомительные рассуждения его – сколь же пустые! – о вещах непременно возвышенного порядка, где наивно заученный пацифизм был слеплен с преклонением перед командованием, лишь только выговоренные, вылетали сплошным шуршанием. Произнесенная же теперь чувственным языком речь, почти с претензией сбивала с толку контрастом и внушала еще большее негодование.
– Тогда скажу, что произошедшее, очевидно – аллегорический финал нашей с вами экспедиции в русскую Сибирь. Смерть от яда… – через усталость Эдвин заговорил вызывающим тоном, толком не взвешивая, следуя с азартом за удачно захваченной, впечатляющей, как ему казалось, мыслью – …а вся одиссея – начиная с казарм Виктории – лишь галлюцинация. Наша с вами, милые мои миротворцы, коллективная галлюцинация. Следствие отравления, которое случилось, возможно, еще на европейском фронте, при одной из газовых атак. На самом же деле все мы по-прежнему пребываем во Фландрии, в полевом лазарете. Ожидаем неизбежного, но нескорого конца.
Капитан вздохнул, разочарованно махнув рукой:
– Нарочно язвите…
– Отнюдь – подмигнул Эдвин и принялся возбужденно размахивать руками – Окружающий символизм, нужно признать, вполне очевиден. Посудите сами. Во-первых, мы состоим при французской миссии в весьма чудном городе, охраняемом, по меньшей мере, сотней скульптур маленьких и свирепых львов. То есть – во Франции, наряду с нашими австралийскими и новозеландскими сородичами по британскому прайду. Во-вторых, мы ночуем рядом с чучелами грандиозных животных. Это явное указание на госпиталь, друзья, где нас опекают признанные мастодонты медицины: мамонт хирургии, саблезубый тигр трансплантологии. В-третьих, нас пытаются кормить диковинными овощами – лекарствами, разумеется…
– Я вижу, серьезно вы сейчас говорить не настроены. Настаивать не стану. Впрочем… Ваше ерничанье всех нас, полагаю, немного отрезвило и ободрило – перебил капитан, дружелюбно улыбаясь – всем нам, несомненно, остро отозвалось известие о виннипегской пятнице. Столько кровопролития из-за проклятой стачки! Я абсолютно уверен, что бы теперь ни говорили, большинство расстрелянных людей вовсе не причастны к окружению этого безответственного комитета. Скажу вам более. Когда такие нетипичные методистские личности, болеющие за Канаду, как преподобный Вудсворт, отбрасывают пасторство и проповедуемый социализм и попадают на крючок худшего политического коммунизма, то утверждение параграфа 98 для становления полицейского суда это, однозначно, прогрессивное решение. Двадцать лет, чтобы дьяволы остыли…
Эдвин, ощущая, как колет нерв, стал зачем-то наигранно раскланиваться во все стороны, с трудом выдерживая грань, осознавая, что чуть не кривляется. Его сослуживцы, рассеянно пропустив последний пассаж лейтенанта, и впрямь скорее повеселели, нежели озаботились, и Эдвин неожиданно для себя продолжил нелепый разговор:
– Pour info… о символизме и ободрении, господин капитан. Кто-нибудь уже прибыл с новостями со вчерашних поисков?
– О, вы, несомненно, правы, господин Вурдэ. Вспомним и о делах службы – покачал пальцем капитан – наши бравые ребята, Макинтош и Гриньон, доложили четверть часа назад. Немалый, знаете ли, успех. За ночь им удалось выследить и отловить семь почтовых голубей недалеко от бывших наших казарм за рекой. Одного достали на чердаке частного дома, мертвым. Шесть спало на кладбище… Но депеша по-прежнему остается не обнаруженной. Макинтош уведомил меня, что расставил силки и разбросал зерна по всей прилегающей территории, однако к невероятному разочарованию стая к станции возвращаться отказывается. Упрямо кружит за сопками.
Эдвин подавленно вздохнул и зажмурился, потирая большим и средним пальцами закрытые глаза:
– Что ж он… Макинтош, ночью на могилы бросал горох?.. Теперь, пожалуй, напишут, что мы не только чертовы безбожники и масоны, но к тому же подкармливаем большевиков в полнолуние.
Капитан усмехнулся и поднялся с кровати, закуривая.
– Напишут, вот только назовут американцами.
– И скольких уже поймали?
– Тринадцать. Остался десяток. Завтра, определенно, завершим эту операцию.
– Нелепейший случай… За два дня до отбытия.
– Случай… Макинтош вспоминает теперь – когда крепил ту последнюю депешу, стая и впрямь была несколько возбуждённой. Потом неуловимое мгновение – и сорвалась. Что-то, несомненно, вспугнуло. В ветре, или хищник… а те голуби, которых уже поймали – они совсем больные. Летают плохо, не ориентируются. Затравлены и вялы… Несчастные.
– Думаете, намеренно испорчены?
– Это точно – капитан подошел ближе и продолжил полушепотом – Вину я, однозначно, возлагаю на команду. Додумались в разгар погрузки посылать в корабельную радиорубку голубя. Можно было ведь абсолютно беспрепятственно добраться в порт лично на любом автомобиле. Хотя к птицам эти парни привязаны страстно, вне сомнений. Все – добровольцы. Вызвались на поиски и ночуют на станции в поле при одной винтовке… Главное теперь – сведения. Какие-то там, оказывается, были наиважнейшие цифры, с трудом добытые у местных банков. Касательно японских капиталов… Из Виктории снова телеграфировали весьма, правду говоря, сумбурно. Требуют срочно депешу вернуть и уничтожить. Там, очевидно, располагают исчерпывающей информацией и картину событий видят в масштабе. Если представить, что тот роковой голубь покинет теперь пределы Влади, попадет за холмы, где бесчинствуют партизаны… Да, впрочем, конечно, если попадет куда и к кому угодно…
– Господин капитан, кто там, право, станет разбираться в цифрах? Не до того. Русские заняты войной и политикой. Какой-нибудь голодный варвар просто сварит и съест эту не фартовую птицу… délicatesse. Удивляет вот только полное отсутствие интереса у американцев к этой истории.
– Они, определенно, ничего не знают, все-таки случай не городской… Так или иначе, но имеется приказ. Да и для команды это, разумеется, дело принципиальное. Откровенно, я нахожу ситуацию даже полезной и абсолютно убежден, что охота на голубей не самое худшее, чем люди могут заняться во время войны. По крайней мере исключается опасность для жизни.
– Значит, вы сегодня тоже отправляетесь на поиски? Оставите особые поручения?
– Нет-нет. Я намереваюсь посетить британскую миссию. А вы продолжайте заниматься канцелярией. От нашего лейтенанта поступила настоятельная просьба поскорее собрать прессу за последнюю неделю для составления сводок… К полудню привезут оставшиеся материалы из старого театрального штаба. Кроме того, на днях должны поступить документы из Омска. Нужно будет немедленно их разобрать и снять копии. Постарайтесь сделать на этот раз поразборчивей.
***
Пока Эдвин умывался и отгонял боль, пристально через два зеркала заравнивая лезвием выбритую полосу по затылку, по вискам, за ушами, все разошлись. Зала набралась теплом, сияла не затоптанным под стенами паркетом, люстрами, лакированными шкафами с птицами и камнями, тигриной шерстью. Вылезшие из-под зеленых покрывал белоснежные уголки подушек и простыней напоминали смущенные всходы мартовских первоцветов: хрупких ветрениц, печальных болотных трилистов, груш и магнолий. Зацветет озерный канадский Север, вдохнешь, наберешь свежести, тонкой сладости с холодком. Будто и здесь также. Будто лыжами наломав дутых снежных корок, пропетляв еловой сушью, выбредаешь к оттаявшей делянке на окраине земли сумасшедшего Майе. Знакомо буреет под луной, как последняя вершина хребта Маккензи, гора проржавевших лемехов, переливают обновленные, оструженные слеги восьми колодезных журавлей. Под ними трава, ошмотья коры на мокром песке. За делянкой тощие березки, точно русские, в черных мозолях, теснятся вдоль последнего перехода до церковной башни. Горят там окна. За ушами отдают по затылку хлопотные птичьи вести о весне. От их оживления и от прелости деревьев грустно. Кажутся неоцененными тяжелые зимние старания. Запомнился ли, принес ли радость пухлый, воодушевленно повалившийся на поля сугроб или бурелом дубов, что драгоценно мерцал, будто из самой сердцевины его просвечивала, наэлектризовавшись морозом, пурпурная лампа? Тронул ли любовный метельный завыв в камышовом коридоре с оленьими лежанками или отблеск солнца на ледяном дне чайника? А сколько еще чудес поленились и не увидели, не остановились рассмотреть, не насладились сполна, и вот теперь поздно. И не возвратится удивительная зима к таким сухарям.
Эдвин потер глаза, потянулся. Многое нужно сделать – думалось. Сидя, он выдвинул свой сундук, отличный бамбуковый – дорогой ему подарок владивостокского товарища, которого видел, впрочем, всего дважды. Впервые – через несколько дней после своего появления во Влади, в полпятого вечера на скамейке в адмиральском парке, третьей слева от побитой американскими матросами статуи Аполлона. Запомнились опущенный козырек картуза, бутыль молока возле крупных коленей, свисавшие с них волосатые кисти рук, стекольно-синие, будто полные бегущего бомбейского джина, вены. Другой раз – за субботним завтраком в ресторане – они, можно сказать, не виделись, ведь сидели спиной друг к другу, но Эдвин по обыкновению крайне воодушевился и поклялся бы, что проник сильнейшую связь с коренным и надёжным рабочим человеком. С той второй встречи у стула Эдвина и остался подарок. Теперь он обхватил сундучок ногами, вытянул за горлышко бутылку и выпил, замочив обязательно губы, погрузившись во вкус торфа, морской соли, влажного дубового опада. Ущипнула за выбритый подбородок пара капель, унесло из головы что-то. Он прикусил шоколадный с текучей нугой и сушеным бананом батончик. Еще выпил. Поломал пальцы. Прислушался. Глухо расхаживал ритм: раз-два, раз-два в темпе с ударением, ядрено, потом неуклюжий шарк – выкрут на носках – и на скрипучую досочку. Толстяк, наверное, размышляет. И снова. И снова.
С этим скрипом будто бы завелись сундучные внутренности. Дрогнули ребрами в резиновой подкладке шестеренки и гайки, умещенные между остовами двух пар ручных часов. Ежом заскреб пук медных проводов под миниатюрными пассатижами. По уложенному армейскому мешку-хаки потекла вялая пахучая струйка. Источник ее таился в виске крохотного, с мизинец, фарфорового пастушка. Библейская фигурка замахивалась закругленным посохом и показывала хищное горло за отколовшимися губами. Отвинчивавшаяся головка давно треснула, и кто-то раз за разом упорно наполнял ее забавы ради едким напитком. Из-за спины пастушка с приколотой к стенке сундука фотографии на пятно взирала босоногая кудрявая девочка в светлом, но сильно измятом и казавшимся оттого полосатым, платье. Она полулежала на локте у отворенного окна поперек нескольких парт. На округлом и мягком лице ее со спокойной улыбкой неожиданно выделялся подбородок, темневший большой ссадиной. Перед девочкой в пятне угадывался контур распахнутого reticules, из которого задорно вывалился теперь уже неразличимый беспорядок. Героиня, видимо не успела принять позу, и левая ее рука совершенно растаяла в движении к оборвавшейся на платье оборке. Нельзя было уловить и взгляда, только грудились, то ли угрожающе, то ли уморительно, пушистые брови. Через верхний край снимка тянулось по-русски: «Георгина. Астрочка наша. МВЖК. 1905». В конце стоял яркий сердечно-алый иероглиф.
Эдвин достал мешок-хаки, нащупал дно сундука и, подцепив его ножом, открыл. В руках появилась внушительная черно-желтая маска разъяренного с потешными белыми усищами китайского божка, в рот которому он залез средним пальцем. Нажал, дернул за пружинку под алым языком и выпали на кровать толстые пачки денег, радужных, светлых, «бескорыстных», как их тут называли, «ветряных». Все аккуратно стиснутые резинками. Разделенные по достоинству. Но какие теперь сколько стоили – не разобрать. Ипподромные, кооперативные, всяческих обществ и товариществ кредитные билеты, рубли, боны. Зимой Эдвин еще пытался вникать, отслеживал и советовался, но все бесполезно, и он бросил, после того, как однажды получил на сдачу ворох красных «масариков» – один чешских поручик выпустил ради смеха, несколько возов десятитысячных купюр с очечными оправами вместо нулей. Тут же из пасти, зацепившись корешком, выпала на кровать чёрная записная книжица, раскрыв, словно заветный бутон, сиреневое своё содержание. Справа на полях ровные безо всяких промежутков столбцы с мелким почерком Эдвина продолжали строки кириллицы, цифры, похожие на кости домино квадраты с набором точек. Убрав две сине-зеленые пачки денег в карман, Эдвин ногтем указательного пальца задумчиво закрыл записную книжку. Он аккуратно спрятал все обратно в маску, опустил ее, поставил на место дно и, не торопясь, вышел с мешком.
В порту отбили позднее утро. Круглые уличные часы на столбе отставали от матросов, вяло перебирали стрелками между черных квадратиков. Под серым небом парило и расхолаживало. На набережной бегом, споро выстраивались японские солдаты, грубые, штыковые в свекольных мундирах. Играл оркестр. Свернув во дворы, Эдвин скоро вышел между разбитыми штакетниками к проспекту и сразу увидел на углу двухэтажного красно-белого дома с островерхими башнями, балконами и эркерами громких американских военных. Под прямой стволистой рябиной стояли полицейские. Рядом – короткий в неопрятном костюме курчавый молодой человек, переводчик, водил руками, показывая на верхние окна, загибал пальцы.
Эдвин обошел всех, задевая мешком, улыбчиво предупредительно извиняясь, и обратился по-английски к курившему в стороне американскому сержанту:
– Доброго дня. Не знаете ли, какое дело привело полицию сюда?
Парнишка суетливо козырнул, отпустив придерживаемый рюкзак со шляпой, и тот, медленно заваливаясь, будто бы поклонился, как учтивое сказочное существо. С косящими глазами, примятыми клоками сырых темных волос сержант был тощим-тощим, почти прозрачным, точно проволочный под птичью клетку каркас. Легкий ветерок, бодая его, доставал до ребер и свободно разгуливал по провалу нездорово вогнутой чахоточной груди, словно и не было ее вовсе. На Эдвина он не посмотрел и сигаретную пачку с удивленной верблюжьей головой, болтавшейся на обрывке шеи отдельно от горбатого в проплешинах тела, предложил без слов. Ответил тихо, смущенно запинаясь в старании исключить из своей речи все непереводимое, дикое и грубое, казавшееся ему, по-видимому, неуместно развязным.
– Доброго дня, сэр… так-то, ну, была кража…
– Неужели? В такое прекрасное утро? Благодарю, сержант, я не курю.
– Ну, э, все провернули ночью, сэр. Наши командиры… они охлаждались в джинной мельнице… Я имею в виду э, салон. Ну, караульные спали, как покойники. Совсем не зря, я могу сказать. Только поглядите на их скунсовые лица, сэр. Каждый съел по полторы жабы на завтрак, э.
– И что же, большой куш сорвали?
– Да, так, у кого как… э. Ну, вы видите лейтенанта, который трепещет позади, мистер, – вон тот, красно-кулачный, э, приятный, как пума с сожженной мордой? Так, у него сделали две сотни долларов, вроде. У других схватили что-то поценнее, вроде. Ну, клубную кассу вычистили целиком, как синее ведро до свадьбы. Взяли, наверное, около полутора тысяч долларов, э.
– Какой кошмар! – воскликнул Эдвин – какая сумма!
Сержант затянулся и задумчиво выпустил дым:
– Да. Ну, прямо как, когда британцам обломали рога в том месяце. В отеле, вроде. Только на этот раз еще ботинки и пальто взяли, э. Еще медицинские запасы вычистили, как солому в меду. Доктор наш перчил уши пинкертону целую четверть часа, э. Так, я запомнил, значит, морфий, э, перекись, а. Ртутная мазь… Настойка… Так-то, ну, их было много, э.
– Мерзавцы! Лишь законченному мерзавцу могло хватить духу ограбить столь добродетельных джентльменов, самоотверженно жертвующих жизнь на благо гибнущего и совершенно для них чужого края! – при этих словах Эдвин патетично приложил к сердцу левую руку, немного скомкав френч – Но как же так вышло? Ведь невозможно вынести столько на руках за один раз. Неужели не было подозрительных типов или повозок в округе?
– Так-то… я не знаю точно, мистер, э. Наш командир, горячий под воротником, тряс караульных. Ну, эти hillbilly клялись, что не было чужаков будто. Но чего не станешь болтать раздвоенным языком, э.
– И кого же подозревают? В чьей подлой голове могла уместиться эта проклятая идея?
– Так-то, каждый уверен, что это были русские. Потому наше начальство не доверяет законникам и грозит жаловаться консулу, вроде. Лейтенанты говорят: кто cossak при дневном свете, тот gunny-sacker ночью. Ну, вот, они уверены, что даже русские офицеры – это ребята с плоскими стопами, э.
– Что тут спорить, если в этом относительно приличном городе с электричеством и театром обитают исключительно дикарские народы. Бьюсь об заклад, что вы чувствуете злость и обиду, из-за такого неблагодарного отношения!
– Так, я нет, сэр…
– О, вы не проведете меня, сержант – Эдвин весело, по-свойски похлопал собеседника по спине – еще ни одного раза не говорил я с любителями здешних порядков.
– Ну, так, это значит, мистер, что вы, наконец, встретили такого человека. Я был так научен своим дедом, вы знаете. Да. Вот, он часто вспоминал байки об индейцах из племени хеу-ток и обычно говорил, что дикий народ, как ребенок, вы знаете. Ну, он говорил: ты не должен никогда ненавидеть индейца за его жестокость, но ты должен научить индейца, как не быть жестоким.


