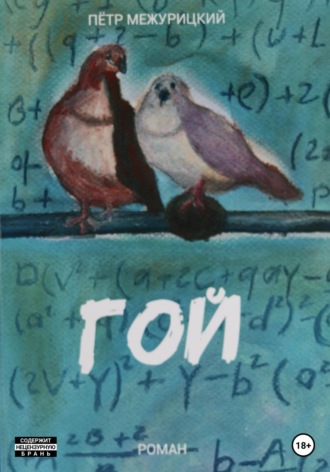 полная версия
полная версияГой
– Включай израильскую программу, – сказал Евгений. – Рабина убили.
Осик мгновенно забыл про головную боль. Чему он сразу удивился, так это тому, что мысли не возникло, что Рабина убил араб. Убил еврей, в этом почему-то сомнений не возникало.
«Ну сейчас левые под это дело установят диктатуру, – подумал он. – Для начала арестуют Нетаниягу и объявят его подстрекателем».
Через полгода Нетаниягу победил на досрочных парламентских выборах и стал премьером, а Осик успешно закончил свой первый учебный год, получив сообщение из министерства, что его оставляют работать в школе. Еще два таких учебных года, и он получит постоянство в министерстве образования.
Можно сказать, уже совсем скоро.
15.
Письма из Южной Пальмиры приходили очень редко, поэтому письмо от отца крайне удивило Осика. В некотором волнении он шел на почту. Уж не с матерью ли чего. «Нет, но если бы произошло что-то непоправимое, то позвонили бы», – успокаивал он себя. Однако тревога не проходила.
Текст письма состоял из одной фразы:
«Израиль – это рост блага».
Вот и все, что написал отец, даже не сочтя нужным поставить подпись.
Что бы это могло значить? И Осик понял, что вскоре может увидеть родителей у себя в гостях. В гостях? Но отец так бы и написал, да и зачем писать, позвонил бы. В это трудно было поверить, но, похоже, явный генерал бывшей Тайной полиции в отставке собрался переселиться в Израиль. Но как? Права на возвращение в Израиль у нисколько не еврейских родителей Осика не было и быть не могло. Может быть, какое-нибудь специальное почетное гражданство? Все же юный Аркадий Карась, будущий генерал Великой Орды и будущий биологический отец Осика, сумел переправить американским еврейским организациям свои свидетельские показания о геноциде евреев в Южной Пальмире. И это тогда, когда в Орде уже началась борьба с безродными космополитами, а Америка была объявлена в ней врагом номер один всего прогрессивного человечества.
Еще немного поразмышляв над посланием папы, Осик понял, что пришло время озаботиться покупкой квартиры. Но с чего, собственно, начать, и вообще Израиль такой большой, что просто теряешься, когда начинаешь это осознавать и чувствовать себя персонажем фэнтези, который зашел в небольшую комнатку и внезапно оказался на просторах огромного мира. Сюжет, надо сказать, из архетипических.
И загадочное послание отца словно и впрямь стало триггером, запустившим процесс покупки квартиры. Осик уже неделю, как стал обладателем «Лады» четвертой модели, первой машины, купленной им в Израиле. Когда он приехал на ней на охраняемую им стройку, то вызвал ажиотаж среди арабских рабочих. На вопрос, почему он купил это, а не хотя бы «Фиат Уно» примерно за ту же цену, он объяснял, что в его «Четверку» поместится три «Уно». С этим невозможно было спорить. Другое дело, что «Лада» начала рассыпаться уже через месяц, и такой коммерческой глупости Осик не ожидал даже от Орды, но это была уже его коммерческая глупость.
А пока ему позвонил Евгений Ленский и предложил съездить на новой «Ладе» в Хоф-Акиву, что рядом с раскопками Кесарии Приморской, как ее назвал ее основатель царь иудейский Ирод. Кесарию, как и саму Иудею, римские язычники впоследствии переименовали. Иудею они назвали Палестиной, а Кесарию Приморскую соответственно Кесарией Палестинской. И этот сугубо языческий новояз в будущем не вызвал никакого протеста у христиан, хотя Христос родился, проповедовал, был казнен, а затем, по вере самих же христиан, и воскрес именно в Иудее, а ни в какой не Палестине, имя которой ему должно было бы казаться отвратительным, поскольку палестинцы были злейшими врагами его народа и царей Израиля, одним из потомков которых, по вере опять-таки христиан, и был Иисус Христос.
Недоразумением это конечно не было. «Ненависть к евреям важнее любви к Христу», – еще в Южной Пальмире шутил Осик, чем, конечно, раздражал друга своего детства Петю Свистуна, когда тот стал новоправославным проповедником еще при власти коммунистов, которая, как тогда казалось, установилась в Орде либо до конца времен, либо вообще навсегда, если времена бесконечны.
– Что же это за люди, которые родину Иисуса Христа Иудею называют Палестиной? Иисус Назарей, царь Палестинский, так, что ли?
– Ты такими словами оскорбляешь своих православных предков, – отвечал на эти наезды Петя.
– А ты, значит, своих иудейских предков ничем не оскорбляешь?
– Я искупаю их грехи.
– А быть иудеем – это грех? А вот Иисус Христос говорил, что он пришел исполнить Закон Моисея.
Такими любезностями Петя и Осик обменивались годами, что им совершенно не надоедало, а потом Осик стал сторожем в Израиле, а Петя, приняв монашество, священнослужителем РПЦ где-то в Сибири. Его таки рукоположили, правда, довольно далеко от Южной Пальмиры. Каждый из них оказался тем и там, к чему и куда на данный момент привели их избранные ими пути.
Так вот, Ленский получил редакционное задание разобраться с письмом в газету некоей обиженной на председателя местного поселкового совета новой репатриантки, и он предложил Осику прокатиться в Хоф-Акиву вместе в порядке обкатки «Лады». Побывав в депрессивной Хоф-Акиве, которая занимала не предпоследнее, но именно последнее место в рейтинге по благоустройству и уровню жизни среди всех населенных пунктов Израиля по данным на первую половину девяностых годов ХХ века, приятели направились на раскопки Кесарии, расположенной прямо на берегу моря в двух километрах от Хоф-Акивы.
Они не знали чего ждать от этого места, зато для этого места никакие земляне давно уже не представляли из себя загадки. Одна только стена крепости, построенная крестоносцами, и ров перед ней сразу же опрокинули приятелей в иную реальность, в которой своим был Ричард Львиное Сердце, высадившийся в этой гавани с компаньонами, чтобы отвоевать у мусульман Иерусалим. Что искали здесь такого крестоносцы, ради чего надо было оставить Европу, в которой они были отнюдь не последними людьми? Материальным ресурсами тут, похоже, и не пахло. За пару лет, проведенных в Израиле, Осик и Евгений что-то в их мотивации уже понимали. Вот только объяснить это можно было лищь на языке метафизики, а не тех или иных форм реализма. А на языке метафизики лучше с приятелями не объясняться, и даже не потому, что не поймут. Наоборот, еще хуже будет, если таки поймут.
Кесария не раз видела царя Иудеи Ирода, прокуратора Иудеи Понтия Пилата, апостолов Петра и Павла, великих христианских богословов, того же короля Ричарда Львиное Сердце. И вот сейчас она впервые, причем ничуть не стесняясь своих развалин, которые начали откапывать из-под песка евреи, едва они вновь стали хозяевами своей земли, принимала Осика и Евгения.
Евгений достал блокнот, и Осик тут же подсказал ему тему:
– Арабам, туркам, англичанам было недосуг заниматься тут раскопками, а евреям, видишь, даже войны на выживание не в силах помешать. А почему, как ты думаешь?
– Что же тут думать, если этот вопрос задаешь ты? Ну, конечно, потому что евреи тут у себя дома и наводят в своем доме порядок. Осик, ты становишься предсказуем, а для поэта это смерти подобно.
– Нет, – сказал Осик, – не поэтому, а потому что сказано у пророков, что вернутся евреи на свою землю, и она расцветет, как невеста при появлении жениха.
– Еще и мракобесие, – оценил его слова Евгений, – но для поэзии это уже гораздо лучше.
Они шли вдоль берега мимо руин, еще не зная, что проходят рядом с дворцом царя Ирода, резиденцией Понтия Пилата, тюрьмы, в которую упекли задержанного для разбирательства апостола Павла, дома, в котором находил тайный приют апостол Петр. Точкой завершения маршрута виделся обозначившийся впереди амфитеатр. Они вошли в него. На трибунах сидели новобранцы израильской армии, уже в форме, но еще без оружия. Молодая командирша читала им лекцию об истории Кесарии вообще и судьбе рабби Акивы в частности.
– Красиво они воспитывают солдат, – сказал Осик.
– Красиво, – согласился Евгений, – только, по-моему, не солдат, а гуманистов.
– И в этом амфитеатре, в котором мы сейчас находимся, римляне крюками содрали кожу с рабби Акивы за то, что он провозгласил Бар Кохбу Мессией. Какие будут вопросы? – закончила лекцию командирша.
– Представляю, как он разозлил римлян, – задумчиво произнес Евгений.
– Еще бы! – подхватил Осик. – Они, можно сказать, только недавно Иисуса с перепугу распяли, хотя он в их глазах был всего лишь самозванцем, а тут сам рабби Акива провозгласил Бар Кохбу Христом, как греки называют Мессию.
– Поди объясни все это русскому человеку, – вздохнул Евгений.
– Вообще никакому, кроме еврейского, не объяснишь.
Новобранцы поднялись и во главе с командиршей последовали на выход.
– Посмотри на них! – кивнув в сторону новобранцев, продолжил Евгений, – Им это в детском саду начинают объяснять, потом продолжают в школе и, как мы только что видели, службу в армии они тоже начинают с этих объяснений.
– Евреи живут в этой истории, – сказал Осик, – а христиане ее исповедуют. И это две большие разницы.
– Опять типичная сионистская пропаганда местечково-южно-пальмирского разлива, – Евгений изобразил недоумение. – У вас там что, на каждом углу агент Сохнута стоял?
Образ рабби Акивы оттеснил в их сознании другие великие тени. Кроме одной.
– Интересно сравнить, как оба принимали муки, – пропустив мимо ушей замечание об агентах Сохнута на каждом углу Южной Пальмиры, продолжил разговор Осик. – Иисус на кресте был серьезен до предела, а рабби Акива смеялся, когда с него сдирали кожу, чем вызвал заданный ему вопрос, а не бесчувственный ли он чурбан.
– И он дал ответ, о котором молчит христианский мир. А теперь подумай, Осик, почему о двух из четырех евреев, чьи жизни почти в одно время пересеклись с Кесарией, о царе Ироде и апостолах Петре и Павле знает весь мир, а о рабби Акиве знают практически только евреи, хотя рабби Акива ни в чем не уступает апостолу Павлу ни как проповедник, ни как богослов, ни как философ, а между нами говоря, еще и превосходит его, хотя ты от меня этого, конечно, не слышал?
Если Евгений полагал, что его вопрос поставит в Осика в тупик, то он ошибся.
– Все дело в антихристе, – как ни в чем не бывало, ответил Осик.
– В ком, в ком?
– В антихристе, ведь это так просто. Потом как-нибудь объясню. Пойдем отсюда?
Они уже было выехали их Хоф-Акивы, когда глядевший по сторонам Евгений воскликнул. – А ну постой! Это что еще за распродажа?
Они остановились у строительного вагончика, перед которым стоял стол, заваленный какими-то бумагами. Вокруг стола крутились зеваки и, возможно, потенциальные покупатели. Приятели присоединились и к тем, и к другим. Выяснилось, что это продают квартиры, которые через год, как уверял продавец, появятся прямо тут, рядом с Хоф-Акивой.
– Какая-то афера, – заключил Осик.
Через час они молча ехали с Евгением в сторону Тель-Авива.
Осик, зарабатывавший тысячу двести долларов в месяц и не имевший никаких сбережений, подписал предварительный договор на приобретение будущей квартиры за семьдесят тысяч долларов, которая будет построена через год в ныне девственной полупустыне рядом с Хоф-Акивой, как уверял продавец, а Евгений Ленский, зарабатывавший тысячу долларов в месяц в качестве журналиста русскоязычной газеты и не имевший никаких сбережений, в свою очередь подписал обязательство выплачивать эти самые семьдесят тысяч долларов в том случае, если Осик окажется неплатежеспособным.
– Нет, ты можешь мне объяснить, как он нас на это уговорил? – наконец прервал молчание Осик, когда они остановились перед последним на въезде в Тель-Авив светофором.
16.
Осик сидел в кабине грузовика рядом с его русскоязычным водителем, а русскоязычный грузчик грустил в кузове рядом со скудным скарбом, состоявшим из древней двуспальной кровати, не стоившей ничего, томами энциклопедии Британика на иврите, которую Осик никогда не читал, но стоившую полторы его зарплаты, и пылесосом, которым Осик никогда не пользовался, но стоившим почти две его зарплаты. А еще в кузове был небольшой контейнер с собраниями сочинений классиков русской литературы от Карамзина до Михаила Булгакова. Из произведений зарубежных авторов в нем лежал только том Шекспира и несколько книг Томаса Манна. Осик как запечатал этот контейнер еще в Южной-Пальмире, так к нему больше и не прикасался.
За первые три года в Израиле он, не зная порой чем расплатиться за свет, воду и газ, приобрел массу дорогостоящих вещей и услуг абсолютно не нужных ему ни при каких обстоятельствах. Правда, однажды он нашел применение надувному дивану, расположив на нем заглянувшую к нему на огонек компанию журналистов из «Страны праотцов», да так и заночевавшую у него под воздействием виски с сомнительной родословной. К дивану был приделан насос, толку от которого не было никакого, пока Осик не позвал на помощь соседа-израильтянина, за несколько минут сумевшего надуть диван, не забыв спросить у Осика, где он это купил. И не став дожидаться ответа, сосед поведал, что к нему тоже под видом проверяющего из службы водного хозяйства наведывался торговый агент, попытавшийся продать ему эту штуку, придуманную кем-то непонятно для чего.
Утром Осик попросил приятелей, отправлявшихся со все еще тяжелыми головами делать газету для репатриантов, прихватить с собой диван, за который ему предстояло еще полгода расплачиваться. А вот так ни разу не побывавший пока в деле пылесос он вез в свою новую квартиру, потому что выбросить совершенно новый прибор стоимостью в две тысячи долларов он себе позволить не мог. Более устойчивые к магии торговых агентов новые репатрианты уже отправлялись в свои первые заграничные вояжи, а Осик все еще продолжал расплачивался за наборы кастрюль и сковородок, комплекты постельных принадлежностей, массажеры, фильтры для воды, комбайны для приготовления соков и кофе и даже за домашний кинотеатр.
Почти все это, как скорбное напоминание о своем ужасном первоначальном репатриантском прошлом, Осик оставил на покинутой им съемной квартире в Тель-Авиве. Вот только вынести на помойку Британику, от счастья обладания которой категорически отказались все его соседи, духу не хватило.
– А еще народ Книги называется, – бурчал Осик.
– И ты здесь взял квартиру? – с максимальным скепсисом, на который только был способен, спросил водитель грузовика. Его можно было понять, поскольку почти каждому бедолаге-репатрианту хотелось убедиться, насколько он еще неплохо стоит на фоне злоключений другого. Осик и не ждал от него восторгов и поздравлений. Они въехали в хоф-акивскую новостройку. Между домами простирались пространства утрамбованного песка. Ни деревьев, ни пальм.
– Та шоб я тут квартиру купил, – радостно произнес водитель. – Лучше еще пару лет на съеме проживу. И где твой дом?
Вечером Осик открыл контейнер с книгами, без которых он, как выяснилось, мог обходиться годами, и начал том за томом извлекать их на свет лампы, прикрученной под потолком: Пушкин, Булгаков, Лесков, Бердяев, Толстой, Владимир Соловьев, Бунин, Хлебников, Цветаева, Некрасов, Блок, Тынянов… Гора книг на полу росла, и Осику стало не по себе. Если бы когнитивный диссонанс был чувством, то можно было бы сказать, что чувство когнитивного диссонанса переполнило его душу. Как же так, три года жизни в другом мире, столько узнано и пройдено, с грехом пополам освоен иностранный язык, а сейчас выясняется, что эти вот книги все равно остаются чем-то главным. Что он как бы все еще состоит из этих чеховых с достоевскими и гоголей с булгаковыми. Ну, хорошо же, посмотрим на них их же глазами. Или чьими? Что за душа воспринимала их сочинения так, как воспринимала и продолжает воспринимать?
Осик вспомнил, что таки забыл сейф для пистолета в Тель-Авиве. Куда теперь пристроить ставший практически бездомным пистолет? Ни шкафа, ни тумбочки. Под подушку, что ли? Но не хотелось держать пистолет неподалеку от головы. К тому, что его иногда чуть ли ни на яйцах носишь, Осик уже привык, хотя первое время это его и напрягало. Когда пистолет, неважно, по какой причине, превращается в навязчивую мысль, это становится опасным для жизни. Осик покрутился по салону, надеясь найти подходящую щель для пистолета, и, наконец, решительно выбросил обойму в песок под окном. Оставшись без патронов, он успокоился и тут же придумал положить пистолет в духовку, которой, в чем он не сомневался, ему никогда в жизни не придет в голову воспользоваться. Все, что умел и хотел готовить Осик, это сварить пельмени или сосиски и пожарить яичницу. Ну, еще нарезать салат, но это уже превозмогая себя. Конечно, теоретически можно было сварить картошку в мундирах, но все попытки, какие он предпринимал в жизни это осуществить, заканчивались неудачей. В лучшем случае эксперимент приводил к погубленной навеки кастрюле. До худшего, к счастью, не доходило, и пока не дошло, Осик решил больше не испытывать судьбу на этом всегда чреватом крупными неприятностями поприще. Как объяснить начальству потерю обоймы, он еще не придумал и, сообразив, что и не придумает, отправился на улицу искать в песке под окном выброшенную обойму. Найти ее и вернуть в дом было уже не страшно, потому что от навязчивых мыслей о пистолете удалось избавиться. И тогда Осик задумался о мертвых душах. Дьяволу ведь продают живую душу, а отставной чиновник Чичиков покупал мертвые, что, мягко говоря, нуждалось в пояснении, поскольку потенциальные продавцы-помещики несколько смущались, когда их ставили перед фактом, что они являются владельцами натурально мертвых, хотя по документам все еще живых душ.
Любопытно, что сюжет про покупку мертвых душ придумал и подарил на раскрутку Гоголю помещик Александр Сергеевич Пушкин. Как ему такое пришло в голову? Так ведь тут и гадать не надо. Будучи постоянно в стесненных финансовых обстоятельствах, помещик Пушкин не мог постоянно не придумывать способов, как бы разбогатеть. Помимо проектов введения новых методов хозяйствования в деревне, он обдумывал способы найти и применить беспроигрышный вариант карточной игры. Как натуру глубоко художественно одаренную, его посещали мистические озарения на сей счет. Так, однажды и осенила его идея сделаться владельцем мертвых душ. И буквально тут же пришло понимание, насколько бесценен художественный потенциал этой идеи. Чутье его не подвело. Однако сам он за разработку идеи не взялся, решив, что хватит с него раскрутки таинственного сюжета на тему карточных баталий. Нельзя заигрываться с мистикой, это, по природе своего дара, светлый романтик Пушкин знал твердо. «Печаль моя светла», – однажды так и написал он.
А вот печаль Гоголя вряд ли была такой уж светлой. Не менее чем Пушкин одержимый идеей разбогатеть, он поначалу планов внедрения способов рационального хозяйствования даже не рассматривал. Судя по его повести «Тарас Будьба», способ разбогатеть путем грабежа и насилия, для увеселения души попутно, но систематически обижая вдов и детей, доводя дело до логического их смертоубийства, представлялся Гоголю достойным восхищения при условии, что грабили и массово казнили мирных евреев. А уж грабеж вооруженных мусульман и католиков и вовсе объявлялся делом гордости и чести. И разве может вызвать удивление у историка русской литературы, знакомого с учением Зигмунда Фрейда, тот факт, что один из двух главных в глазах мировой общественности русских писателей так и говорит, что, мол, все мы вышли из «Шинели» Гоголя? Все или не все, а уж он-то наверняка.
Название статьи «Тайна «Мертвых душ», или Синдром Гоголя» пришло сразу. Найдя в горке книг томик Гоголя, Осик присел на кровать, положил на колени увесистый альбом «Сокровища Древней Руси», на него тетрадку и тут же, отключившись от всего, что вокруг, принялся сочинять, мгновенно обнаруживая в тексте Гоголя нужные цитаты, словно они сами просились на его карандаш.
Выходило так, что сталинизм, да еще как идеальное для России будущее, живописал во втором томе «Мертвых душ» Гоголь. Идеального хозяина Земли Русской он по какому-то нечеловеческому наитию одарил фамилией Костанжогло. Неправда ли, звучит по-русски ничуть не менее экзотично, чем, например, Джугашвили? Костанжогло был певцом рабского труда, его эффективным менеджером и убежденным идеологом. Крестьяне, по его мнению, рождались для того, чтобы трудиться не покладая рук под его чутким руководством. Что им нужно для полного счастья, решал только он сам. Такие химерические понятия, как «свобода воли» или «свобода слова», Гоголем при описании идеальной жизни в идеальном хозяйстве не упоминались даже по умолчанию. Для правильной и счастливой жизни в светлом настоящем и еще более светлом будущем во главе с лучшим другом всех крестьянских детей помещиком Костанжогло русским людям никакие свободы писателем Гоголем не предусматривались.
Но самым поразительным было то, что Гоголь прямо предсказал неизбежность сталинских процессов. На страницах его удивительной прозы, которую он назвал поэмой, появился некий почти всемогущий князь из самого Санкт-Петербурга, заявивший буквально следующее:
«Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже наконец и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель – спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже, и кто главная пружина и чьим сокровенным желанием движется дело, хотя он и очень искусно скрыл свое участие. Но дело в том, что я намерен это следить не формальным следованьем по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное время, и надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с бумагами и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело, – я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше.
Князь остановился, как бы ожидая ответа. Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны.
– Известно мне также еще одно дело, хотя производившие его в полной уверенности, что оно никому не может быть известно. Производство его уже пойдет не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду уже сам и представлю очевидные доказательства.
Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания; некоторые из боязливейших тоже смутились.
– Само по себе, что главным зачинщикам должно последовать лишенье чинов и имущества, прочим – отрешенье от мест. Само собою разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что на место выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут, – несмотря на все это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что меня будут обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут еще… меня те же обвинять… Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы».
В этих словах был заключен не только сталинизм, но и его апология.
– Ай да Гоголь, ай да сукин сын! – вслух произнес Осик.
Ему стало понятно, почему Гоголь отказался быть художником, попытавшись стать религиозным проповедником. Он действительно видел спасение только во Христе, но из его художественных практик выходило, что ничего, кроме власти антихриста, Орду не ждет. А ведь художником он был от Бога. Но если он художник от Бога, то от кого же он тогда религиозный проповедник?
Со стороны казалось, будто на писателя наложили заклятие. Он перестал быть похож на самого себя и вскоре скончался от загадочной болезни, попытавшись предварительно предать рукопись своей поэмы огню. Впрочем, находятся свидетельства, которые утверждают, что поэма была передана на хранение представителям некоего тайного общества. Общество и скрывает ее от публики до неких грядущих времен, поскольку считает, что текст поэмы содержит некую сакральную информацию, обнародование которой все еще преждевременно.
17.
Косте было шестнадцать лет, телосложения он был худосочного, роста среднего, не знал ни одного слова, но ситуацию, в которой находится, если речь шла о привычной обстановке, более или менее понимал. Читая его дело, Осик узнал, что ребенок гиперактивный, склонный к неспровоцированному насилию, до шестнадцати лет жил в домашней обстановке.
Разумеется, такого определили в класс Осика, и Костя органично дополнил компанию Лиора, ежеминутно искавшего, кого бы отправить в нокдаун, Сандры, улыбчивой откровицы, выражение лица которой менялось только после того, как ей удавался разящий удар в глаз потерявшего бдительность взрослого или ребенка, Шая, человека-лягушки весом под сто килограммов, Дани, то рыдающего, то с грохотом насилующего металлический шкаф для учебных пособий (сколько раз Осик просил дирекцию школы заметить его на дубовый) и Юды, небольшого росточка, кругленького и подвижного мальчугана с большими, светящимися живейшим интересом ко всему сущему глазами, в максимально короткое время собиравшего пазлы любой степени сложности.

