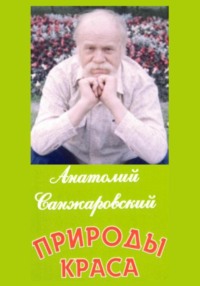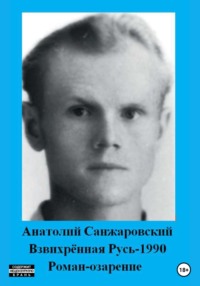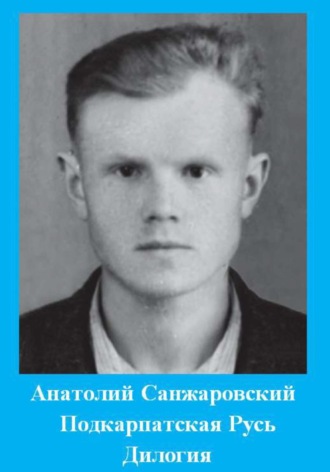 полная версия
полная версияПодкарпатская Русь
– Не-е, чёрт-мать, – бормочет распаренный Иван, хмелея от усталости. – Не дело налётом лететь, куда толпа несёт. Надо драться навспроть.
– Полезли навстречу, – соглашается Петро. – Мне без разницы. Что вперёд, что назад – абы вперёд!
Петру-то что!
Петро в толпе столб.
Поглядывает сверху, посмеивается, как там в низах кипит-бубнит человечество.
Ивана же толпа мнёт, кидает на поручни, тащит, крутит и не найти ему правежа в этой коловерти.
Видит Петро, вовсе лихо Ивану. Вскинул над ним трембиту, ка-ак гуданёт! Народище так и отсыпался, мёртво отпал от Ивана.
Вольно дохнул Иван.
– С теперь ты у меня на контроле, – мягко забасил Петро, не снимая с брата безотрывного взгляда, и как только примечал, что того сжимала, заливала толпа, тотчас пускал над ней из иерихонской дуды своей громы – и сражённо валились в стороны чужестранники.
От пустой беготни упрели Иван с Петром, ноги по щиколотку утоптали.
Посбили скорость. Присматриваются…
Эгэ-э!.. Да вкруг них табунится одна и та же кучка ветродуев!
«Может быть, легла им к душе трембита? А почему и нет? Только…»
Боковым зрением Петро видел, как по короткому кивку одного из них наживлялись они давить на бедолагу Ивана, вприщурку вопросительно косясь на Петра: что же ты молчишь?
Похоже было, чтоб слышать трембиту, кучка, вызнав Петровы замашки, через минуту да во всякую минуту накатывалась на Ивана, и Петро, неосознанно чувствуя преднамеренность этой давки, с набавляющимся раз от разу озлоблением разгонял диким дуденьем толпу, и та, с радостным изумлением на время отступаясь, – понравилось лбом орехи щёлкать! – что-то веселое по-свойски лопотала.
– Как думаешь, – спросил Ивана Петро, – что они такое про нас чешут?
– А что-нибудь на «грани двух тенденций»: або эти, то есть мы с тобой, хлопцы с Верховины, або не из Лондона.
– Им же и хуже! Айда, братишок, в вокзал. С устали хоть глянем на ихний расхваленный под корень сервисок. Сядем культурненько где в уголочке. Вам надо, сами и ищите, ищите да ведите нас под белы ручки к торонтскому чертову трапу.
Плюхнулись. Сидят отпыхиваются.
Ан тебе на́!
Вжимается в свет открытой двери и всё ветродуйское стадо.
Будто споткнулось о взгляды Голованей, сгрудилось у двери на самом ходу, смотрит казанской сиротой.
Отлепился один от табунка. С затравленно-заискивающей улыбчонкой подтирается ближе. Несмело тычет в Петра.
Петро готов с вопросом:
– Мистер-твистер! Что имеешь мне сказать?
– Рус… Мишья-а!.. – «Мистер» ревнул на медвежий лад.
– Понято, сэр! Русский Миша. А потом?
Обрадовался «мистер», что его поняли, летуче дёрнул Петра за рукав. Мол, внимай и обвёл в воздухе мертвенно-бледным пальцем кружок, пнул указательным пальцем в маковку кружка:
– Норд…
Петро догадался. Северный полюс!
Долбит прилипала в точку, где у него этот самый полюс:
– Рус Мишья!.. Рус Мишья!..
Жестами выпросил трехметровую трембиту и, приставив к глазам как подзорную трубу, ошалело, с рыком повёл ею из стороны в сторону: эдако вот русский медведь с вершины мира высматривает, а куда б это ему напустить свои шаги!
«Мистер» обмер. В трембиту увидал олимпийского Мишку у прохожего! В самом Лондоне!
– Рус Мишья – Лондон!.. Рус Мишья – Лондон!.. – заполошно кидал рукой в спину удалявшегося мужчины с нашим значком.
– И Лондон, и Париж, и Мехико, и Мельбурн – везде, мистер-твистер! Везде наш Миша нагуливает себе почёт. А как же? Два месяца до Олимпиады-80 в Москве. Наш Миша сейчас везде свой. И на севере. И на юге. Да только – су-ве-нир-ный. Понимаешь? – Петро снова повторил по слогам: – Су-ве-нир-ный! А не… – с холодным спокойствием забрал у поникшего «мистера» трембиту и, передразнивая его, прислонил к глазам, зашёлся рыком, поводя по сторонам трембитой. – Пошло что-нибудь на ум? Ты мне не надувай ушки ветром… Разве русский Михайло ломится к чужому? И лучше ответь, чего это ваш старэник Лёва сипит? Пыжится задуть солнечный огонь с Олимпии?
Тут к Ивану с Петром шатнулся пролетавший мимо на последнем дыхании взмыленный служивый.
– Торонто?! – потерянно ткнул поверх голов в Петра. Петро был горушка. Виден отовсюду.
– Нашёл пёс! – с изумлённым восторгом Петро шлёпнул Ивана по колену, подхватываясь. – А что я, брате, говорил? Надо – и в твоём Херроу найдут! – и закивал служивому: – Торонто! Торонто!!
Служивый выкатил глядела. И самому не верилось, что наконец-то отыскал! Однако в следующий миг он уже тряс руками, требуя поживей подыматься, вещи в охапку да бегом:
– Эй-эй! – нахлёстывал. – Скоро! Скоро! Паньмаш, Торонто ужэ р-р-ры-ы-ы! – что означало: двигатели запущены. – Ужэ! – аврально выбросил растопыркой указательный и большой пальцы. – А ми ви искай! Искай!
Изобразил, как искали.
Прилепил отвислую жирную ладонь козырьком к бровям, вытаращился. Дёрнулся в одну сторону, в другую…
Краем глаза увидав, что братья стоят ждут его с вещами, короткий, раскормленный – такого легче перепрыгнуть, чем обойти, – катком покатился к выходу.
8
Не смотри высоко, очи запорошишь.
Салон самолёта походил на растравленный улей.
Народ, лощёный, чужой, из-за каких-то там двух мумиков в диковинно расшитых русинских сорочках прел в салоне да при работающих двигателях – подарочек, ей-право, не из рождественских.
Рёв стронувшегося самолёта разом захлопнул все недовольные рты.
Он уже тяжело пилил над океаном, когда к Ивану, сидел первым от прохода, наклонился чопорный стюард.
– Почтенные, – тщательно выговаривал каждый заученный слог, – я скромно считаю, что с вас довольно и одного лондонского концерто гроссо. В Торонто, пожалуйста, не выходите из салона без меня. Я куда надо поведу на пересадку.
Обломилась внизу вода.
Встречно рванулись леса, горы, неохватные степи под молодой, тугой щёткой хлебов.
До стона в висках всматривался Петро в эту чужую и в чём-то уже не чужую землю.
Эта земля смертно обидела отца, забрала самое дорогое: молодость, здоровье, семью. В ответ же на этой неуютной земле нянько оставил так много добра.
За кусок тянул под самым Ледовитым морем дорогу; копал руду, валил леса, строил города, газопроводы, растил хлеб, ходил за скотом… Эта земля взяла его всего, взяла до малости, выстарила, и разве может эта отцова земля быть теперь ему, Петру, чужой?
Не терпелось с выси обежать глазами эту землю. Ни на миг он не отлеплялся от окна и жадно, ненасытно ловил в себя всё видимое, да шло всё как назло: самолет то нырял из облака в облако, то надолго и вовсе входил в сплошные облака, то бесконечным зимним полем подстилались облака снизу и тогда, теряя всякое терпение, ёрзал в кресле, будто кто поддевал его на шило, и он всё ловчил соскочить с шила, садил кулачиной-оковалком в ладонищу, торопя медленный самолёт поскорей выпнуться на чистое.
Вскакивал, умоляюще обводил взглядом пассажиров:
«Что же нас везут, как горшки на ярмарку?»
Немного остывал о холодные равнодушные лица. Всем было неважно, как везут, лишь бы везли. И уже в новую минуту, оставшись без капли самообладания, падал до детского выбрыка – будил, поталкивал огрузлым плечом Ивана, прикрывшего запрокинутое лицо кепчонкой и добросовестно задававшего храпунца.
– Тебе чего? – лениво пролупил один глаз Иван.
– Земли не видать, – жаловался Петро.
– Смотри лучше.
Петро всерьёзную пялился в овал. Действительно, облака помалу истончались, рвались, в тесные разрывы напроломки таки пласталась земля; однако облака не пропадали-таки вовсе, напротив, разрывы снова стягивало, свинцово забеливало, так что во весь оставшийся путь, покуда при посадке не обозначился внатык Калгари, «коровий город»,[10] давший отцу последний приют, окна с воли были тяжело запахнуты серым.
«От тех ли закрываешься, няньков краю? – тихо улыбался окну. – Ох, не от тех… Совсем не от тех…»
Петру, великовозрастному ребятёнку, кто нажил уже давление и не разучился восторженно смотреть в мир чистыми глазами Ивановой внучки Снежаны, эта поездка была полна ожиданием счастья от встречи с отцом.
Иван, в противоположность, не мог представить ничего несуразней, ничего нелепей этого пустого визита вежливости. Ну к чему, досадовал Иван, тащиться в тот Калгари? Ведь за те полгода, покуда оформлялись визы, из Калгари набежало девять толстых писем.
Десятое ушло из Белок.
Старик уже всё знал о житье-бытье своих сынов, Анны, равно как и они всё знали о нём, что только и можно было вызнать.
На кой, недоумевал Иван, ещё эта свиданка? Он так и не мог понять, какой же бес впихнул его в самолёт? Какого рожна попёрло его аж за океан?
В то короткое время, когда не спал, Иван был далеко, на подмосковной станции, где испытывали его «заразу», как называл он свою сеялку.
Как кормить землюшку сыпкими удобрениями – беда. Хоть матушку репку пой. Оно, конечно, не скажи, что нет на то машин. Машин посверх достатка. А вот проку…
Как-то поспорили Иван с Петром.
Отмерили каждый себе рядком по равному клину. Ну, кто быстрей удобрит?
Петро рассевал извёстку прямо из бумажного мешка. Легко – сила не меряна! – как кулёк с конфетами сажал полный мешок на сгиб левой руки, правой раскидывал.
Иван разбрасывал, пшикал сеялкой. Сеялка барахлила, то и дело останавливалась.
Скандал!
Иван и окажись в битых.
Разозлился. Совсем задавило мужика зло, брови набухли. Забурчал, что ж это за техника? Кто её варганил? И только за что платят?
Подмануло узнать за что же. Вороха книжек, журналов пробежал. Бумаги одной что извёл на чертежи!
Битый век тайно мараковал.
А дотумкал-таки до своей сеялки.
Из чего Бог подал слепили с Петром в совхозной мастерской. Пустили в дело. Сама загружается, споро рассеивает. В двадцать раз способней той «туковой новинки», что днями получил совхоз. (Раньше в Белках был колхоз.)
Один минус – пылюга хоть ножом режь.
Сладил Иван кабину – стеклянный колпак с трехметровой трубой. Эдак занебесно пыль не взмахнёт, дыши, тракторист, свежаком!
Не грех такую пустить кабину и на комбайн, и на трактор.
Глянулась сеялка Москве. Взяли на Выставку.
Вот забега́ли на Выставке. Заглянули в свой павильон. Грустно… Пусто… Сеялки там уже нет, на государственных испытаньях, а Вы, Ван Ваныч, – Иван гордовито скосил глаза на светившуюся на груди медаль, – получите малое золотко. Как кстати я нагрянул. Налаживались переправить медаль в Белки – вот я сам. Честь честью вручили…
«Нехай, – уступчиво думает Иван, – нехай батька полюбуется, каким это золотишком пробавляется его старшой…»
Кость ныла, ка-ак самому мечталось покрутиться на государственных испытаниям, ка-ак зуделось…
Под эти-то испытания Иван и выторгуй у совхозного генералитета месяц воли. А тут на́ тебе, в досаде ворчит про себя Иван, не к часу вывернулся пропащой батечка. Не к часу…
Можно ж навалиться к батеньке с гостеваньем и потом, в зиму, когда страда снята, когда в поле делать нечего. Ан нет. Вся родня на дыбки. Сеялка из железов! Ежель что, и подождёт! А нянько ждать не может. Сегодня нянько есть, а завтра может и кончиться.
Скачет Иван из облака в облако на сонном самолёте над чужой землёй, все мысли его в одном: как ты там, мýка и свет мой? Как ты там, любушка и бориветер мой? Держишься?
Не турнули ли там ещё в металлолом?
На металлолом не соглашайся.
Просись, миленькая, в серию.
Крепись, роднулечка, за двоих.
Помни, конец дело хвалит.
9
Что в сердце варится, то на лице не утаится.
Не всё так делается, как в параграфе написано.
Вышли братья в Калгари из таможни, пустили в разгулку глаза по сторонам – будто волной и того, и того скачнуло назад.
Старики, меленькие, бездольные, стояли, держась за руки, точь-в-точь, как на карточке: те же позы, те же испуганно-повинные выражения на лицах, в тех же блёклых одежонках, дешёвеньких, старомодных; и причудилось братьям, стоят старики здесь с той самой давней поры, как снялись на карточку здесь же, на этом вот месте, снялись да так и остались ждать; все глаза проглядели, устали, потеряли всякую надежду встретить, но не ушли – не могли уже, слабые, разбитые, уйти, оттого и стояли из последнего, поддерживая друг дружку.
Бросились братья к старикам.
Не шелохнулись старики, только потерянно, обречённо вперились в роняющих на бегу вещи братьев и ещё тесней сшатнулись друг к другу, словно собирались в открытом поле выстоять смертный ураган, от которого уже не было сил укрыться.
– Нянько-о! – трубно ревнул великанистый Петро, подгребая и беря отца на руки, как младенца.
В горевых слезах, готовно хлынувших, старик доверчиво припал к просторной сыновой груди. Уж на что кремень Иван, а и тоже не удержал себя, привалился лбом к отцову плечу, затрясся. Не отваживалась подходить к Голованям старушка. Возле подперлась кулачком с белым платочком, смаргивает неосушимые.
«Коровий город» обомлел.
Недостижимая глупость! Плакать и не скрывать слёз – всё равно, что носить свое сердце на рукаве. Брезгливость морщила лица прохожих; осуждение, насмешка коротко вспыхивали в летучих взглядах.
Крестом кинув хворостинки рук на руль «Мустанга» и опираясь одним локтем на дверь со спущенным стеклом, ястребино уставилась на приезжих тощая, как сосулька, увядающая дама, пожалуй, средней поры. И руки, и уши, и шея холодно горели у неё золотом. Красное платье с блёстками тесно охватывало тонкую фигуру.
Через минуту её любопытство перешло в удивление.
Уже сколько она сидит и её не видят!
– Всё! – ласково приказала она себе по-английски. – Чересчур много хорошего никуда не годится. Эти милашки Иваны везде Иваны. Наплывёт – облапятся и будут век лосями реветь. Нечего ходить вокруг куста!
Качнувшись назад, присев, машина с места взяла рывком; казалось, молнией перехлестнула то малое пространство, что было до Голованей, и стала так ловко, что едва не уткнулась передком присадистому Ивану в икры.
Никто из Голованей машину не заметил.
Даже притихлая старушка, в равнодушии покосившись на подлетевшую машину, безразлично отступила от неё, снова подняла лицо на Голованей.
Несколько мгновений женщина в упор, с пристальным изумлением смотрела на старушку, ясно видела, как виноватость старушечьего взора наливалась благостью.
Женщину за рулём по-прежнему не замечали!
– А-а! – с глухим простоном тыкнула пальцем в кнопку у ветрового стекла. Разом плавно распахнулись все дверки кроме той, что была под локтем.
С расхабаренными наотмашку дверьми походила эта машина на сытого майского жука, что глянцевито, торжественно блестел, но невесть где и при каких обстоятельствах потерял одно клешнятое крыло и теперь как ни старайся не мог больше взлететь.
Женщина ждала. Не помогают и зовуще размётанные двери? Всё равно не видите?
И тогда она, озоровато оглядевшись, упёрлась спичечно острым локотком в оранжевый диск на руле и тут же отняла. При коротком истошном звуке, неожиданно лопнувшем совсем под боком, отпрянул в сторону Иван, дрогнуло у Петра на руках коротенькое твёрдое тельце, угрюмо поднял тяжёлые глаза Петро.
Женщина, выпрямляя, насколько это было позволительно, свою подбористую, змеино-гибкую стать, с невинным выражением на лице занялась туалетом. Беспечно поглядывая в зеркальце над собой, набавила краски губам, поправила, вычернила брови, одни лишь карандашные дужки, голые, со слабым намеком на растительность; приглаживая, повела узкой дощечкой ладони с жёстким кружевом морщин по перекаленным химией синим волосам, обкорнанным коротко, под мальчишку.
В деланную беззаботность улыбки втекло еле уловимое мстительное кокетство. Женщина себе нравилась. Её слегка рекламно-жизнерадостная улыбка твердила: как видите, настоящий коралл в кисти художника не нуждается!
– Иль тебя, Маримонда Павиановна Шимпанзенко, мокрым рядном накрыло?! – громыхнул Петро, осторожно ставя отца на землю.
Не пуская с лица нарядную улыбку безмятежности, она выставила голову в окошко:
– Извините, я нечаянно нажала…
И тут же учтиво поинтересовалась:
– Извините, а зачем Вы мне всех обезьян перечислили?
– Зачем же всех… Я назвал, автоледя, всего-то одну.
Уловить выражение её лица было невозможно. В первое мгновение она готова была оскорбиться и, кажется, даже оскорбилась, но за первым мгновением шло второе, и в это новое мгновение, явно затеяв уже что-то недоброе, залепетала – перед прыжком львица приседает:
– Извините… извините… – Трудно выталкивала она из себя словесную мешанину, в которой было что-то и от русского, что-то и от словацкого. – Я так, извините, толком не поняла, что Вы сказали.
– Куда уж нам уж, – недовольно раскинул руки Петро, выстужаясь о женскую кротость. – А то и сказал… Что за мода дудеть под носом у незнакомых?
– Не знакомы – познакомимся, – чуть подалась она вперёд.
– Да хватит конопатить мозги! – Петро смотрел вызывающе. – Вам что, делать больше нечего?
– Представьте! – Дама коротко повела плечом, внутренне ликуя, что затеянная игра даётся. – Сбавляйте, пан, обороты да, – кивнула на заднее сиденье, – садитесь. Таксо подано.
Петро и распахни рот.
А наживлялся он было уже подпустить слегка покруче, с солёным кипяточком – ан затрясла за рукав старушка, затрясла чувствительно. Старушка и до этого всё какие-то знаки подавала, просительно прикладывала палец к дряблым губёнкам, намазанным с молодой щедростью, да Петро всё отмахивался: нет, Вы погодьте, я рубну по-нашенски, по-русински! Он бы и рубанул, если б старушка, что подавала знаки и говорила растерянно, невнятно, так что Петро ничего не мог понять, наконец не нахлестнула своему голосу сил.
– Это ж наша Мария! – почти выкрикнула старушка, полохливым движением бровей указывая на женщину за рулём. – Ма́рушка! Мы приехали с нею за Вами.
Крякнул Петро.
– Весё-оленький перфект…
Он не знал, как теперь и быть, как вести себя. Стоял, с конфузливой беспомощностью озирался – как себя потерял. «Хоть японцы и говорят, что знакомство может начаться и с пинка, так кто ж тому пинку рад?»
Старушка душевно поманила Петра наклониться и ласково вшепнула в самое ухо:
– Ты, сынок, особо не обмирай. – Ободряюще дёрнула книзу за рукав. Позвала в полный голос: – Садитесь, сынки, садитесь…
Сама села к Марии, а Головани, все трое, сзади.
10
Тело в тесноту – душу на простор.
Не конь солому поел, а солома коня.
Тесновато получалось у мужиков.
Попав меж Иваном и Петром, уподобился отец комару, что завалился меж трущимися слонами. Выдавленный кверху с места, когда Петро последним захлопывал дверку и впихивался, завис нянько на сыновьих плечах.
Не мешкая развернул его Петро, усадил – иначе никак нельзя было – к себе на колено, пришатнул к груди.
С восторгом покосился старик на узкий затылок Марии, и Петру то ли помстилось, то ли въявь увиделось: сгримасничал, выставил старик затылку кончик языка.
Выждав, когда всё в машине угомонилось, всё с той же жизнерадостной, не тающей и вроде как будто с приклеенной улыбкой повернулась Мария назад, назвала себя, просто дала руку одному, второму.
Чуть приподымаясь поочерёдке и называясь, и Иван и Петро с мелким поклоном жали протянутую руку.
На первые глаза рука казалась жёсткой, точно узкая досточка. Но на самом деле – совсем напротив! Жила эта рука в тревожно белой холе, в мягком, кротком тепле, однако Петро, ответно давнув её с невольно толкнувшейся в душу короткой жаркой опаской, смутно почувствовал, что в этих бархатных, уютных лапках скрывались острые коготки.
Сидя вполоборота, Мария начала уже выкруживать к рулю и тут каким-то цепким боковым зрением ухватила, что старик почти вжался головой в крышу.
– Послу-ушай, Беда Иваныч! Да когда это ты успел так вырасти?
Перевалившись подбородком за верх спинки своего кресла, с протяжным свистом отпала: старик, весь подбираясь, пружинясь, в чинной скованности восседал на Петровом колене!
Пусто хохотнула, потрепала старика по щеке.
– Малыш! Ты отлично устроился!
Счастье брызнуло из стариковских глаз.
И какие там сплетни ни сплетай в этом «коровьем городе», счастливей этой минуты он никогда не был во все свои семь десятков. Он ознобно улыбался сквозь снова закипавшие в нём слёзы, ничего не говорил: не горазд был говорить, не мог.
Сыновья так и не слышали ещё его голоса.
– Вы уж, Мария, извинить за Шимпанзенко, – жалуясь лицом, с усилием забормотал Петро. – Свернулось глупо так…
– О! Трагедия олимпийского года! – накоротке вскинула над рулём руку Мария, отъезжая. – Забудьте… И потом, вся вина на мне. Уже в ответ Вы выдали свое бэ, а а сказала-то я!
– Как-то шелапутно вышло…
– Глубоко наплюньте на всё и успокойтесь. Пускай Вас утешает мысль, что всех людей роднит то, что все они умны после того как дело уже сделано. – Помолчала, кивнула головой, будто утвердила сказанное. – А вообще такой оборот развеял меня. Дамесса я шалая, моё а – моя маленькая хитрость. Тут уж ничего не попишешь, я вся из этих хитростей. Без хитростей мир был бы невозможен, бесполезен…
В своём городе Мария знала все ямки, оттого налётом летела уверенно; разбросанные всюду газетные клочья, будто опомнившись под колёсами, подхватывались с размолоченного асфальта, кидались вслед, но налиплая жёлтая грязь пригнетала, давила книзу своей тяжестью, и обрывки, омертвело взмахнув на настуженном ветру раз-два, опадали, заваливались, застревали в глубокой обочинной пыли.
Может, на этой улице ленивый дворник?
С надеждой братья вламывались в новую улицу – за каждым новым поворотом была всё грязь и грязь…
«Да-а, это не Москва,» – в замешательстве покашивались в окна.
Старые по бокам в два этажа домишки рядились в рекламу. Вовсе не вязалась она с тем, что было ниже, под нею, на земле: вся эта наповал хлёстко бьющая с фасадов роскошно-неоновая жизнь стояла на грязи.
Далеко за безлесную гору, пустую, голую, как столб, нырнула верхняя закрайка солнца, и оттуда, из-за горы, оно слабо било в небо последними лучами, тревожно, пожарно окрашивая шапку полукруга на горизонте.
Солнце казалось братьям каким-то несчастным, обиженным, осуждённым, что ли: из-за облаков, где толстых, где тонких, ни в Лондоне, ни в Торонто, ни здесь им так и не удалось увидеть его в полной силе.
В воздухе растекались лиловые сумерки.
Быстро темнело.
Мария затаенно наблюдала за растерянными и всё реже поглядывавшими по сторонам братами. Она видела, что их удручали, печалили давно неметёные, давно немытые улицы, но поскольку братья из деликатности ничего не спрашивали, помалкивала и она.
Однако когда вкатила свою чёрную жестянку в особенно грязный, затёрханный проулок, не удержала себя.
– Плоды забастовки налицо, – повела рукой. – Пятый день дуракуют мусорщики. Стопроцентные ленькари![11] За что только им, убей не пойму, набавлять зарплату?.. О-ля-ля! – неопределенно покрутила рукой над головой. Того ли ещё жди!
Братья натянуто молчали, диковато ошаривали, из каких это щелей несло.
Кажется, все вплотняжь закрыто. А откуда-то студливо несло, постёгивало; было основательно холодно. Откуда сейчас взяться холоду? Конец мая, везде конец мая, выбирались из дому – тёплушко, в костюмчиках в одних подались (так, на всякий случай кинули в чемоданы по плащу), а тут тебе дай-подай – холодина собачий.
– О мама миа! Забыла совсем!
Резко затормозила Мария, осадила несколько назад.
На пустом, безлюдном тротуаре из-за горки ящиков с пивом, всаженных один в другой, вывернулся выморенный мужичонка, ловко смахнул, сорвал себе на живот верхний ящик, с бутыльным перезвоном закачался к багажнику.
Эти три ящика пива, что жаловала Мария на «русский распой», она могла б, разумеется, забрать к старикам ещё вчера, когда закупала, всё равно ж приезжала на машине. Но сделай так, она не была б уже Мария Капутто: этакие штуки не в её правилах выкидывать втихомолку. Её великодушию нужна непременно восторженная оценка на месте планируемого подвига. А потому и распорядилась, чтоб с пивом ждали её уже на тротуаре в тот самый час, как будет возвращаться с гостями из порта.
Всё было, как и хотелось: публика, восторги.
И только старик с немым подозрением ширил, таращил зенки то на довольную Марию, то на проносимые в багажник ящики.
Наконец двинулись, повеяли дальше.
– Зач-че-ем? – простонал старик, воздевая в отчаянье над острыми плечьми Марии пергаментно-высушенные кулачишки.
Братья и испугались сдавленного вопля, и обрадовались. Слава Богу, нянько заговорил!
– За-ач-че-ем?! – набирал злости стариковский голос. – У меня ж целый ящик полугодовой выдержки!
– То Ваш, а это, – скачнулась Мария назад, – а это ракетное горючее – лично мой скромный вклад.