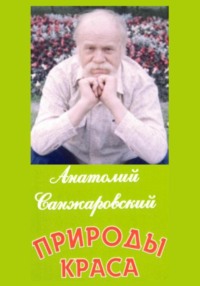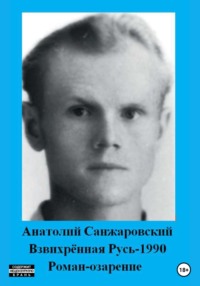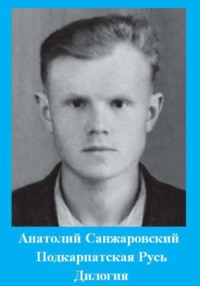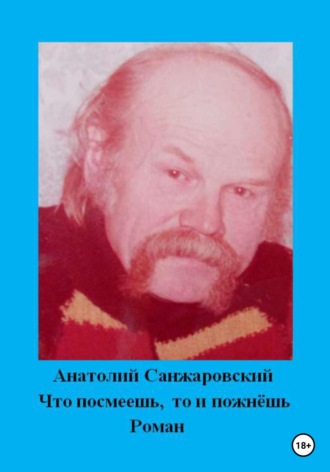 полная версия
полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
Так выпьем по паре булей и мы!
– Иду я как-то ночью через парк. Луна, звёзды и парень с девушкой целуются на скамейке. Иду в другой раз: луна, звёзды и тот же парень на скамейке целуется с другой девушкой. Иду в третий раз: луна, звёзды и тот же парень на той же скамейке целуется с третьей девушкой.
Так выпьем же за постоянство мужчин и за непостоянство женщин!
– Две янгицы[82] под уиндо́мПряли поздно ивнинго́м.«Кабы я была кингица, –Говорит одна гирлица, –Я б для фазера-кингаСупермена б родила».Только в ы́спичить успела,Дор тихонько заскрипела,И в светлицу входит царь,Того стейту государь.Во весь тайм оф разговораОн стоял бихайнд забора.Спич последний по всемуКрепко ла́внулся ему.«Что же клёвая янгица, –Говорит он. – Будь кингица!»– За нашу кингицу!– За нашу кингицу! – дружно гаркнуло всё застолье, и все взоры и стаканы достопочтенно и резво в восторженном рывке чуть шатнулись к мадам Кафтайкиной.
Она благодарно всем поклонилась и сиятельно пригубила.
И только потом все позволили себе выпить и легонько закусить перед новым тостом.
– Снесла курочка яичко не простое, не золотое, а в крапинку. Дед удивляется, бабка удивляется, внучка удивляется. А петух посмотрел и сказал: «Пойду бить морду индюку!» Пошёл. Возвращается весь побитый, под глазом фонарь, хвоста нет, половины перьев нет…
Выпьем за презумпцию невиновности.
– Хочу признаться, что меня странно клонит на правый бок. Сяду прямо, а натура так и норовит свалить вправо. А что справа? Притягательная девушка. Так выпьем же за наши магниты!
– Девушка обращается к служащему зоопарка:
– Скажите, пожалуйста, эта обезьяна – мужчина или женщина?
Рядом стоящий грузин:
– Дэвушка, это самец. Мужчина тот, у кого есть дэньги.
Выпьем за деньги! И за мужчин!
– Когда француз обнимает женщину за талию, его пальцы сходятся. Но это не значит, что у французов такие длинные пальцы. Это значит, что у француженок тонкая талия. Когда англичанка садится на лошадь, её ноги касаются земли. Но это не значит, что у неё маленькая лошадь. Это значит, что у англичанок такие длинные ноги. Когда русский, уходя на работу, хлопает жену по заднице, а приходит с работы и видит, что задница ещё дрожит, это не значит, что русские женщины такие толстые. Это значит, что у русских мужчин самый короткий рабочий день!
Так выпьем же за нашу Конституцию!
– Выпьем за наши гробы из досок столетнего дуба, посаженного сегодня!
– Выпьем за нас, красивых. Ну а если мы не красивые, то мужики зажрались!
– Выпьем за парение над угнетённой жизнью!
– Курица убегает от петуха и думает: «Догонит – не дамся!». Петух бежит и думает: «Не догоню, так хоть согреюсь». Выпьем за то, что среди нас нет таких отсталых петухов, как, впрочем, и куриц с консервативным, несовременным мышлением.
За морально-политическое единство!
– Что такое сердце женщины? Улица шумная, сказка волшебная, прихоть минуты, тёмный лес и прозрачный ручей. Я бы выпил за прихоть минуты.
– Дети – это цветы жизни. Так давайте эти цветы дарить красивым девушкам!
– Да! Да! Пора! – поддержали все единым хором.
– А то девушки уже заждались подарков, – в один голос подкрикнула группка парней у края стола.
Быстро выпили, быстро закусили каким-то деликатесом вроде яичницы по-флотски[83] и торопливо стали парами упархивать, куда кому горелось. Кто на печку, кто в сени, кто в сад, кто в стог, а кто и в овраг сразу за огородом. В самом же деле, сбегались сюда не на обжираловку!
В хате в тени от разгромленного стола осталось лежать на ковре пять пар. Инвалидики. Эти неженки не выносили стоячей любви на холодном ноябрьском ветру и предпочитали крутить болеро[84] где-нибудь в тепличных условиях.
Впятероман.
Конечно, всем хотелось уединения.
Чего хотелось, то и получай. Закрой глаза – и вы одни на всём белом свете. А что рядом на полу ещё чебурашатся, так от этого всем веселей.
И только одна Кафтайкина осталась без фронта работ.
И ведёт себя престранно. Как баба Яга в тылу врага.
Она одна по-прежнему сидит за фестивальным столом и, трудно согнувшись, уложила тяжёлую голову на скрещённые руки.
Может быть, спит за столом.
А может, и не спит, что ближе к вероятию.
Как спать на боевом руководящем посту? Как спать, когда стоишь на маяке?[85]
Народ молодой да горячий. А ну выпадет из кого искринка и спалит хату и всех близлежащих?
Такие потери ни к чему.
И за это уж спросится с самой Кафтайкиной. Весь этот фестиваль[86] она сама повесила себе на шею. Теперь сиди бди!
И пускай все видят, что она, Цезариха, вне всяких подозрений!
Всё шло своим чередом.
Мельница крутилась.
Гульбарий шуршал, постанывал, поохивал, попискивал, похохатывал…
Вдруг звонок сверху. С печки.
Кафтайкина взяла трубку:
– Алё!
Девичий тонкий голос:
– Это Сашин папа?
Кафтайкина басом:
– Да. Сашин папа.
– У меня к вам претензия. Мы с Сашей поженились…
– Когда это вы успели? Ну, чего тут нести голландию?[87] Он же пошёл на вечеринку холостой…
– А теперь уже женатый. Мы поженились между третьей и четвёртой рюмками. Всё, ёк-макарёк, процесс пошёл… У нас идёт первая брачная ночь. И ваш Саша весь в позоре! Что же вы не подготовили его к суровой семейной жизни?!
– Дай-ка ему трубку… Сашуня, сынок… Пошто ты так опозорил меня? Так ударить в грязь яйцом!
– Папа! Я же рос в советской школе! В колхозном комсомоле!
– А я думал, ты рос у меня в семье…
– Хэх! У тебя! Папа! Да ну откуда я мог знать всю эту весёлую механику? Ну разве ты не знаешь, что у нас секса нет?!
– А откуда ты взялся?
– По партийной разнарядке из рейхстага принесли! Партия подарила!
– Оно и видно… Тогда слушай… Запоминай… У тебя на теле есть вырост, а у девушки – ямочка. Постарайся своим отростком попасть в эту ямку. А дальше Бог тебе поможет.
Через час снова звонок:
– Это невозможно! Он всё время упирается мне носом в пупок и заклинает: «Господи, помоги! Господи, помоги!! Господи, помоги!!!»
Кафтайкина сердито бросила трубку.
– Эй! На печке! Вы что, верующие?!.. И как эти баптисты внедрились в члены райкома? Надо разобраться…
Улеглись наковёрные страсти, затихло всё и на печке.
Большие комсомольские скачки наконец-то слились в смирные, довольные полежалки.
Кафтайкина приподняла лицо, глянула в тень от стола.
Увиденное несколько напомнило ей фрагмент батальной эпопеи «После битвы».
Всё валялось враскид, вперемешку.
И богатырский молодой храп наводил ужас на голодных мышей – взапуски летали по загазованным[88] тёплым горкам.
Кафтайкина довольно вздохнула и на цыпочках покралась от этого адажиотажа к выходу.
В чулане старая напасть.
Бабслейленд тут ещё продолжался.
Молодые искатели экзотики принимали процедуру любви на коленях.
– Оппаньки! А это что ещё за веники-ебеники!? – возмутилась она, и со всей партийной прямотой тут же вынесла свой приговор: – На коленях – унизительно! Кончайте этот беспардонный биатлон! Почему вы не берёте на вооружение уроки и наказы наших пламенных революционеров? Разве я вам не рассказывала? Про опыт пламенец…
– А-а! – перебили её. – Как же! Ещё как помним!.. Петька с Чапаем воевали в Испании. Только не понимаем, чего они там забыли? Ну… Идут по городу и слышат крики. Чапай: «Петька! Сбегай узнай, кого там славят!» Возвращается Петька и говорит: «Э-э… Какую-то Хлорку там Эббаннулли!» – «А она чего кричит?» – «А она кричит: вкусней стоя, чем на коленях!»
– Так для кого говорила наша славная пламенец? Почему опыт закалённых борцов ничему вас не учит?
– Ещё ка-ак у-учит…Стоя – слаще, но на коленях – трудней. Мы учимся преодолевать трудности. Готовим себя к суровой борьбе за коммунизм…
– Ну, готовьте, готовьте, – и пошла во двор.
А там и на сеновал. К Пендюрину. Небось, заждался сладкого гостинчика!
Уж тут-то их никто не увидит. Уж ни один язык не кинет худого слова про неё.
Ей нравилось, что всё у неё с Пендюриным шло очень уж идейно.
Пендюринский маяк социализма внагляк зашкаливал за четверть метра. Разве это не повод для радости? Высота маяка социализма чёткая. Двадцать пять сантиметров. Пендюрин проскочил социализм и, по секретным уточнённым сводкам гнилушанской колодезной статотчётности, весёлыми временами твёрдо дрейфовал в сторону тридцати сантиметров, к маяку коммунизма. Разве это не символично? И не отрадно?! Мы во всём на правильном пути, ёрики-маморики!
И этим своим маяком коммунизма ка-ак он её инструктировал на сеновале!
«Она полюбила меня с первого замыкания. Чуть не попала на тридцать второй пикет![89]» – вспомнил он первый их схлёст в лесополосе у свинофермы и почему-то хохотнул.
Кафтайкина тоже с восторгом вспоминала то первое замыкание в сталинской лесополосе, когда она от счастья невольно измазала свои формы содержанием. Благо, рядом была свиноферма. Пендюрин принёс оттуда два ведра воды, и скоро бесформенные формы Кафтайкиной снова невинно заблистали своей партийной чистотой.
Эффект первой встречи чуть было не повторился и сейчас, на сеновале.
Ну Пендюрин! Ну Пендюрин! Полный пимпец!
Ох и доходчиво и убедительно он её инструктировал под охи жирной хавроньи за хворостяной стеной! До ножа хавронье оставалось с месяц.
Ка-ак же он на полном закосе[90] вбубенивал, ка-ак инструктировал цветочек своей жизни Кафтайкину и в райкоме прямо на её же руководящем столе! Ка-ак же!.. И главное, без отрыва от дорогого производства по коммунистическому воспитанию подрастающей смены!
Так инструктировал, так инструктировал, что просто было бы большим преступлением держать его на поводке рядового инструкторёнка.
Она не хотела никаких преступлений, ни больших, ни маленьких, никаких неладов с законом. А потому…
Раз всё у него с нею получалось, скоро он был уже замзавыч. А там уже вторым лицом в комсомоле, а там и первым, поскольку сама Кафтайкина тоже не забывала расти. Она доросла до первого секретаря райком партии, а Пендюрин дорос до креслица первого лица в райкоме комсомола. И параллельно всё увлечённей инструктировал.
Дамесса Кафтайкина доросла до обкома партии, а своё первое креслице в райкоме партии она из рук в руки торжественно передала своему верному пролетарскому перпендикуляру Пендюрину с высочайшим повелением:
– На память вытатуируй мне на бритом моём лобке одно-единственное слово туалет. Это всё, что осталось светлого у меня в жизни.
– А если сёгун прочтёт мой автограф?
– Мой дистрофан уже давно ничего не читает… Он даже спать ложится в очках, чтоб сон разглядеть.
– А как расшифровывается туалет?
– Очень нежно… Бери первые буквы… Ты Ушёл, А Любовь Ещё Тлеет… Вот и весь туалет… Память о тебе… Вот состарюсь… Свалюсь, выпаду на пенсию… Буду смотреть на твою руку и вспоминать тебя… все наши радости… Но это в будущем. А сейчас… Ты изменял мне со своими жёнами… Я это великодушно терпела. Но если, Долгоиграйкин, изменишь мне с какой-нибудь там дротькой[91] – я сделаю тебе мичуринскую прививку.[92] И можешь, факсимилейший, заказывать привет с кладбища![93] Ты таблетки на меня не выворачивай!
– Оглушиссимо!!! Мне глубоко кажется, полный отруб!.. Матуня!.. Роднуха!.. Святочка!.. Да под кого ты метро роешь? Да неужель я подлая бледная спирохета?! Я твой одномандатник[94] до родных огоньков коммунизма!!![95]
– Ух ты, едрёна кавалерия! Блеск-шик! Ладно… Моё тебе полненькое вериссимо, мой ненаглядик автомотовелофототелебабарадиолюбитель! Спрячь агитатора[96] и слушай. Верное у тебя, огрызок ты моего счастья, партийно-постельное ориентирование. За это всегда рассчитывай на меня, на свою принцессу Дурандот. Огребёшь целиком!.. Помни, поющая оглобля, блат от неупотребления портится. И я тоже.
Глава четвёртая
«Орлам случается и ниже кур спускаться;но курам никогда до облак не подняться!»1
Со своей падучей Пендюрин наверняка упадёт высоко!
Было такое предчувствие.
Как человек осмотрительный он не чурался поддерживать добротные связи с начмудиком[97] в областной спецрембазе болтов и мохнаток.[98]
Пендюрин очень гордился дружбой с ним. Этот начмудик очень долго раньше работал в органах.[99] Видный работник органов![100]
Выбился в замы.
И всякий раз, когда Пендюрин с возможным тайным подношением заскакивал в триппер-холл[101] к начмудику на огонёшек, он прежде всего каялся:
– Налегке грешен… Боюсь я, петух гамбургский, подхватить на конец удовольствия… Успокойте ёжика в тумане… Посодействуйте…Пускай кто из ваших доверенных посмотрит, не обзавёлся ли я первыми радостями персоны нон грата?[102] Или, может, я давно уже лауреат всяких там премий![103]
Беспокоиться ему было отчего.
Как человек пунктуальный он обязательно фиксировал все свои достижения – иссёк дверные косяки зарубками.
Однажды он встречался с корреспондентом. И после опорожнённого бутылёчка корреспондент вывалился из-за стола в променаж по дому в одних носках. Наткнулся очумелым глазом на эти засечки и спроси, что это за штуки.
В первый миг Пендюрин и не знал, что ответить.
– Да, – буркнул, – это русский народный орнамент… Ну… Деревянное зодчество такое…
– Слышь, Глупов! Ты где-то в облаках! – Лика постучала его по спине. – Спустись, пристебон,[104] чудок пониже… Ты о чём думаешь на моей территории?
– С каких это пор моё точило[105] стало твоей территорией?
– Да нет. Моё тело было и навеки будет моей территорией.
– Скажи, как тонко подмечено…
– Так об чём твои высокие думы?
– Только о тебе! – автоматом соврал он.
– Да ладно тебе. И чего сплетни сплетать? А этого сладкого зачем подлепил? – показала она на цитату Горького на потолке
Если враг не сдаётся, – его уничтожают!
– Чтоб боялись и быстрей сдавались… Не зря по полю цитаты пририсовал я стреляющий пистолет. Вот ахов писателёк-гуманистик… Против своего народа так – враг! Особенно против кулака, главного кормильца России…[106] Его хлеб ел и звал к его же уничтожению! Наш сладенький вложил в руки комвождюков лозунг-автомат, и те рьяно отправляли «на перевоспитание» миллионы лучших людей России… И что в итоге? Как видим, в фашистскую коллективизацию уничтожили кулака – накрылись вечным голодным тазиком. Мёртвый, истреблённый советской властью кулак уничтожит эту самую советскую власть. Голод может и не такое!.. Как и верховный Лукич,[107] не жаловал наш сладушка и интеллигенцию. Для современников он был «предателем лучших заветов интеллигенции».[108] Да что кулаки? Что интеллигенция? Такое впечатление, что в советские годы наш сладенький только тем и жил, что науськивал «стражу пролетариата» на каких-то вечных мифических врагов, которые вагонами мерещились ему в каждом сучочке. Даже в тридцать пятом, за год до смерти, он всё канифолил мозги через «Правду»: «17 лет партия Ленина-Сталина непрерывно борется с вредителями… 17 лет стража пролетариата вылавливает и уничтожает шпионов европейского капитализма… Мы живём в состоянии войны – вот что нам нужно помнить, не забывая ни на минуту. В нашей среде, оказывается, прячутся мерзавцы, способные предавать, продавать, убивать. Существование таких мерзавцев недопустимо… Враг вполне заслуживает непрерывного внимания к нему, он доказал это. Нужно чувствовать его, даже когда он молчит и дружелюбно улыбается, нужно уметь подмечать иезуитскую фальшивость его тона за словами его песен и речей. Нужно истреблять врага безжалостно и беспощадно, нимало не обращая внимания на стоны и вздохи профессиональных гуманистов».[109]
– Глупов! И ты всё это помнишь наизусть!? – изумилась Лика.
– Я встречал чумиков, на память знали всего «Евгения Онегина». А тут несколько строк… Да и по работе всё это надо долдонить. Все печёнки прожгла эта глупиздика… Не мешай. Не отвлекай… Наш сладуша постоянно «разделывался» с чудищами врагами, высосанными из волосатого мизинца, и не забывал покрикивать: «Да здравствует наша партия, неутомимый, зоркий вождь рабочих и крестьян!»[110] И как мог «вождь народов» его не любить? Наш сладкий как-то похвалился: «Меня нельзя упрекнуть в идеализации крестьянства».[111] Что да, то да. Тот-то он в 1921 году в Берлине мечтал… Ох-хо-хо… Крестьянам, «народу-богоносцу», он что сулил? «Вымрут полудикие, глупые тяжёлые люди русских сёл и деревень – все те, почти страшные люди, о которых говорилось выше, и их место займёт новое племя – грамотных, разумных, бодрых людей». Это-то про нас с вами!.. Мы ж с вами корешками оттуда, от сохи… Значит, мы «полудикие, глупые тяжёлые люди русских сёл»?.. Получается «максимально горько». Ах тебе!.. Вот такой он был, папайя-мамайя соцреализма. Разве всё это воткнёшь в гимн о его человеколюбии? А Гитлер тоже припадал к Ницше. Выходит, наш Главсокол и Главбуревестник[112] с фюрером кисли на одних дрожжецах? Эха, горький буревестничек…Трудолюбивый Горький сине горел желанием порулить всей державой напару со Сталиным. Но Сталин твёрдо оттёр-таки его в сторонку, подальше от руля. Самому хотса! Один чтобушки…
Пендюрин немного помолчал и продолжал так:
– А ведь вся Россия выбежала из крестьянских ворот… И Лев Толстой вот как говорил о русском крестьянине, «человеке-богоносце»: «Я так люблю русского мужика, что даже запах его пота мне приятен». Хорошо! Разве это можно сравнить с кровавым мозгоклюйством нашего сладуши, певца ГУЛАГа? В порыве откровенности он заверял: «Я искреннейше ненавижу правду!»
– Бэмс! Да с этим можно мозжечокнуться! – сердито выкрикнула Лика. – Ну… Хватит об этом кисленьком-сладеньком!
Пендюрин уже подъезжал к Гнилуше.
В дверное оконце Лика увидела на обочине кривой стенд.
– И такой большой! Остановись, ямщик. Дай прочитаю.
Пендюрин нехотя затормозил.
– Скажи, а что вон это? – Лика потыкала пальцем в верх стенда. – Какой то «Оральный кодекс строителя коммунизма»… Может, моральный? У тебя тут нету ошибочки?
– А почему у меня?
– Стенд стоит на территории чьего района? Не твоего?
– Район мой… Стенд мой… Всё так… Подумаешь, трагедия века… Ну какой-то дурик с кукушкой грязью мазнул, умкнул эм. Вот и получился оральный.
– Значит, ошибулька есть?
– Нету! – сердито буркнул Пендюрин. Он не любил, когда ему возражали. – Оральный от слова орать. У него целая тележка разных значений: и пахать землю для посева, и громко говорить, и громко петь, и в крике воспитывать!..
– И кого ж вы воспитываете на ходу?
– Тех, – вмельк глянул он на потолок, густо усеянный листками с цитатами, – тех, которые сразу не отдались… Бессовестно забыли Божий наказ «Блаженнее давать, нежели принимать»… Пускай почитают тормознутые хазарки-цесарки, проникнутся высокими идеями… Глядишь, высокая совесть заговорит, дойдут, что блаженнее всё-таки давать… Одним словом, дозреют до исторической важности момента и…
– О! Ка-ак перевоспитываете! Какой же ты, Пендюрин, идейный нахапет! Интересно… Надо почитать!
И она прилипла глазами к стенду. Стала читать.
УТВЕРЖДЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИПартия считает, что моральный кодекс строителя коммунизма включает такие нравственные принципы:
– преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма;
– Особенно впечатляет советская горячая любовь на танках к пражанам в шестьдесят восьмом, – вставил Пендюрин. – Советские танки спасли социализм! Как гуси Рим!
– добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот и не ест.
– Чистейший плагиат! – воскликнул Пендюрин. – Этот главный лозунг коммунизма наши верховные партайгеноссе скоммуниздили из Библии![113] – И назидательно уточнил: – Кто не даёт, тот не ест белый хлебушек с маслицем!
– Не мешай просвещаться. Едем дальше…
– … забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;
– высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов;
– коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;
– А у нас пока как получается? Каждый на всех и все на одного, – постно пояснил Пендюрин.
Лика сделала вид, что не слышала его и с тоской читала дальше:
– гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку – труп, товарищ и сват;
– Тпру-у! – вскинул Пендюрин руку. – Ты что читаешь?
– Что написано… Труп, товарищ и сват…
Пендюрин внимательно всмотрелся в стенд и присвистнул:
– Действительно… На месте и труп, и сват… И тут народные умельцы постарались. Подправили… Надо подослать своего малёвщика. Пускай напишет всё как следует. Тыщу раз пролетал мимо и не видел. А областная власть может и увидеть…. Хвостик обдёргает за такую агитацию. У нас это строго.
– Пендюрин! А как должно-то быть?
– А ты не знаешь?
– Знала б, не спрашивала.
– Голова!.. Запоминай… Друг, товарищ и брат!!!
– Значит, – Лика снова прилипла глазами к строчке на стенде, – человек человеку – друг, товарищ и брат.
Лика толкнула локтем Пендюрина в бок:
– Ну-ка, мозгодуй,[114] доложи, кто я тебе сейчас? Друг, товарищ или брат?
– Всё в комплексе. Сестра!
– Милосердия?
– Стогостона…
– Хоть не кодекса… – вздохнула она и продолжала читать вслух:
– честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни;
– взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
– непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству;
– дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
– непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;
– братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
– Опа-а… Не хухры-мухры, – бросила Лика.
– Вот тот-то! Сплошняком проституцион… Этот же кодекс безо всяких уточнений на листке вон приклеен у меня к потолку. Читай. То же самое. Что в реалиях и что на бумажке? – ткнул он в потолочный кодекс. – О! Но – помогает! Как какая несознательная прочитает последний пунктик про солидарность всех со всеми, сразу начинает ёрзать. Совестишка просыпается! Балласт[115] вперёд, амбарчиком пускается зазывающее играть. И смотришь, пошла сдавать гордые рубежи. Раз партия сказала – не моги артачиться!
Лика на вздохе неторопливо обошла глазами на потолке пендюринский цитатник.
– Глупов! Я за старое… А ты свой Пежо[116] превратил в борделино…
– А разве кто-то спорит? При обкомах, при райкомах есть методические кабинеты политпросвещения. А чем тачанка первого секретаря не филиал этого самого кабинета политпросвета на колёсах? Человек ни секунды не может быть неохваченным политвниманием!
– Тюк! Тюк!! Тюк!!! Села, огляделась, начиталась и – принимай горячий партградусник?
– Но ничего не потеряно, если процедура пошла раньше читок. Лежи под партправителем и усердно просвещайся. Повышай свой общий идейный уровень!
– А если ледя, даже начитавшись, ну никак не дозревает до процедуры?
– Вот этого диссидентства вперемешку с анархией нам не подавай! Читай всё ещё и ещё раз. Как сверху велено? Учиться! Учиться!! Учиться!!! Трижды было твердолобикам велено! Читай и срочно дозревай!
Пендюрин ехал быстро.
И на поворотах не сбивал скорость.
После каждого поворота горделиво докладывал:
– И на этом, муси-люси, в масть легли!
Скоро наскучили ему эти доклады, и он хозяйски погладил, потискал её налитые, торжественные колени.
– Мы ж чужаки, – буркнул он. – Давай хоть толком познакомимся.
– Опс! Здрасти-мордасти! Ну ботаник!..[117] Всю ночь лямур-тужур… Знакомились, знакомились, но так и не познакомились? Начинай сначала?
– Я не то стерёг в виду. Расскажи про себя… Хоть мы и живём долго в одной Гнилуше… Видел я тебя, комсомольскую активистушку, лишь с трибуны да на улице где со стороны. А так… В душу не забегал…
– А тебе нужно и в моей душе потоптаться в грязных сапогах?
– Не гони волну… Давай за жизнь полалакаем. Вот после школярии чем ты горела заниматься? И что ты делаешь сейчас?
– Дистанция страшного размера…
Ухаб её шатнул.
Она нечаянно заглянула в зеркальце над Пендюриным и ужаснулась.
– Какой изумизм! Что за причесон? Волосы палками… Воистину, «я упала с самосвала, тормозила головой!» Я, конечно, извиняюсь…