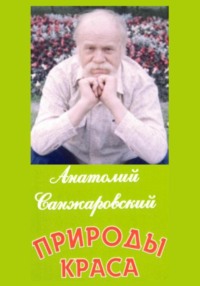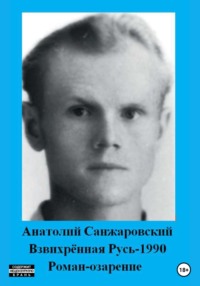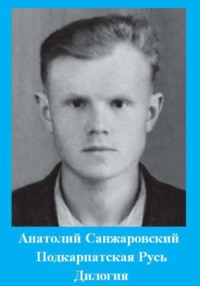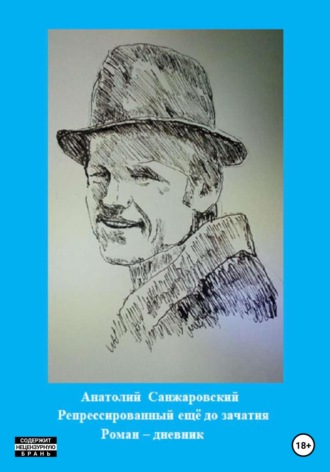 полная версия
полная версияРепрессированный ещё до зачатия
– А писал-то кто? Крахмалёв? Да ну если по большому счёту, он и понятия не имеет о том, что было в беседе! Кадриль простенькая. Я придумывал ему вопросы и сам же отвечал за него. У него ответов не было. Я неделю кружил по всей Брянщине, копил фактуру. Его великие труды состояли лишь в том, что он завизировал присланную ему по почте уже готовую беседу: «С изложенным согласен». Вот и весь его вклад! В конце полосы была строка: «Беседу записал А.Санжаровский». Зачем вы её похерили? Чтоб спокойней оставить меня без гонорара и угодить партбоссу? Так?.. Молчите?.. Да и потом, ему, члену ЦК КПСС! первому секретарю обкома партии! очень ли нужны мои тоскливые восемьдесят четыре копейки?
– Не заговаривайся! Песнь не о копейках. А о рублях!
– Какая разница? У меня и этих копеек нет на хлеб сегодня! Вам ли объяснять… После ТАССа я у вас вольный художник. Еду только на проклятой гонорее![142] Месяц я провалялся в больнице. Мне даже больничный не оплачивается!
– А как ты хотел? Положение о вольных художниках для всех одно. Не оплачивается больничный, зато капает исправно производственный стаж. Можешь бегать в вольных казаках до самой счастливой старости! Все девятьсот лет! Как библейский Адам!
– Да на какие шиши? В следующие два месяца у меня ничего не идёт в журнале.
– Чтобы не прерывался стаж, ответишь авторам на триисьма – трояк в кармане!
– Трояк на месяц! До сблёва много? Воробью-то хоть на пшено хватит? Но я-то не птичка! И вы подкинули номерок. Весь гонорар ахнули в Брянск!
– И что? Как я могу оставить члена ЦК без гонорара!? Тогда я останусь без красного кресла под задом! Перекрутись как-нибудь… Мы тебе компенсируем…
– Что? Когда? Мне сегодня нужны эти копейки на корку хлеба. Се-год-ня!
Он театрально развёл руки.
– Странный ты гусь… Хочешь кучу свободного времени для сочинения своей классики и полные карманы шуршалок.[143] Так не бывает…
– Ну, Толя, – просипел я себе, на нервах вылетая из кабинета Хомута, – никто тебе ничего и никогда не компенсирует, если сам себе не компенсируешь… Учись у курочки. Разгребай да подбирай! Поднажми, если так покупалки тебе нужны!
И обо всей этой дичи я вбег настрочил Крахмалю. Попросил вернуть мне мой гонорар. Чтоб ему проще было расставаться с халявными рублейками, я привёл в пример секретаря ЦК ВЛКСМ Куценко. Один из журналистов написал от её имени статью в «Комсомолке». Гонорар пришёл к Куценко. Она до копейки вернула в редакцию, заявив: «Получать должен подлинный автор статьи, а не тот, чья фамилия стоит под нею».
Брянский член оказался нормальным. Вернул семьдесят четыре тугрика. Десятка уплыла на почтовый прохладный променаж моих горьких юаней[144] до Брянска и обратно.
Февраль-сентябрь 1972.
Белореченск
Чаква под Батумом.
Слева горы в тумане, справа море.
Пальмы…
Ах, Чаква… Ах, Чаква…
Ещё раз ах!..
Я приезжал туда в командировку к академику Ксении Ермолаевне Бахтадзе.
Мы сидели у неё на веранде и пили один из двадцати пяти чаёв, выведенных этой удивительной хрупкой женщиной.
Пили чай. Говорили о чае.
О прочем здесь не говорят.
Среди беседы меня вдруг вогнала в панику, намертво скрутила чёрная революция в животе. Боли – нет спасу.
Я кое-как дожал интервью и бочком, бочком посыпал к автобусной остановке.
В Батуме я сразу к врачам.
Дебелая тетёха с полубудённовскими усищами, столкнув на затылок богатырский белый колпак, плеснула:
– Резить тэбья надо, дорогои…
И почикала указательным и средним пальцами, как ножничками, проведя с низа живота моего до его верха. Вскрыла вроде.
Эта перспектива меня не согрела.
– А что болит-то? – буркнул я.
– Откроэм твои животики и пасмотрим-аба, чито там болит, чёрт эго маму знаэт! И чито болит – отрэзи и кинь к чёртовой бабушке собачкам!
Она лениво махнула рукой на окно, за которым под черешней дремал бомжеватый цуцык в ожидании чего-нибудь вкусненького.
Я и вовсе скис:
«Будут тут ещё разбрасываться мной…»
Я двадцать лет прожил в Грузии и знаю, какие там отличные медики с покупными дипломами.
Нет! Не дамся!
Я к авиакассе.
На стекляшке, отделявшей кассиршу от прочего мира, бумажка:
Правоз цитруси катэгорически заприщион Законом!
– Что бы это значило? – спросил я кассиршу, кивнув на это объявление.
– Это значит, дорогои, ни один мандаринка нэ улэтит на самолёт от Батуми.
– А у меня их десятка три. Гостил у друга детства. Подарил. Из своего сада…
– Хо! На мандаринка нэ пишут, где он вирос-да. На совхоз-плантации или у друга в саду. Эщё не виполнен государственни план, ни один мандаринк нэ убэжит налэво или направу. Кажди мандаринка одэнут в хорош бумаг с гэрбом Грузии и отправят-да куда надо.
– Я жертвую подарок друга. На сегодня один билет!
– На сэгодня ничаво нэту. Толко на послезавра!
Не сидеть же тут ждать. На поезд! Мне бы только добраться до первой русской берёзки….
В вагоне я попросил проводницу, чтоб она сдала меня медикам на первой же русской остановушке, и, корчась от боли, сжался в комок на нижней полке.
– Я скажу начальнику поезда, и он даст телеграмму на ближайшую станцию, чтоб вас встретили медики, – заверила проводница.
Ничего. Перетерплю. Выскочу на поезде за грузинскую границу и у первого же русского столба сойду. Пускай русский скальпель вершит мою долю!
Но Русская Поляна – первая русская остановка – как-то не заинтересовалась мной и прохладно проводила меня дальше.
Да что Русская Поляна?
И Адлер, и сам Сочи, и Туапсе отмахнулись от меня!
Уже десять часов в пути. Вот и Белореченск.
Простояли четырнадцать минут.
Вернулся из буфета с кульком яблок сосед с верхней полки.
– Да вас так и не сняли? – подивился он. – А проводница флиртует на перроне с усатыми грузинами. Без билетов везут в тамбуре гору мандаринов в ящиках до Ростова. Ой, да вон и медсестра прохаживается в скуке под нашим окном.
Парень побежал в тамбур. Слышу его голос:
– Доктор! Доктор! У нас больной. Идите к нам в тринадцатый!
И через минуту в вагон ворвалась крепкая, гренадерская деваха в халате поверх фуфайки и, набатно стуча коваными кирзовыми сапожищами, державно прошагала сразу ко мне и карающе наставила на меня пистолетом толстый ответственный указательный палец:
– Выходим!
– Да знаете… Мне лучше… Доживу до Москвы…
– Так мы выходим? – строго заинтересовалась она.
– Мы – нет, – на вздохе неуверенно пискнул я из своего угла.
– Тогда рисуем художественную расписку.
Я не любил раскидывать свои автографы и, подхватив портфелишко, поплёлся, кривясь от боли, за гордым белым халатом.
Из вагона я выходил при красном флажке, поднятом проводницей. Держала весь поезд.
В районной больничке меня расквартировали на коридорном диване.
Тут же ко мне подсела на круглом табурете с дыркой весёлая старушка и кокетливо кинула мне на грудь тёплое белое облачко мыльной пены.
– Что вы вытворяете? – проявил я слабый интерес к облачку.
– Я не вытворяю… А на работе служу… Я, сынку, буду брыть твою бледную грудинку.
Я торопливо накрыл свою грудь ладонями.
– Не трогайте мою родную шерсть! Не для вас растили.
– Валадимир Артёмович, – поворотилась она к проходившему мимо хирургу Толмачёву, – оне дужэ брыкаються. Ну нипочёмушки не даються брытысь!
– Больной! В чём затор? У вас язва желудка. Этот диагноз поставил вам и хирург из привокзального медпункта Не тяните время. Перед операцией и секунда дорога.
– Доктор! – взмолился я. – Да зачем мне брить грудь? Да мой желудок!.. Никогда не болел! Я и не знал, что он у меня есть. Глотал ржавые кривые гвозди – выскакивали блестящие ровненькие! Что хотите! А желудок я не дам вам раскроить!
Владимир Артёмович сильно нажал мне на живот и резко отнял палец:
– Куда болька побежала?
– Вниз нырнула… Вправо…
Он ещё несколько раз нажимал и отпускал, и я всякий раз разбито бормотал:
– Вниз… Вправо…
– Гм… – принципиально нахмурился Владимир Артёмович. – Будем считать условно, что вы безусловно правы.
И нянечке:
– Брейте низ!
Трудная операция длилась больше часа.
Не в силах сдерживать себя я безбожно стонал от боли.
– Доктор, вы обещали показать, что там у меня…
Из ведра он брезгливо достал отросток. Местами чёрный, местами ярко-красный.
– Вот такой собашник. Пройди ещё час, и он лопнул бы. И тогда никакая операция вас не спасла б.
У меня убрали гнойный аппендицит.
Протяни я с операцией ещё капельку, я б мог повторить кислую судьбу заместителя генерального директора ТАСС, того самого, который вмазал мне выговор. У того зама, у Ошеверова, тоже спёкся аппендицитушка.
Все мы по одним стёжкам бегаем с одними и теми же медальками…
Придя в себя, я стал лёжа писать на коленке Жене Волкову. Тому самому, который был редактором областной газеты в Туле. А теперь рулил отделом в столичном журнале «Турист». Тесен мир!
Женя!
Материал я взял. Но 3 декабря при возвращении в Москву меня сняли с поезда Батуми-Москва в городке Белореченске. Через 20 минут операция. Аппендицит.
Говорят, выпишут дней через семь.
Но это пока говорят. А на самом деле?
Когда вернусь, не знаю.
Как у всякого оказавшегося на операционном столе, у меня есть последнее на сегодня желание: чтобы в марте у меня не было прокола-прочерка в ведомости, давайте вернёмся к повторной публикации зарисовки о Штарасе. Всё же обидно. Я написал четыре страницы, а дали полстранички.
И ещё маленький привесок.
Чтобы и в феврале не выскочил прочерк, выпишите мне ответы на три письма. А я вернусь, отработаю сполна.
С уважением Анатолий.
Адрес:
Краснодарский край, Белореченск, райбольница, палата № 9.
Надо немножко пояснить.
Уйдя из ТАССа, я вплотную засел за свою трилогию «Мёртвым друзья не нужны».
Официально я нигде не числился на службе, и меня могли за тунеядство выслать из Москвы.
Нужна хоть какая фиговая крыша.
И меня взяли в случайно подвернувшийся «Турист» на должность вольного художника. Я получал только за публикации. Тем и жил. Но чтобы не было перерыва в трудовом стаже, я должен был иметь заработок каждый месяц. Я обязан был постоянно ковать монету. Хоть три рубля в месяц.
Публиковаться каждый месяц невозможно.
И когда у меня не было публикации, мне поручали подготовить три ответа на читательские письма. За три ответа я получал три рубля, спасая тем самым непрерывность стажа.
Такие были тогда порядки.
Будто на три рубля человек мог прожить месяц.
Как воробей.
В больнице мне было не до бритья. Отросли рыжие усы. Понравились. Я без колебаний принял их на свой баланс, с тех пор и таскаю. Как орден.
Не знаю, как я и выжил в Белореченске.
Передач мне носить было некому. Я питался лишь тем, что давали в больнице. Да помогли слегка друговы мандарины.
Кто ж не знает, как скудны больничные обеды? В больнице кормёжка человека обходится в сорок, в тюрьме на против – 69 копеек.
Вышел я из лечебки полуживой.
Я настолько ослаб, что не мог донести даже своего портфеля. Я снял с себя ремень, продел под ручку портфеля и волоком тащил его.
Щель в боку затягивалась трудно.
Под Восьмое марта я приплёлся в Москве в свою поликлинику, и хирург весело подмигнул:
– Там у тебя уже почти ничего нет. Помоги перенести подарки нашим дорогушам женщинам в другую комнату.
Простецкая душа, я помог.
И мой шов разъехался. Образовался свищ.
Я боком потрусил в Мосгорздрав.
Дежурный врач, принимавший меня, расхохотался, когда узнал, с чем я припожаловал.
– Как же велики завоевания столичной медицины, что обычный аппендицит не могут за полгода скрутить! – огрызнулся я.
Меня направили в Первую Градскую.
Первая Градская перекинула в шестьдесят восьмую больницу. И только там умница врач так посекла мой свищ, что мои аппендицитные муки скоропостижно скончались.
А я уцелел.
1972 – 1973
Девочка-праздник
От поцелуев от твоихИ вызревают в поле маки.Благое ВуйисичОдиннадцатое января. 1976
Понедельник.
Холодное тоскливое утро.
Ещё темно.
В автобусе, что летел по быковскому полю к самолёту на Орск, я увидел её.
И в автобусе сразу стало светлей, теплей.
«Тольчик! Покуда живой не отпускай эту русалочку из виду!», – приказал я себе и подошёл к ней поближе.
Юна, обворожительна… Девочка-праздник! Спецпосланница с небес! Божья розочка!
Отороченная розовым мехом шубка с расшитыми алыми розами на груди и на карманах чётко облегала талию, за которую я бы не пожалел Нобелевскую премию.
«И талия, и премия будут наши! В комплексе!» – успокоил я себя и как истинный делибаш[145] стал зорко следить, чтоб к ней не прикопался кто из юных поскакунов.
Я всё время бдительно припухал возле и, неотступно подымаясь уже по трапу за ней, больше не мог скрывать своих намерений.
Хоть самолёт и был полупустой, я сел рядом с нею.
На всякий случай глянул в билет – и по билетам наши места были рядом! Эта судьба.
Конечно, мы познакомились.
Познакомились за облаками, на небесах.
Мы летели в страну Камня.[146]
При знакомстве с хорошенькими меня всегда заносит на чересчур умное.
– Знаете, – сказал я, – мы живём в век искр.
– Что вы говорите! – восхитилась она, как и подобает в таких случаях девушкам.
– Да! В век искр… Посмотрите только вокруг…
Она посмотрела. Половина салона была пуста, другая половина дремала, запрокинув головы.
– Не туда смотрите.
Она глянула в иллюминатор. Под нами стлались комки облаков на снежном поле.
– И не туда.
Она вопросительно уставилась на меня.
– Вообще-то и не сюда… Вот сегодня добирался до аэропортовской электрички троллейбусом. Тащился, как… Обгоняет грузовик – из-под колёс искры! Через минуту обгоняет нас трамвай – опять из-под колёс искры. Влетаю на платформу – электричка без меня с места рванула, из-под колёс одни искры…
– Это и все искры?
– На сегодня, может, и все… А может, и не все…
Ой не зря на этот Новый год мне первым встретился мужчина с полным ведром воды. Получи, друже, счастья полных два ведра!
Последний Новый год я не встречал.
Не на что и не с кем…
Ровно в полночь я мылся дома. В тазике. Нагрел полный чайник воды. Изо рта поливал себе…
Встал в девять. В ведре ни водинки. Нечем и умыться. Хвать ведро и побежал к колонке. А навстречу мне шёл мужчина с двумя полными вёдрами воды. Это добрая примета. Первый человек, встреченный в новом году с вёдрами воды, – это к радости. Я его не знал. Но я с поклоном сказал ему:
– Здравствуйте!
Сказал в благодарность за полные вёдра обещаемого счастья.
И сегодня я его получил.
Галинка!
Прошлой весной она с отличием закончила в Оренбурге техникум механизации учёта и выбрала Одессу.
Приезжает. А там кислыми ручками разводят:
– Работа вас ждёт. Но жить вам пока негде. Женское общежитие на капитальном ремонте. Эта канитель почти на год. Поищите что-нибудь в частном секторе.
Галинка избегала пол-Одессы.
На свой угол так и не набежала.
И ещё Одесса запомнилась круглым железнодорожным вокзалом, где без сна провела две ночи.
Назад, в Оренбург, она ехала через Москву.
Раз Москва оказалась на её жизненном пути, она в окошко между пересадками сбегала в своё министерство, выложила одесскую катавасию.
И Москва с извинениями за одесскую юморину дала ей на выбор Балашиху и Ленинград.
– Балашиха – это Подмосковье?
– Оно самое.
– А Ленинград?.. Сам Ленинград?
– Сам.
– Давайте в сам!
Она насобирала отгулов и вот летит в Гай к маме.
Соскучилась.
– Вы один раз уже легкомысленно проскочили мимо этого дара Небес,[147] – подолбил я себя большим пальцем в грудь. – Такого больше не будет.
– Это как мимо?
– А так. Автобусы в Балашиху бегают в ста метрах от моего пятиэтажного вигвама.
В Орске мы трудно расстались.
Она поехала автобусом в Гай, а я поплёлся в гостиницу.
Взял место и дунул по делам командировочным. Но почему-то меня снесло к Галинке под окно. В гайской хомутке[148] узнал адрес и прибежал.
На ураганном ледяном ветру я ждал и час, и два, и три, всё надеялся, что она за чем-нибудь выскочит, и мы невзначай столкнёмся.
До столкновения дело так и не добежало.
А вломиться незваным гостем я постеснялся.
И в то самое время, когда я бдительно нёс караул под её окнами, она была в орской гостинице «Урал». Спросила меня. Сказали, что вышел по делам командировки. Она и сядь в вестибюле ждать.
Моя царская лилия ждала меня в Орске – я ждал её в Гаю под её окнами.
Мы не встретились ни в Орске, ни в Гаю.
А встретились на миг, может быть, в пути во встречных автобусах, развозящих нас по своим кочкам…
От Орска до Гая всего-то километров сорок…
Так началась наша любовь на лету. В космосе.
Спустя десять дней она летела назад в Ленинград.
Через Москву.
Ну разве могли мы не встретиться?
И вечный жених, как представляли меня в дружеских шаржах на редакционных вечеринках, пал.
А потом была переписка.
Мы кидали друг дружке письма если не через день, так каждый день.
А то и на день по два.
27 февраля. Тайный вклад
Вторую неделю у меня в Москве гостит милая моя мамушка.
Все дни гастролируем в мыле как две савраски по магазинам. Список заказов у неё длинный. Что-то надо взять сынам, сношеньке, кривой ноженьке, внучкам… А самое горячее в этом списке – четыре кило муки.
В Нижнедевицке, в Воронеже нельзя купить в магазине муки. Нету! Это-то на Воронежье – русской житнице!
Сегодня мы вернулись из бегов с мукой.
– Сколько в Москве миру! – удивляется мама. – Сколько миру надо накормить. Страшное дело сказать. А вишь – на всех муки хватило. Даже на нашу долю!
Мама сияет. Присела на диван. В восторге посматривает на стены.
– Не нагляжусь… Не нарадуюсь на твою квартирушку. Все угольчики по сотне раз продывылась… Эхэ-хэ-э… Живи, живи, щэ и помирать треба. Вот хлопоты яки придвигаються… Умру… Некому будет ездить. Привета того не будет, когда чужие…
– Что это Вы на чёрные мысли заехали?
– А на светлые уже не выносит. Шесть десятков и семь. Цэ дужэ богато. Дело колыхнулось под откос… Торба с годами уже тяжёлая, сынок… Еле таскаю… Вас три у меня. За Митьку я спокойна. Механик при заводе. Пускай малая бугринка на равнинке. А всё ж одно какой-никакой начальнишко. Ты в самой Москви шо-то по газетам мажешь. А Гриша у нас самый горький невдаха. Компрессорщик… Глотае аммиак… Мне он жалкишь ото всех вас. Как могла денежку собирала. То чесночёк-лучок на базарчике продашь, то яйца… Прошлой осенью одних подсолнуховых семечек на сотню рубляков насобирала на колхозном поле. Убрал колхоз техникой – старушки бегут подчищать… Принесу с поля, Гриша жарит. Пока семьдесят стаканов нажарит, чуб нагреет. Ругался он на меня. Не бегай, не кочуй по тем полям! Да… Чисто не проходишь, ласо[149] не поешь, праздно не проживёшь… Век прожить не рукавом тряхнуть… Деньжатками я трохи окупорилась… Как ехать сюда, колыхнула, положила ему три тыщи на книжку. Под три процента. Случаем приедет он к тебе, не говори ему про книжку. Я всё тайком… Всю пенсию берегла на своей койке под матрасом. А ну шо случись?.. Лучше я сыночку положу… А книжку я сунула в гардеробе в рукав кофты, в которой наказала Грише хоронить меня. Снимет он кофту и наткнётся на книжку. Не пропадёт моя пенсия… И сыночок добром меня воспомнит… Памятью будет ему эта книжка… Не думала рассказувать, да всё и рассказала… Ну ничего. Что было бачили, шо будэ побачим. На веку як на довгой ниве.
На память мама взяла мне жёлтую вельветовую куртку и двуспальное тёплое одеяло.
Брала мама при мне. И одна баба была у нас непрошеным консультантом. Говорила маме:
– Молодожёнам надо брать односпальное. Им и так жарко. А разведённым бери только двуспальное. Поодиночке трудно согреться.
А мама ответила, кивнув на меня:
– Он ещё неженатый, а возьму я всё равно двуспальное. Надёжней. Господи, благослови…
Консультантша возразила:
– Молодой. И так согреется… Что он у тебя, какой великокуйский фельдмаршал?
Мама улыбнулась:
– Он у нас выще твоего начальника.
На маме был старенький платок. Я купил ей тёплый нарядный платок. Мама поблагодарила и сказала:
– Твой платок будет у меня выходным. В астроном там сходить, в церкву, на источник, просто на люди куда… А старенький будет со мной патешествовать во всякий след.
Судорога
Скрипнул диван, на котором спала мама, и я проснулся. Было часа три.
– Ма, Вы не спите?
– Нет.
– А что такое?
– Обычно я сплю як вбита. А тут… Судорога ноги сводит… Пальцы подымаются, жилы по-под коленками понадувались, сделались толщиной как палка.
– И как Вы обходитесь?
– Погладишь рукой… Покряхтишь, покряхтишь и всё обхождение.
– У врачей были?
– А шо знають те врачи? Не ходила я к ним.
Хлеб
Пластинку заплесневелого хлеба я бросил в мусорное ведро.
Мама тут же на нервах выхватила хлеб из ведра:
– Ты шо бросаешь хлеб в поганое ведро? Мы ни одной крошки не стоим, а хлеб… Мы ничто. Мы из земли пришли и в землю уйдём.
– Почему мы из земли пришли? По-моему, Вы меня родили.
– Ну не знаю… Кажуть так… А хлеб… Я лучше отнесу птичкам.
– Так и я не хотел выбрасывать его на помойку. Выносил бы вёдро и хлеб бросил бы в ящик для пищевых отходов. Понаставили на каждом лестничном марше. Это вумный дядя Лёня Брежнёв взялся задушить нас изобилием. Нечем кормить скот, так он решил поднять животноводство отходами с голодного московского стола.
Мама завернула хлеб в газету и пошла на улицу.
Лавра
Чтобы не проспать сегодня, я оставил вчера включённым репродуктор на стене. Под бой кремлёвских курантов мы с мамой и вскочили.
Быстренько я напёк блинцов, вскипятил пакет молока.
– Ну, мам, садитесь. Перед дальней дорожкой надо прочно подкрепиться.
– Не, сынок. Я не буду…
– Не станете есть – не поедем в Лавру.
– Шо хошь говори, а йисты я не буду.
– Это что, забастовка?
– Яка тут бастовка? Вранци на службу идуть не едят.
– Вчера мы были на службе в Елоховской церкви. Утром Вы ели…
– Так то учора. Службу правили вечером…
Ел я свои блинцы один.
Взяли мы с собой в газету колбасы, хлеба и в путь.
Электричка.
Загорск.
Чудный день. Солнце яркое слепит.
– И где Ваши девятнадцать мороза с метелью? – подначиваю я.
– Радиво сбрехало, сбрехала и я…
А день празднично разгорался.
Идём по городу. Звонят в колокола. Настойчивый, неброский, мягкий звон звал к себе. Отовсюду была видна многолуковая, блестящая Троице-Сергиева Лавра. Всюду стоял звон, и мы в радости шли к нему.
Божий рай на земле…
– О-о сынок!.. Это будет память до самой смерти, – восхищённо прошептала мама.
В Лавре народу было невпроход.
Вот пробирается вперёд молодая тетёха, поталкивая перед собой мальчишку лет пяти. Она говорит:
– Пропустите. Не видите, я с ребёнком?
На неё сердито глянула старуха и прошептала:
– Ну и веди его в детсад.
– Мы причащаться пришли, – отвечает тетёха и пытается пройти вперёд.
– Куда прёшь? – зло шепчет старуха.
– В Ленинград.
– Я сейчас как долбану, так ты перескочишь Ленинград и окажешься на Шпицбергене.
– Дурь свою оставьте при себе. Она ж вам необходима для поддержания своей обычной формы. Таким злым никогда ничего не достанется.
Тетёха с минуту думает и благоразумно обходит стороной сердитую старуху.
Началась служба.
Я снова услышал тот неземной голос, который стоял у меня в сердце с той самой поры, как я лет пять назад был здесь при возвращении из ярославской командировки. Я снова увидел того мужчину с тем неземным голосом. Как он выводил это «Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас!» Наверное, под это пение радостно умереть.
Евангелие читал сам патриарх Московский и всея Руси Пимен.
По временам я взглядывал на маму. Она с тихим усердием молилась, в глазах её дрожали слезинки.
Служба кончилась и мама неохотно, медленно пошла на улицу, говоря:
– Хорошо службу правили. Я б голодный день тут стояла…
Ярко светило солнце. Боже, как много солнца!