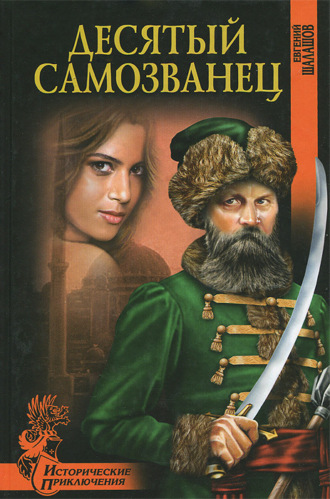
Полная версия
Десятый самозванец
– Чего я там забыл, в приказе-то?
– А куда же, тогда?
– Сейчас, домой пойду, а потом – куда-нибудь из Москвы, подале. Только, в дорогу нужно провианта прикупить. Сухариков там, сала. Ну да епанчу еще новую, шапку да рукавицы. Ну, может, по мелочи чего. Ты-то со мной, али, как?
Какое-то время Костка шагал молча, не отвечая. Потом, вздохнул:
– Да ну, куда же мне ехать-то? Да и зачем? Тебе-то, годочков-то сколько? Двадцать седьмой пошел? Ну, а мне уж на Николу, сорок третий пойдет… Батька у меня, старый да хворый. Не сегодня-завтра, помирать будет. Перед смертью, глядишь, простит меня, да хозяйство-то свое и оставит…
– Во-на! – с пониманием протянул Тимоха. – Хозяйство батькино держит… Понятно. А не боишься, что прихвостни Федотовы тебя разыскивать будут?
– Ну, чему быть, тому не миновать, – философски ответил Конюхов. – Да и, с меня то взятки гладки. Ну, вызвал я их и что? Все же видели, как я в кабак, за водкой заходил. Так ить, за водкой-то ходить не возбраняется. Так что – знать я ничего не знаю, ведать не ведаю.
– На худой конец, – досказал за него Тимоха. – Скажешь им правду. Убил мол, атамана, да есаула евонного Тимка Акундинов, с него и спрашивайте, а я только их на улицу вызвал.
– Ну, может и так, – не стал отпираться Костка. – Ну, а коли зарежут меня шарлыганы-то энти, то, стало быть, судьба такая! Один хрен – когда-нибудь да помру. Только, если я с тобой вместе пойду, так скорее помру!
– Точно, – поддакнул Акундинов и, заметив около своих ворот возок, принадлежавший боярину Патрикееву, ускорил шаг.
* * *…Татьяна, как вкопанная, стояла посередине разоренной избы, даже не сняв с плеч дорогого шушуна из заморского сукна (аглицкого!). На лавке сидел Сергунька, деловито ковыряя в носу и болтая ногами. Мальчонка не понимал – что тут случилось, поэтому, не мог решить – начинать реветь или, погодить?
Завидя вошедшего мужа, Танька сделала к нему шаг и, глядя прямо в глаза, спросила:
– Тимофей, а что тут такое? Что с избой-то сталось?
– А что, такое? – обвел взглядом пустую избу Акундинов. – Стены, лавки да стол – на месте. Вон, – кивнул на угол – даже соломы чуток. Спать да есть – есть на чем. Ну, а че тебе еще-то надо?
– А где же, добро-то все? – скривила рот Танька, собираясь зарыдать.
– Так сама же видишь, нету здесь ничего. Чего, дура, зазря и спрашиваешь? – недоуменно ответствовал Тимофей, подсаживаясь к сыну: – Ну-ка, Сергунька, скажи, чем тебя в гостях-то кормили?
– Пирогами с яблоками, – ответил сын, прильнув к руке отца. – Да кашей с изюмом, да орешками калеными. А лучше всего – петушки сахарные, что бабушка Настя дала!
– Во, видишь, как здорово-то! – восхитился Тимоха. – И пирогов наелись и каши налопались, а робятенок еще и петушков поел. Так чего жалуешься-то? Чего тебе еще-то надо? Жива, здорова.
– Где добро-то все? Где – постели, сундуки где? – в голос зарыдала Танька. – Кровать, где? Куда, добро подевал, сволочь?!
– Константин! – позвал Тимофей друга, который, от греха подальше, стоял в сенях. – Отведи Сергуньку к Ваньке Пескову…
– Не хочу! – закапризничал было сын, но Костка, умевший управляться с детишками, сунул ему в руку невесть откуда взявшийся орех и мальчишка умолк.
– На хрена ему к Ваньке-то идти?! – заорала жена, багровея на глазах, хватая мальчишку за плечи и прижимая его к себе. – Никуда он не пойдет!
Тимофей, ни слова не говоря, оторвал парнишку от жены и повторил:
– Отведи мальчонку к дядьке Ване Пескову, пущай пока, с детишками евонными поиграет. Нечего ему тут делать…
– Пусть дома сидит! – заорала жена, отпихивая мужа от мальчишки. – Неча, по чужим-то дворам бродить. Пущай сидит, да знает, каков батька-то у него…
Тимофей, не говоря ни слова, ударил жену в живот, отчего та согнулась и села на пол. Сережка заверещал и, рванулся, было, к матери, но был остановлен отцом.
– Костка, я кому сказал? – повторил Тимофей негромко, но так, что испуганный Конюхов, схватил ребенка в охапку и выскочил во двор как птичка.
Татьяна, сидевшая на полу, рыдала навзрыд. Тимоха, подойдя к жене, вдруг сказал:
– Не создавай, супруга моя строгая, кумира златого,Бо, будешь ты – убогая…Все злато – тлен, а жемчуга – песок,В гроб не возьмешь ты дорогой платок.Лишь саваном ты перси обернешь,В чем ты родилась – в том туда пойдешь!– Гнида ты, – с ненавистью в голосе сказала жена. – Такая гнида, что гнидистей нет!
– Точно, – не стал спорить Тимофей. – Ты в гнидах-то, лучше меня разбираешься…
– А я ведь, как дура, домой бегу. Думаю – как там мой муженек, драгоценный! У, скотина…
– И, на хрена же ты дура, домой-то бежала? Да еще и в возке боярском… Сидела бы себе у крестного, да пироги трескала.
– А то, что к крестному моему, Людка Шпилькиха пришла. Хорошо еще, что я ее во дворе перехватила, а то – совсем бы уж стыд и позор. Шпилькина-то и говорит: – «Взял мол, Тимошка-то, ожерелье жемчужное, что от прабабки осталось, да и не отдал его. Васька, мол, челобитную написал, что бы Тимошку на правеж привести». Она и грит: – «Отдавай мол, ожерелье-то, у тебя оно!». А я – и делов-то не знаю! Говорю: – «Ты что, баба, спятила, что ли. А она: – «Сказал Тимоха, что ты ожерелье-то убрала, но люди-то видели, как он ожерелье продал. С утра с самого, стрельцы твоего мужика в приказ Разбойный и повели. Отдай жемчуга, так ему ничего и не будет. А не отдадите, дак будет Тимохе каторга, да вырывание ноздрей, как татю!».
– А ты чего? – с интересом спросил супруг.
– А что я? Сказала, что никакого ожерелья не видела и, знать ничего не знаю! Ну, я, Сергуньку в охапку, да возок у крестного взяла. Вот, прибежала, а тут – одни стены остались… Куда добро-то девал?
– Зря бежала, – спокойно сказал Тимофей. – Спешить-то уже некуда. А добро… Может, тати ночные вынесли?
– Тати… – хмыкнула жена. – Дождешься, тебя самого, в Разбойный приказ поволокут, аки татя.
– Ходил я уже в Приказ Разбойный, да объяснил все.
– Так что, все? – с нажимом переспросила жена. – Что ты объяснил-то, ирод? Тимофей, да ты же изоврался весь! Мне – одно соврал, Людке – другое…
– А в Приказе Разбойном, четвертое, – хохотнул Тимофей. – Ну, а зачем тебе правду-то знать, дура? Ну, продал я все. И ожерелье это сра*е продал и барахло все продал. А дальше-то что? Добро, так его завсегда купить можно!
– Ну, а деньги-то где? – встала жена с пола. – Мне, приданное-то, дедушка покойный для чего дал? Что бы ты, босяк, его разбазаривал? Это же, сколько же денег-то? Да куда и потратил-то столько? На девок, что ли? Так за эти деньги, всех девок на Москве скупить можно…
– Да не, не на девок, – опять хохотнул Тимоха. – Чего на девок-то тратиться, коли жена за бесплатно даст? Ну, жена не даст, так другая дура. Та же, Людмилка Шпилькина, например.
– Сволочь, ты, – стала рыдать жена. – Значит, ты не только с девками, но и с мужними бабами якшаешься, кобель…
– Хочешь услышать, куда добро-то твое делось? – прошелся по пустой комнате Тимофей. – В кости я проигрался. Вот, пришлось все добро продавать…
– Да сколько ж ты проиграл-то?! – обалдела жена.
– Двести рублев, – как можно небрежно ответил Тимофей.
– Да ты, кобель драный, знаешь, что одна кровать пятьдесят рублей стоит? А перины пуховые? А жуковинья мои, да бусы коралловые? Да за кику мою, с жемчугами тыщу ефимков плочено!
– Ну, чего уж теперь… – хохотнул он, сдерживая накатывающую злость – на себя, Федота с Цыганом, на «ночного купца», что взял добро за бесценок.
Хохоток супруга и его спокойный голосок взбесил Татьяну. Уж, лучше бы Тимофей на нее наорал или, стукнул бы снова… Поэтому, она взорвалась:
– Доб-р-ро мое где? – зашипела она сквозь зубы страшным, змеиным шепотом, хватая мужа за грудки.
Тимофей, с удовольствием ударил жену в лицо. Знал, что это, не так больно, как в живот, зато обиднее. Да и красота пострадает… Татьяна опять упала на пол, но не угомонилась. Сплюнув кровь из разбитого рта, она со злобой уставилась на Тимоху:
– Ты, как был подзаборником, так и остался. Никто ведь другой, окромя тебя, на такую б… как я и не польстился бы. А тебе, лишь бы приданное, да дом. Приживал!
– Это точно, – согласился Тимофей, наклоняясь к жене. – А знаешь, сучка, каково это, приживалом то быть? Когда в нос постоянно тычут, что батька твой, калека, что в дом владыки из милости взят. А я, между, прочим, поумней других-прочих дворян, коих ты в Вологде-то ублажала.
– Ишь ты, какой боярин выискался… – нехорошо ухмыльнулась Танька.
– А может, даже и не боярин, а кто-то повыше, – сказал вдруг Тимоха. А чего он ей это сказал, даже и сам не понял…
– Князь – мордой в грязь, – захохотала супруга, а потом, противным голоском загундела. – Тебя, князюшка, (выделила она) скоро в колодки закуют, да в Тулу отправят, на государевы заводы. Я, самолично, к крестному пойду, да все ему и обскажу. Как ты ожерелье Васькино продал, да добро все из дому продуванил. Все, все расскажу! А, надо будет, так я для этого и подол задеру перед кем надо и ноги раздвину. Уж, я передком-то расстараюсь…
– Подол, говоришь, задерешь? – с интересом переспросил Тимофей, подходя к жене. – А ну-ка, сучка, задери-ка его прямо сейчас, для меня…
– Да пошел ты на х…, кобель, – плюнула жена ему прямо в лицо.
Акундинов, улыбнулся, вытер лицо и коротко, без размаха, ударил жену кулаком в лоб. Потом, навалился на нее и стал задирать подол, раздвигая ноги. Танька, неистово сопротивлялась – хватала за руки, плевалась и кусалась, чем еще больше раззадоривала насильника-мужа. Правда, пришлось съездить ей еще пару раз, что бы угомонилась и, лежала спокойно…
– Ну вот, – слез с жены Тимоха, удовлетворенно отдуваясь и затягивая пояс на штанах. – Теперя, курва, можешь и к крестному своему идти, жаловаться.
– Сволочь ты, – с ненавистью глядя на мужа, сказала Танька. – Вот теперь-то, точно пойду…
«А ведь и пойдет, – мелькнуло в голове у Тимофея. – Пойдет, да и обскажет! Тогда особо-то и не набегаешь!»
– Пойдешь, значит? – поинтересовался он. – А сын, как же? Мальчишка-то без отца вырастет…
– А на хрен ему такой отец? – злобно усмехнулась Танька. – Таких отцов в нужнике топить надо. А лучше, им сразу тряхомудию отрезать, что бы ублюдков не плодили! Проживем, как-нибудь и без тебя. Крестный пропасть не даст. А ты, гадюка, будешь на каторге, в железе, камни таскать. А после, как выйдешь-то с нее, никуда будешь не годен, а только на паперти сидеть, да милостыню просить! Как батька твой, – добавила она мстительно….
– Не ври, – стал злиться Тимоха. – Батька мой, милостыни никогда не просил. Он, скорее бы с голоду сдох, но на паперть бы не сел…
– А мне – похрен! Хоть ты, хоть батька твой, калека безногий. Все вы нищеброды, да приживалы, – не унималась Танька, поняв, что ударила по самому больному…
– Ну ладно, – сказал Акундинов, внезапно успокоившись. – Молиться-то будешь?
– Молиться? – не поняла жена, от удивления перестав ругаться. – Чего я молиться-то должна? До обедни-то, чай, далеко…
– Ну, как хочешь, – вздохнул Тимофей, подходя к ней ближе. – Мое дело – предложить… А то – помолилась бы, душу облегчила…
– Ты чё, это? – усмехнулась жена разбитыми губами. – Думаешь, коли помолюсь, так и прощу? Как же… Кукиш тебе!
– Да нет, – спокойно и, как-то буднично сказал Тимофей. – Убивать я тебя буду…
– Да ты, чё удумал-то? – испугалась Татьяна. – Ты чего, делаешь-то? Тимофей, ты что, сполоумел, что ли?
Жена, попыталась вскочить, но Тимофей, ударом ноги опрокинул ее на спину, а потом, схватив за горло, принялся душить. Танька сопротивлялась с невероятной силой. Ей удалось подтянуть к себе ноги и сильным толчком отпихнуть незадачливого душителя в сторону. Вырвавшись, баба метнулась к двери. И, может быть, ей бы удалось убежать, но в дверях она столкнулась с Коской, входившим в избу. Тимоха же, вскочив на ноги, ухватил жену за волосы, намотал их на руку и ударил Таньку головой об печку…
– Тимоша, да ты что? – опешил Костка. – Ты что делаешь-то?
– Заткнись… – рыкнул Тимофей на друга и приложил бабу еще несколько раз… Потом, бросив валявшуюся без чувств жену, устало упал на лавку…
– Тимоша, ты че делаешь-то? – повторил перепуганный Конюхов.
Тимофей, отдышавшись и дождавшись, пока утихнет дрожь в руках, выговорил:
– Да вот, удавить ее хотел, стерву, да не вышло, – ухмыльнулся он страшной улыбочкой…. – Не судьба мне душителем-то быть. Опять, вишь, не получилось…
Поднявшись, внимательно осмотрел свой кафтан (нет ли, крови?), накинул епанчу и вытащил из-под лавки заранее приготовленную дорожную сумку и саблю.
– Лошади где?
– Во дворе стоят, овес жуют. Где ж им быть-то? – едва сумел выговорить Костка. – Только, мне их еще вчера надо было возвертать… Батька мне башку оторвет…
– Ну, а теперь-то уж и вовсе не возвернешь, – сказал Тимофей к несказанному ужасу друга. – Одну-то кобылку, я уж точно возьму. Ну, а вторую-то – надо ли возвертать? Ты как? Со мной поедешь? Тут – останешься? Токмо, если останешься, то прямая тебе дорога – в застенок да на дыбу. Сам знаешь, что все будут думать, что ты, соучастник мой…
– Может, живая еще? – робко спросил Костка, косясь на тело Татьяны, распростертое на полу. Подошел, было, к бабе, протянул руку, но испугался и отскочил к двери.
– Ну, коли живая, то щас добью, – хмуро пообещал Тимоха, выгребая из печки горящие угли и рассыпая их на соломе. – Ну, так чего надумал-то? Едешь, али – нет? Не боись, тебя убивать не буду.
Конюхов, постоял немножко, а потом резко снял с себя шапку и стукнул ею об пол:
– Эх, все одно погибать! Без тебя – на дубу, с тобой – на плаху! Вместе поедем…
* * *– Тимоша, силов моих больше нет, – причитал Костка, мотаясь в седле из стороны в сторону. – Осьмой день без горячего. Не май ведь, месяц, во дворе. Холодно, на одних-то сухарях да на воде. В бане уж, почитай, две седмицы не были. Того и гляди – бельишко сопреет, да вши заведутся. Задницу до костей протер. Давай, хоть на каком нить постоялом дворе денек-другой побудем. А, Тимоша?
Тимофей, никак не откликнулся на мольбу приятеля, а молча ехал вперед. Конюхов, почитай, голосит уже вторую неделю… Но все-таки, отдохнуть бы не помешало. Если, не ради самих, то хоть ради лошадей. Скотина, она, чай, не человек. Ей отдых нужен. А за последние дни они питались кое-как, в придорожных трактирах да грязных харчевнях, спали урывками, прямо на скамейках. А чего, спрашивается, было так спешить?
– Ладно, – смилостивился Акундинов. – Еще немножко проедем, да избенку какую-нибудь поищем. За денежку-то любой смерд нас и в бане выпарит, а за копеечку-то – накормит и напоит.
Тут, словно бы по заказу, чуть в стороне от дороги появилась и деревушка. Так себе – на два двора, не больше. Дым шел только из одной избы, а второй двор был нежилой. «Оно и к лучшему, – подумал Тимофей, направляя коня к жилью. – Меньше увидят, меньше услышат!»
– Слушай, а чего они, на ночь, глядя печь, топят? – удивленно спросил Костка, привыкший к тому, что в Москве печи топили только по утрам.
– А хрен его знает, – пожал плечами Тимоха. – Может, выстыло уже, а может, – погреться хотят. А может, хлеб решили напечь с вечера…
– Им что, дров не жалко? – недоумевал Конюхов.
– А чего их жалеть-то? – удивился Тимофей. – Лес-то, вон он, рядом. Деньги за дрова платить не надо.
– У, лес… – сообразил Коса. – Тогда понятно. А я, как вспомню, как батька матку ругал, что дрова зазря жжет, то все и кажется, что сажень дров полкопейки стоит. Хорошо деревенским… Сбегал в лесок, дровец нарубил, да сиди себе, грейся на печке. Им-то, в Приказы ходить не надо…
Оба дома были окружены изгородью. Не из жердей, сбитых в пролеты и не из кольев. Ограда была плетеная, как корзинка.
– О, изгородь-то, как в Малороссии, – определил бывалый Конюхов. – Значит, точно, в Польшу едем!
Тимофей, спрыгнув на землю, подошел к крыльцу. Хотя изгородь вокруг дома и была сделана по южному образцу, но сам дом был русским, бревенчатым, а не из глины, замешанной пополам с навозом или кукурузной соломой. Изба – пятистенок, в котором «зимняя» половина отделена от «летней» светелки. Вон – большой сарай для скота. А там, слева, конюшня. Не похоже, что бедняки …
– Хозяева! – громко позвал он, колотя в дверь рукояткой нагайки. – Пустите на постой!
За дверью раздалось скрежетание и чей-то низкий голос – не понять, мужской или бабий, ответил:
– Пшел ты, к медведю на ухо! Ходят тут всякие, нищеброды. В монастырь валяй, там изба есть, для бродяг. А тут вам, дармоедам, не подают…
– Мы заплатим! – не смущаясь неласкового приема, крикнул Тимоха.
За дверью установилась тишина, а потом все тот же непонятный голос спросил:
– А чё надо-то?
– Да ты не бойся, – покровительственно сказал Акундинов и принялся перечислять: – Баня и еда для нас, конюшня с овсом для коней. Ну, хорошо бы еще щец с мясом, пироги с капустой да постели. Ну, дак чего забоялся-то?
Дверь медленно отворилась. На пороге стоял мужик, хоть и невысокого роста, но поперек себя шире. За плечом угадывалась ладно скроенная бабенка.
– Да я и не боюсь, – бабьим голосом сказал мужик, поигрывая охотничьим рожном… – Так, говоришь, денежки заплатишь?
Тимоха, оценив фигуру хозяина, наглеть не стал:
– Сколько возьмешь за три дня?
– Три копейки с денгой, – назвал цену своего гостеприимства хозяин.
– Одна, – принялся торговаться Тимоха.
– Три, – слегка уступил мужик.
– Две, – повысил Акундинов, хотя торговался из чистого озорства.
– Три, – еще немного уступил хозяин и пригрозил. – Больше не уступлю! На три дня, да на двоих… Да кони еще… Одного овса на них полкопейки уйдет… А сена еще…
– Ладно, – согласился Тимоха. – Но баба нам исподнее постирает.
– Добро, – согласился хозяин, протягивая широкую, как лопата, ладонь.
Тимофей, отзываясь на рукопожатие, чуть не завыл – хватка у мужика была железной! И хватка, и фигура никак не вязались с низким визгливым голосом и безволосым, одутловатым и, опять-таки, каким-то … бабьим лицом.
– Маланья, баню топи, – приказал хозяин жене, а сам обернулся к гостям: – Пойдем, коней поставим, а потом – перекусим, что бы в баньку-то на голодное брюхо не ходить. Воды там довольно, каменка – теплая еще. Только дровец подкинуть, так мигом дойдет.
Скоро все трое уже сидели за столом и уминали черствые пироги с грибами, запивая их квасом. Хозяин, которого звали Прокопом, позевывая, говорил гостям:
– Ничо, щас банька приспеет, напаритесь. Пока паритесь – баба ужин сготовит. Щец, правда, нет, выхлебали, но гречка с мясом есть. Ну, грибочки-огурчики всякие.
– Водку будешь пить? – неожиданно спросил Тимофей, вытаскивая из сумки флягу, чем поверг в изумление Коску, который уже несколько дней клянчил хотя бы чарочку.
– А чего бы не выпить? – отозвался хозяин, пытаясь говорить степенно. Но голос-предатель, то и дело срывался на визг, поэтому получалось смешно. То ли – баба переодетая, то ли, подросток, пытающийся говорить «под мужика»: – Ежели мало будет, так я свою достану. Дешевле некуда – две копейки ведро.
– С табаком, небось? – деловито поинтересовался Костка.
– Ну, еще чего, – слегка обиделся хозяин. – У меня ведь, не как в кабаке государевом. Для себя выкуриваю. Ну, так, соседям да путникам иногда продаю…
– Ну ладно, – примирительно сказал Тимофей. – Чарки доставай. Выпьем по немножко, да в баню пойдем. Вначале – нашего, казенного отведаем, а потом посмотрим.
Хозяин вытащил не деревянные кубки или, грубые глиняные кружки, а медные чарки, украшенные чеканкой. Из таких и пить, не в пример приятней. Выпив, Тимофей стал подниматься:
– Перед баней много пить не след, – сказал он, не обращая внимания на умоляющие Коскины глазенки…
По дороге мужики разминулись с Маланьей, которая, зыркнула на них из-под платка, ничего не сказала, а только уступила дорогу. Тимофей углядел, что хозяйка, несмотря на платок, закрывающий почти все лицо, была диво, как хороша.
Напарившись, да отпившись квасом, который им вместе с чистым бельем принес хозяин, друзья пошли ужинать. Гречка, сваренная с мелкими кусочками мяса, лучком и, щедро сдобренная маслом, была чистое диво! Были еще и печеные в золе яйца, пареная репа и речная рыбешка. Для соленых грибов не пожалели сметаны. Хозяин, хоть и брал недешево, но кормил хорошо!
Мужики и не заметила, как «уговорили» под кашицу всю гостевую баклагу, а хозяин вытащил полуведерную корчагу, не забыв, однако, загодя взять положенную денежку.
– Эх, благодать, – благодушно заявил Тимоха, развязывая пояс. – Хорошо тут у тебя. Теперь бы, да до полного счастья – бабу бы где-нить завалить. Только, – вздохнул он, выбирая огурчик. – Где же ее взять-то?
– Мою возьми, – сказал хозяин, кивая на возившуюся у печки жену: – Ежели, на раз поиметь – денгу плати. Ну, а на всю ночь – копейку.
Тимоха чуть огурцом не подавился. Костка, в отличие от друга, успевший повидать и не такое, воспользовавшись замешательством, налил всем по чарочке, выпил, не дожидаясь остальных, а потом налил себе вновь… Акундинов, хлопая глазами, даже и забыл, что Коску-то поить не следует, схватил свою чарку и опрокинул ее содержимое в глотку, не прикасаясь к губам…
– Ну, так чего? – поинтересовался хозяин, забрасывая в рот горсть квашеной капусты. – Бабу берешь, али, нет?
– Подожди, дай подумать, – закашлялся Акундинов.
– А чё тут думать-то? – удивился хозяин. – Баба справная. Давай, решай быстрее, а не то ей еще скотину кормить…
… Утро Акундинов встретил с жуткой головной болью. Попытавшись приподнять башку, он тут же со стоном ее уронил. С трудом, повернувшись на бок, уткнулся носом в незнакомую спросонок женщину…
Мелания, спала тихонечко, посапывая, словно младенец и положив под щеку обе ладошки. Почувствовав, что мужчина проснулся, она улыбнулась и открыла глаза. Протянула руку и погладила его по щеке.
– Хороший ты мой, – прошептала она на ухо, прижимаясь покрепче.
«Хороший? – тяжело заворочал мозгами Тимоха. – Это, чем же» То, что было вчера, не помнил напрочь. Было ли у него чего с бабой, не было ли? Немного поерзав и, ощупав себя, понял, что лежит на постели прямо в штанах и рубахе. Да уж, в таком состоянии, что был вчера, он не то, что бабу не мог бы «поиметь», а его самого бы «поимели»… А женщина, между тем, мечтательно проговорила:
– А какие ты мне вирши вчера читал складные! Век бы слушала. Сказал, что специально для меня сочинил.
«Вирши? – с трудом стал припоминать Тимофей. – Вирши, кажется, были. Только, какие?»
– Как ты вчера сказал: – «Приголубь меня, баба-кошка, ты меня чуть-чуть приголубь, мне бы ласки, совсем немножко, мне бы счастья, какого-нибудь», – с чувством прочитала баба. – А я бы тебя вчера и рада приголубить, дак уж и голубить-то нечего было… – со смехом добавила она.
– Ну, так уж вышло… – буркнул Тимофей, мечтая умереть от стыда и головной боли. – Бывает…
– Тяжко? – с состраданием посмотрела Маланья ему в глаза.
– Угу…
– Я, щас, – соскочила баба с постели и метнулась куда-то в угол. Вернувшись, поднесла к губам парня кринку. – Ну-ко, испей.
Акундинов жадно приник к кринке, где оказалась слабенькая бражка. Самое то, что бы «поправить» голову! С помощью Маланьи, придерживающей емкость за донышко, а самого его за голову, выпил «лекарство» и облегченно отвалился на постель. Вроде бы, все осколки, на которые развалилась голова, сошлись воедино…
– Ты, поспи пока, – посоветовала сердобольная баба. – А я – стряпать пойду, да корову доить. Потом приду.
Акундинов провалился в сон, а когда проснулся, то снова узрел перед собой Маланью.
– Ух, здоров же ты, спать, – засмеялась женщина, – Мой-то, с самого с ранья проснулся, коней напоил. Ему-то, хошь чарку выпить, хошь – ведро, все едино. Ты же вчера два ведра купил.
– И, что? – с испугом пробормотал Тимоха. – Неужели, оба ведра?
– Ну, одно-то, почти все вылакали. Куда и влезло-то столько? Прокоп-то, он, хоть сам зелено вино выкуривает, но пить не пьет. Это, грит, денежки стоит. Вот, ежели кто, угостит…
– А, где… – начал, было, Тимофей, вспоминая, как зовут напарника.
– Да все там же, – успокоила женщина. – Он как проснулся, то вместе с мужиком моим опять пить засел. А за меня ты вчера целых два алтына дал. Сказал – мне, мол, на три дня подруга нужна. И за постой на три дня вперед заплатил, да светелку у Прокопа вытребовал. Вот еще, кисет с деньгами обронил, возьми. А сумка твоя, да сабля – все тут лежит. Шуба, правда, в избе осталась.
Акундинов с тоской потрогал изрядно «похудевший» кошель. «Если так пойдет, то скоро коней продавать придется» – грустно подумал он. Конечно, была у него еще в седле «схоронка» с ефимками, но все-таки, жалко… Потом, твердо решив, что будет теперь, до самой границы перебиваться с хлеба на квас, а Коску – пьяницу, ради сбережения копеечек, оставит где-нибудь на постоялом дворе, повеселел.











