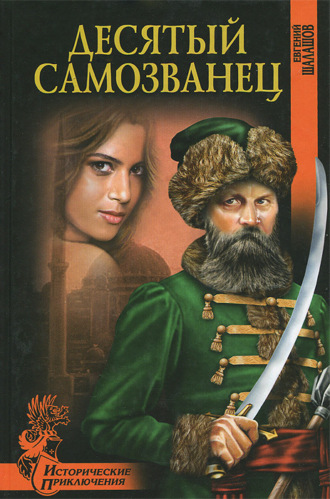
Полная версия
Десятый самозванец
– Так значит, не было стрельцов-то? – усмехнулся Акундинов, одной рукой придерживая саблю, а второй – обшаривая одежду у мужика.
– Прости…
– Прощу, – пообещал Тимофей, вытаскивая из живота саблю и вытирая лезвие о нижнюю рубаху раненого. – Если скажешь, где деньги схоронил…
– Деньги… – начал раненый, но завершить фразу не успел… Кровь, шедшая тоненькой струйкой изо рта вздулась вдруг пузырем, а потом – пузырь опал и, кровь перестала течь. Зрачки Федота, расширились и превратились в мутное стекло, в котором отразились первые вечерние звезды…
– От, ведь, сволочь, какая! – выругался Тимофей, пнув безжизненное тело ногой. – И, помереть-то, как следует не сумел!
– Ой, Тимоша, да что же ты наделал-то? – послышался голос Коски, появившегося из-за угла с двумя кожаными флягами в руках. – Ох, ты, господи, да что же теперь будет-то?
– Заткни хлебало да не причитай, – оборвал его Акундинов, обшаривая тело цыгана и снимая с того широкий кожаный пояс, в котором что-то позвякивало. Потом, снял с атамана кожаную кису.
– Тимоша, да как же ты так? – продолжал скулить Костка, прижав к себе фляги, будто младенцев.
– А так… – хмуро обронил тот, ссыпая в собственный кошель добычу, которой, было, негусто – штуки три ефимка, да рубля на два чешуек. Потом, немного подумав, развязал свой кафтан и повязал вокруг рубахи пояс цыгана – очень уж удобный и, незаметный!
– Скажи-ка, целовальник-то там один, али – нет? – спросил Акундинов. – Много народу-то в кабаке?
– Порядочно, – ответил приятель. – А, на кой тебе?
– Да теперь уж и незачем. Хотел, было, с кабатчиком-подлецом еще поквитаться, но – не судьба. Пусть живет, паскуда! – выдохнул Тимофей, подходя к побродяжке, которая, так и продолжала спать. – Костка, бабу хочешь?
– Да ты, что Тимоша, какая баба? – остолбенел тот. – Бежать нам нужно! А, если зайдет кто?
– Эт-то, точно, – с сожалением согласился Тимофей, отворачиваясь от женщины. Но та, на свою беду, решила проснуться.
– Парни, а чё тут деется-то? – приподняла пьянчужка голову и обвела двор мутным взглядом. Увидев тела, заорала хриплым с перепоя голосом: – Ой, лихоньки!
– Ах ты, курва, старая, – мгновенно повернулся Акундинов к бабе, хватая ее за горло. – Молчи, дура!
Насмерть перепуганная баба утробно пискнула и вытаращила глаза.
– Так вот, молча и лежи… – буркнул Тимоха, отпуская бабу. – Смотри у меня… – показал ей кулак, – язык выдеру!
Та продолжала таращиться, напустивши от испуга лужу…
– Да ладно, – примирительно сказал Костка, подходя поближе. – Никому она не скажет.
– Ну, живи, тогда, – разрешил Тимофей, отходя от бабы. Подобрав саблю, стал чистить ее о кафтан убитого Федота.
Побирушка успокоилась, решив, что убивать ее не собираются:
– Не боись, парни. Никому ни словечка не скажу, – пообещала она. – Я, как рыба об лед… Ничего не видела, ничего не слышала и, знать ничего не знаю… Только, – умоляюще попросила она, – поднес бы ты винца зелененького. А то, что-то мне совсем тошно.
– Поднесу уж, – согласно кивнул Акундинов и велел Конюхову: – Дай ей хлебнуть…
Костка, откупорив фляжку, подал ее бабе. Та, с довольным видом присосалась к горлышку и сделала один длиннющий глоток, потом, второй, третий…
– Хватит, хватит, – забеспокоился Конюхов, отбирая баклагу. – Ишь, присосалась-то, как пиявка к голой жопе.
– Хлебнула? – спросил у бабы Тимофей. – Куда же в тебя и влезает?
– Ух, красота! – довольно заулыбалась пьянчужка, показывая редкие зубы. – Теперь, можно бы и мужичка… Как, парни? Может, еще глоточек дадите, дык я бы вам обоим и дала…
У Акундинова, от одного вида ее щербатой пасти с гнилыми зубами, всякое желание улетучилось.
– Да, пошла бы ты… полем, да через ясный пень… – буркнул он.
– Ты, Тимошенька, мной-то не гнушайся, – захихикала баба, – а то, гляди, потом-то, может и такой у тебя бабы не будет. Вспомнишь меня, Катюху-то, сла-а-день-кую!
– Вспомню-вспомню, – кивнул, было, Акундинов, уходя, но спохватился. – Имя-то мое, откуда знаешь?
– Дык, когда пил ты давеча, с Федотом, дык и услышала, – преданно посмотрела пьяная шлюха. – А потом, что было, не помнишь, разве? Я же тебя, хи-хи, когда ты в кости-то продулся, вместе с Федотом да цыганом и удоволивала. Ты, не сумлевайся, я молчать буду, особливо, если ты мне еще глотнуть-то дашь. Хошь, на кресте поклянусь?
– Ну, поклянись, – согласился Тимофей, напрочь, не помнивший – когда это они успели «удоволиться»? – А крест-то у тебя есть? Али, пропила?
– Да как можно-то? – возмутилась женщина. – Вот, гляди, – вытащила она из-под ворота крест на кожаном ремешке… Вот, мол, крест святой, что никакого убивцу Тимошку-приказного я не видела! Поклястся, а?
Кажется, бабу, «догнало» с пары-то глотков и, теперь она уже не соображает, что говорит. Да такая клятва – хуже любого оговора!
– Дай-ка, крест я твой гляну, – наклонился к ней Акундинов и, взяв ремешок обеими руками, потянул на себя, затягивая его на прыщавой, давно не мытой шее…
Душить Тимофею еще не приходилось. Потому, баба захрипела, задергалась и вцепилась зубами в его руку. А тут еще и придурок, Костка, – подскочил и стал оттаскивать друга от бабы, отчего прелый ремешок натянулся, как струна, а потом лопнул…
Недодушенная баба упала на спину, откашливаясь и отплевываясь. Конюхов, не удержавшись на ногах, повалился на спину, увлекая за собой Акундинова. Разъярившийся Тимоха, вырвавшись из захвата приятеля, обернулся и ударил того кулаком в зубы. Потом, озлившись, выхватил саблю и, полоснул клинком по бабе один раз, потом другой, третий…
– Тимоша, Тимоша! – испуганно кричал Костка, хватая его сзади поперек туловища. – Опомнись, да что же ты творишь-то? Ты же ее насмерть, уделаешь!
Акундинов, попытался стряхнуть с себя друга, но тот держался, как клещ. А не удержался бы, так еще и неизвестно – а не полоснул бы и его, в горячке?
– Ладно, ладно, – забормотал Тимофей, успокоившись и уронив саблю. – Все!
Костка помедлил, но руки разжал. Потом, не замечая разбитого рта, проворно пробежал по дворику и выглянув за угол, стал подбирать фляги:
– Утекать надо! И, побыстрее, пока кто-нибудь не нагрянул! Стрельцы зайдут, да увидят такое, так они и спрашивать не будут, а просто возьмут, да и пальнут в нас обоих! – Дай-ка, сюда, – взял Акундинов одну из баклажек и, основательно приложился.
– Тимоша, ну, давай же быстрее. Увидит кто! – в нетерпении перебирал ногами Костка, торопя друга до тех пор, пока тот не прыгнул в седло…
Оставив лошадей во дворе, приятели вошли в избу и уныло расселись по разным лавкам. Осенью вечер наступает быстро и, очень скоро, за слюдяным окошечком стало темно.
– Зябко, чего-то, – поежился Конюхов. – Может, печь истопить?
С утра, ни тот, ни другой не соизволили это сделать.
– Топи, – равнодушно отозвался Тимофей.
Константин сбегал во двор, притащил охапку поленьев и быстро разжег печку. Сразу же стало веселее. То ли – от тепла, то ли от – света пламени, то ли – от гудения в трубе…
Костка, присевши около устья, стал любоваться пламенем, подкидывая, время от времени поленья. Друзья молчали…
– Тимоша, а у тебя весь кафтан в крови, – прервал молчание Конюхов. – Теперь ведь, и не отстирать…
Акундинов, молча снял с себя кафтан и, особо не раздумывая, бросил его в огонь. В избе сразу же запахло паленой шерстью.
– Ты чего это? – удивился Костка. – Крепкая одежа-то…
– А, на хрен, – отмахнулся Тимоха. – Кафтан-то старый, отцовский. В сенях висел, на гвозде. Уж не знаю, как хмырь-то его не углядел. Мой-то, тут, под лавкой лежит. Этот-то я нарочно надел, что бы выбросить, если, что…
Акундинов вытащил собственный кафтан, встряхнул его и надел на себя.
– Ух ты, а хитер-бобер! – восхитился Костка. – Я бы до такого не додумался…
– Ладно, – вздохнул Тимофей. – Тащи фляжку, что ли. Выпьем – за упокой душ, убиенных.
Когда сели за скудный стол, налив водку в уцелевшие щербатые кружки и молча, не чокаясь, выпили. Конюхов, захрустев луковицей, обнаруженной в углу, спросил:
– А бабу-то? Может, не стоило убивать-то? Жила бы себе, пьянчужка, да жила… Чего ты ее сразу, душить-то кинулся? Да еще и мне, вроде бы, зуб вышиб, – вспомнил вдруг Конюхов и, сунул палец в рот. Внимательно перетрогав все зубы, радостно сообщил: – Не, не вышиб! Так, расшатал только, так ничего, врастет!
– Думаешь, не разболтала бы баба? – хмыкнул Тимоха.
– Ну, а коли, и разболтала бы, – попытался поспорить Костка. – Кто бы ей, пьяной-то б… поверил? Да с ней бы и разговаривать-то никто бы не стал… Хотя, – задумался он. – Ежели бы, ее на дыбу вздернули, да вдругоряд по три кнута, то и поверили бы… Так это, – укоризненно мотнул он давно не чесаной башкой, – ежели, сама бы она в Разбойный приказ пошла.
– Дурак ты, Константин Евдокимыч, – беззлобно выругал Тимофей друга.
– А чего, сразу дурак-то? – обиделся Костка, уязвленный непривычным обращением с «вичем».
– Ты что, о шайке-то Федотовой забыл? Они же, на мертвяков-то на своих наткнуться, да искать будут – кто же атаманов-то порешил? Не токмо бабе пьяной, а лешему в шерсти поверят.
– Это точно. Нас бы с тобой и в Разбойный приказ бы никто не повел, – пригорюнился Конюхов. – Так бы зарезали бы, да под забором бы где-нить и схоронили… Да ладно, если бы только зарезали. А то, изувечили бы, а уж потом и прибили, а ошметки бы на помойку выкинули, псам на радость…
– А ты-то тут при чем? – удивился Тимофей. – Ты, что ли, атамана-то рубил?
– А вот теперь – ты, дурак, Тимофей Демидыч, – фыркнул Костка. – Они, что, разбираться бы стали? Кто, цыгана-то с Федотом из кабака вызывал? Ась? Или, не узнали бы они, что я у тебя в доме живу? А где ты – там и я.
Крыть было нечем. И впрямь, никто бы разбираться не стал…
– Давай-ка, еще по одной, да на боковую, – скомандовал Тимофей, не слушая просительного вопля Конюхова. Пить ему сегодня больше уже и не хотелось. Да и вообще, ежели, разобраться, то все беды у него шли как раз от той злополучной чарочки, которую он выпил в кабаке. Ну, ладно, пусть не одну… Как же бы вообще, бросить-то это дело? Ну да, зарекалась ворона, навоз клевать, но до сих пор клюет…
Утром, хмурый Константин стал клянчить чарочку на опохмелку. Тимофей, взяв в руку флягу, стоявшую на столе, побулькал. Пусто! А помнилось, что когда укладывались спать, то оставалась еще половина…
– Вот этой бы баклажкой, да по сусалам тебя! – оскалился Тимоха на друга. – На хрен, все выжрал-то?
– Ну, так уж вышло, – заюлил Костка. – Ты, спать ушел, а мне, не заспалось чего-то.
– Вот, спать и надо было, а не водку пить…
– Да тут, собака зашла. Я ночью-то во двор вышел, до ветру, значит, а она сидит, смотрит. Черная такая, страшная…
– Подумаешь, – с недоумением глянул на друга Тимофей. – Зашла себе и зашла. Мало ли, собак бездомных на Москве, шастает? Зима скоро начнется, так поменьше будет.
– Ну, Тимоша, а откуда она взялась? – пристально посмотрел на друга Костка. – Если, во дворе у нас – ни дырки, ни щелки. Весной еще Танька новый забор велела поставить. Так там, ни то, что собака, а кошка не пролезет. А ворота я, самолично, на ночь запирал…
– Ну, значит, щель осталась. Или – ворота неплотно запер, с пьяных-то глаз.
– Да нет, – покачал головой Конюхов. Потом, помедлив слегка, процедил: – Я ведь эту собаку, видел. Ты, когда бабу-то собрался рубить, она из-за угла вышла. Я-то испужался – думал, псина пришла, а следом – хозяин идет. Ну, думаю, залает сейчас. А она, падла, только зубы оскалила, словно бы ухмыляется!
– Ты че, Костка? – нахмурился Акундинов. – Совсем, что ли допился? Где ты там собаку-то видел? Может, скажешь еще, что по двору нашему черти с вилами бегают?
Сказать-то сказал, но от Коскиных слов и самому стало как-то не по себе. Для очистки совести Тимофей вышел во двор. За ночь он покрылся свежим снежком, который к обеду должен стаять, но пока еще был ровным и, почти что нетронутым.
Акундинов осмотрел снег, но, углядев только следочки от птичьих лап, успокоился и вернулся в избу. «Сам виноват, – решил Тимофей. – Надо было флягу подальше прятать…»
Конюхов, сидел перед столом и раскачивался на скамейке, ровно юродивый. «Как бы он, неопохмеленный-то, не помер», – пожалел дурака Тимоха и, вытащив вторую, непочатую баклажку, налил другу полную кружку.
– Тяни, как хошь, – строго сказал он другу. – Но больше не дам!
– Ага, – радостно отозвался Костка, цедя водочку сквозь зубы, с каждым глоточком забывая о страшной собаке…
«Вот ведь, не было печали», – подумал Тимофей, озабоченно глядя на Коску. Сам он пить не стал и, как оказалось, правильно. Со двора вдруг раздался требовательный стук в ворота.
– Эй, Тимофей, сын Акундинов, открывай! – зычно крикнули с улицы.
– А че случилось-то? – спросил Тимофей, подходя к воротам.
– Ты, открывай, давай! А не то – ворота высадим!
Акундинов, трясущимися руками открыл калитку и во двор прошли двое стрельцов.
– Так что случилось-то? – робко спросил он.
То, что стрельцов было двое и то, что они на него не набросились и не стали вязать, обнадеживало. Ну, а кроме того, Тимофей знал, что ежели стрельцы пошли бы забирать тата, али, душегуба какого, то хотя бы у одного из них пищаль была бы в руках. А тут – ни пищалей, ни бердышей, а только сабли.
– Ну, это не наше дело, – хмыкнул один из стрельцов. – Ты, собирайся, давай. Нам тебя велено в Разбойный приказ доставить, а не разговоры водить.
– Слышь, мужики, а может, по чарочке пропустите? – робко предложил Тимоха. – У бати, у моего, царство ему Небесное, день поминовения сегодня. Батя-то мой, в стрельцах служил, пока ногу не искалечили.
– А где батька-то служил? – с интересом спросил тот из стрельцов, что был постарше.
– Вначале, с князем Пожарским ляхов гонял, а потом – в Вологде, в Таможенной избе десятником был. Тати на них напали, хотели казну отбить, где сборы таможенные, от купцов взятые, лежали. Отбиться-то отбились, да один из татей батьке по коленке топором засадил. А вот, как батьку-то искалечили, так никому он и не нужен стал, – чуть не пустил Тимофей слезу, горюя о батьке. – Вы, может, хоть в дом войдете?
Стрельцы переглянулись и кивнули. Потопав в сенях ногами, что бы сбить снег, вошли. Повернувшись к красному углу, с удивлением обнаружили, что в иконостасе только одна икона, хотя пустых полочек много… Перекрестившись, излишних вопросов задавать не стали. Может, съезжать собрались?
– Ну, да за такого-то мужика, да не грех и выпить, – кивнули оба стрельца, принимая из рук отрезвевшего Конюхова кружки.
Выпив, стрельцы сразу же подобрели. А старший, отказавшись от добавки, сказал:
– Тут, Васька Шпилькин на тебя челобитную написал в Разбойный приказ.
– «Фух ты», – с облегчением перевел дух Тимофей и спросил:
– А челобитная-то из-за чего?
– Да, грит, ожерелье ты у него взял, да и не вернул.
– Ну, Васька, ну прохвост, – покрутил головой Тимофей, – а еще – друг называется. А врать, дак как корова жрать! Сам же меня и попросил, что бы я евонное ожерелье продал! Да у меня и видок на это есть. Да, Костка?
– Угу, – согласился Конюхов, даже не понимая – в чем тут дело.
– Ну, ты тогда и видока своего бери. Он у тебя заместо ябедника[7] будет! – присоветовал старшой. – А не то ведь, Васька-то, он, как-никак, сам в Разбойном приказе служит. Ну, да ничо, кляуза-то у Никифора. Он, хотя и молодой еще, но мужик справедливый.
… В Разбойном приказе, который москвичи, да и все прочие русские люди не очень-то любили, но уважали, народу было немного. День-то еще только начался. Стрелецкие караулы бродили по Москве, собирая порезанных, задушенных и прочих, умерших не своей смертью, а жалобщики и кляузники еще только-только шли на прием к дьяку, или к самому боярину. Посему, Тимофея и Костку стрельцы привели к старшему подьячему Никифору Кузьмичу.
Подьячий, годами, чуть старше Тимофея, сидел на лавке, в конце длинной, как гроб, комнаты. В углу, неподалеку от него, зевал писец, разложивший на столе бумагу и перья. Васька Шпилькин, как истец, отирался возле своего старшого.
– Кто из вас Тимоха Акундинов? – спросил подьячий, грозно сверкнув очами.
– Я, – скромно ответствовал Тимофей. – Тимофей Демидов, сын Акундинов.
– Челобитная на тебя. Василий Григорьев, сын Шпилькин, говорит, что ожерелье ты у него украл. Что рассказать можешь?
– Украл? – удивился Тимофей. – Это как же так я у него украл, ежели, он сам мне его в руки подал?
– А, стало быть, отпираться не будешь! – радостно вскинулся Никифор, подмигивая Ваське. – А ты боялся – отопрется, мол, да отопрется!
– А чего отпираться-то? – пожал плечами Тимофей. – Василий собственноручно мне это ожерелье дал. Вот, так вот, из рук в руки, глаза в глаза. Все по добру да по согласию было…
– По добру да по согласию Васька и дал… – захихикал писец, а остальные мужики, поняв двусмыслицу сказанного, захохотали.
– А ну, молчать всем! – рыкнул старшой, которому и самому было смешно, но, служебное положение обязывало быть серьезным и грозным!
– Ну, а чего ты ожерелье-то обратно не отдал? – встрянул и Васька, уязвленный хохотом. – Ты, уж прости меня, Тимофей, но сам же пообещал, что к вечеру – отдашь. Я, весь вечер тебя прождал, не дождался. Так что, не обессудь.
– Ну, так чего скажешь? – насупился и подьячий. – Чего не отдал-то? Или, к боярину тебя отправить, что бы тот батогов приказал дать?
– А как я его отдать-то могу, ежели, я его продал? – с удивление спросил Тимофей.
– Как это, продал? – удивился подьячий Никифор Кузьмич. – Взял чужое ожерелье, да просто так, да и продал?
– Ну, не за так, просто, продал, за деньги, – пояснил Акундинов. – Продал я Васькино ожерелье купцу, что в Гостином дворе стоит. Знаю, что прозвище у него Тетеря, а как зовут – не ведаю. Я с купцом этим водку не пил, детей не крестил.
– Ну, а продал-то зачем? Ожерелье-то, чай, не твое, – не унимался подьячий.
– Пришел я, стало быть, к Василию. Водки ему принес, да детям евонным гостинцев захватил. Ну, рассказал, что англичанина в гости жду, что моему отцу деньги за сукно должен был. Так ведь, Василий?
– Так-так, – с нетерпением перебил его подьячий, потрясая челобитной. – У Васьки-то тут все расписано, подробно.
– Ну, а что еще-то сказать? – оттопырил губу Тимоха. – Сказал я еще Ваське, что в долю хочу войти с англичанином тем, только – денег у меня мало. Ну, а Васька и дал мне ожерелье, да попросил его продать. Что бы, мол, деньги, что за него отдадут, я бы в его, Васькину бы долю и пустил. Что бы, мы с англичанином-то этим, вместе со Шпилькиным, да на паях бы и торговали. Мы бы, у нас тут, холсты покупали, да англичанину бы тому и отдавали. А он, сукно английское нам бы привозить стал. Вот, видок у меня есть, кто за меня и поручиться может, – показал Тимофей на Коску. – Он при нашем разговоре был.
– Да ты чего городишь-то? – оторопел от такого вранья Шпилькин. – Ты же это ожерелье для бабы своей брал, что бы англичанину пыль в глаза пустить! Сам ведь о том говорил!
– Вася, да для чего мне пыль-то в глаза пускать? – округлил глаза Тимофей. – У Таньки-то у моей, мониста разные, да бусы, да цацки прочие есть, что дедушка покойный, архиепископ, ей завещал. Ей, коли надобно будет, есть чего навешать – хоть на грудь, хоть на шею. На хрен, мне жемчуга-то лишние?
Сказав об украшениях жены, Тимофей вдруг чуть не задохнулся от запоздалой мысли: – «От ведь, дурак! Можно же было только Танькины цацки продать, да и все…» Но мысль исчезла, как и пришла, потому, что Васька, с криком: – «Да я же тебе, сволочь, морду разобью!», кинулся на Тимоху, пытаясь ударить в зубы, но попал в грудь. Акундинов в долгу не остался, а съездил другу (теперь уже, положим, бывшему!) в ухо. Драку разнимали все, кто был в палате. Наконец, растащив драчунов, старший подьячий перевел дух и спросил:
– Ну, а коли ты, ожерелье-то продал, то деньги-то где?
– Так деньги-то я уже в дело вложил, – преспокойно ответил Акундинов. – Мы ведь с Васькой насчет склада говорили. Ну, на двадцать рублев я полсклада и купил. А на остальное, холстов разных, какие в Англии на парусину идут. Нельзя же перед гостем заморским, да с голой задницей. А сукна, что англичанин привез, уже на том складе лежат. Думал – сегодня-завтра расторговывать буду! А холсты, что я купил, так их уже на подводы погрузили, да увезли. А чего теперь драться-то? Я вот, сам из дома все продал, что бы денег выручить, да сукон прикупить. Вон, стрельцы соврать не дадут, что дома у меня – хоть шаром покати!
Оба стрельца, с усмешкой наблюдавшие за перебранкой, кивнули. Тот, что постарше, сказал:
– Это правда! В доме, у Тимохи, только стол да скамейки.
– Ну, вот, – с обидой сказал Акундинов. – А ты бы как хотел? В дело войти, да не потратиться? Сукна, вон, на складе купеческом остались. Так сегодня как раз и хотел привезти. Задаток-то я за них уже уплатил, а теперь еще пятьдесят рублев внести, – пошелестел Тимоха увесистым кошельком, где оставались деньги… – Только, извини, Васятка, но эти деньги я за товар отдать должен! Негоже, купца-то обманывать.
– Тимофей, да хватит врать-то! Христом Богом прошу! – не выдержав, заплакал Василий, схватившись за голову.
– Ну, Вася, ну ты уж прости меня, дурака, – с толикой раскаяния в голосе произнес Тимоха. – Ну, не углядел я, что ты, выпивши был, когда ожерелье-то предлагал. Я ведь, ежели бы знал, что пьяный ты, так не в жизть бы его у тебя бы не взял! Так что, Никифор Кузьмич, – обратился Акундинов к приказному. – Не знаю я – чего же еще-то сказать? Все, как на духу обсказал. Все – по правде. Потому как, хотел бы соврать, то так и сказал бы – видеть мол, эти жемчуга не видел… А коли Васька не врет – так пусть бумагу покажет, за моей подписью. А я, по-честному хочу, не отпираюсь. Да, взял я у него ожерелье…
– В общем, так, – подвел итоги старший подьячий. – Тут у вас, сам черт ногу сломит. Кто прав, кто виноват…
– Никифор Кузьмич, – заверещал белугой Васька. – Вели к боярину идти! Пусть, князь-боярин решит, кто прав, кто виноват.
– Эх, Вася, Вася, – укоризненно произнес старший подьячий. – А чего к нему идти-то? Он ведь тоже, выслушает, да и скажет – дурак, ты, Васька. Надо было бумагу составлять.
– Да на дыбу его, да кнутом! – орал Василий. – Или – пусть хотя бы оставшиеся деньги отдаст, что на поясе у него висят. К боярину!
– Васенька-то, соколик ты мой бестолковый, до середнего подьячего дослужился, а делов-то не ведаешь, что ли? – ласково сказал Никифор Кузьмич, – Тебя ведь, как жалобщика, первого на дыбу-то и подвешают. Доносчику-то, да жалобщику – первый кнут… Не посмотрят, что в Разбойном приказе служишь. Он же, не тать с большой дороги, что бы я его своей-то властью на дыбу-то отправлял. Он, чай, такой же старшой, как и я. А что, если земляк твой, после третьей крови, да на своем будет стоять? Тогда, что же, тебя в Сибирь, за оговор? Али, на плаху? Да и мне, от боярина-то попадет.
– Никифор Кузьмич, – вмешался Тимофей. – Да не извольте беспокоиться. Ведь, продадим мы сукно да холсты, будут у нас деньги. Васька, на эти деньги, десять таких ожерелий для бабы купит. Ну, а ежели, – посмотрел Акундинов на Шпилькина чуть брезгливо, – так уж все плохо, то выкуплю я это ожерелье клятое, да ему и верну. Денег, где-нить перейму. Вели – пусть бумагу принесут, а уж я и расписку в том напишу.
Василий, услышав обещание, воспрял было духом и, резво подскочил, помчавшись к столу, за которым скучал писец. Схватив бумагу, сунул ее под нос Акундинова, но был остановлен своим старшим:
– Давай-ка, Василий, занимайся делом, – устало сказал вдруг Никифор, – сам кашу заварил, сам и расхлебывай. В Разбойном приказе татей ловят, а не счеты сводят между собой. А я уж думал, что впрямь, обманул тебя кто. Получается, сам дурак, а мужика виноватишь… Радуйся, что князь-боярин не слышал, а не то посадил бы он тебя на хлеб и воду, да батогов бы приказал всыпать. Ладно, Тимофей Демидыч, – повернулся он к Акундинову, – не серчай. Сам, понимаешь, мы ведь, ушки-то на макушке должны держать…
– Спасибо тебе, Никифор Кузьмич, – поклонился Тимофей в пояс, как старшему. – Вижу, по справедливости да прозорливости твоей – быть тебе дьяком! – Потом, обернувшись к Василию, вздохнул. – Ну, чего же причитать-то? Я ж понимаю, супруга ругается. Ну да ничего, простит. А мне-то каково? Теперь вот, и в дом-то к тебе прийти будет нельзя. Людка-то, небось, мне уж больше не то, что жемчугов, так ничего и другого не даст …
Васька, глухо зарычал и, хотел опять кинуться на Акундинова, но был остановлен смеющимися стрельцами…
Уже на улице, Костка, вытанцовывая мелкой рысью, восторженно сказал:
– Сам поверил, что ты сукном да холстами торговать собрался! Подумал даже – может, сиделец тебе в лавке понадобиться? Или – толмач нужен будет. Я, конечно, аглицкий-то плоховато знаю, но, выучил бы… Как это у тебя ловко-то получилось? А я, со страху-то, чуть в штаны не наделал. Ну, куда теперь? В приказ?











