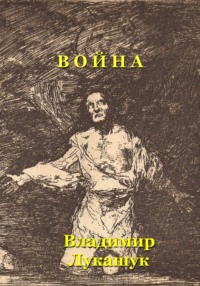Полная версия
А впереди была вся жизнь…

Владимир Лукашук
А впереди была вся жизнь…
Pereat tristitia, Pereant Dolores, Pereat Diabolus!
Да исчезнет печаль, скорби наши и сам дьявол!
(из старинного студенческого гимна)Часть I
Ать-два, ать-два…
Мы печатаем шаг по раскалённому плацу. Среднеазиатское светило палит вовсю с утра, моё горло – словно засохший колодец.
Узбек-ефрейтор вопит с надрывом:
– Песня-я, запевай!
– У солдата выходной, пуговицы в ряд! – начинает рота нестройно. Как-никак, не все были настолько активными пионерами в школах-лагерях, чтобы вот так, с размаху, приступать к урокам хорового пения, да ещё а-капелла.
– Громче, сука-а! Не слышу! – вновь орёт рослый смуглый Каримов, который дрючит нас уже два часа. – Громче, уроды!..
– Ярче со-о-лнечного дня золотом горят! – рявкаем мы со злобой. Я глотаю горячий воздух и проклинаю эту маршировку, ублюдка-ефрейтора, огромный плац и весь узбекский край, в который меня заслала добрая родина-мать отрабатывать непонятный долг. И какой долбо…б сочинил эту радостную песенку, когда топаешь, обливаясь по̀том? Лично у меня от неё оптимизма не прибавляется, хоть убейся.
– Часовые на посту, в городе весна, – истошно исторгает сотня глоток. – Проводи нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина…
– Отставить, – командует ефрейтор. – На месте раз-два!
– Плоха паёте, – продолжает предводитель нашего замороченного воинства. – Плоха ходыте. Я же говорил, что нога нада подымать сорок сантиметров от земли. Поднять всем нога!
Мы тянем носки вперёд, замирая в позе цапли, ищущей в трясине лягух. Проходит минута, вторая, четвёртая… Попробуй так постоять! Нога шлагбаумом начинает опускаться. Слышу громкий шлепок по чьей-то заднице, и новый вопль: – Я сказал нога держать!
Стараемся задрать ногу повыше, словно балеруны. Получается с трудом. Хорошо, что я занимался лёгкой атлетикой на гражданке, и некоторая подготовка имеется. Другим, несомненно, было хуже. Слышу, как маленький – разумеется, в переносном смысле – командир раздаёт ещё бесплатно и с оттяжечкой поджопники. Ефрейтор на голову выше сородичей-новобранцев, его скелет закован в крепкий мышечный корсет, и я никак не пойму – он что, в армии так оброс мускулатурой? Кроме того, узбек частенько отрабатывает зубодробительные познания по самбо на наших шкурах. Эта мразь старается заработать за солдатский счёт сержантскую лычку на погоны[1]. Поэтому призывники его побаиваются.
Я выражаю своей физиономией почти искренней восторг при выполнении столь ответственного боевого задания. Как-никак, выше х…я не прыгнешь! И, вроде, это несколько помогает – Каримов будто не замечает меня, уделяя зверское внимание остальным участникам строевой подготовки. Не щадит даже соотечественников! Меня удивило, когда однажды он высказался с характерным акцентом:
– Узбек такая сволач! Будет страшно – залезет на крышу и лестницу уберёт за собой. А ты будыш стаят и умрёшь.
Я принял тогда к сведению его выводы о национальных особенностях. Самое удивительное, его малорослые земляки по-овечьи молчали, не переставая жевать одуряющий насвай[2]. Впрочем, иногда меж собой тихо блеяли: «Жизнь бекова – нас дерут, а нам некого».
Зато «любимчик» всех курсантов продолжал изгаляться:
– Какая девушка вас будет ждать после такой служба с песней? Вы все здесь пидарасы! Якши[3].
На подобные железобетонные аргументы вряд ли возразишь. И мы воспринимаем ушаты грязи на свои маковки почти стоически. Якши – так якши, деваться некуда. Хотя вряд ли хорошо. Но это – цветочки в сравнении с тем, что предстояло вечером в казарме.
Ать-два, ать-два…
* * *За полчаса до отбоя мы немного передыхаем: умываемся, читаем или пишем домой письма, уединяемся погрустить в сортире или просто перетереть в курилке делишки за день.
Звучит команда к отбою. Быстро кидаемся к кроватям, быстро скидываем форму (при этом аккуратно складываем её на стуле) и ныряем в казённую постель, где только и можно побыть наедине с собой… Увы, по печальному опыту знаем, наши иллюзии напрасны. Мучения ещё не кончились.
Входит Каримов с ещё двумя ефрейтора̀ми и гавкает:
– Отбой! День прошёл!..
Мы от всего сердца – уже привыкая к армейским традициям – гавкаем в ответ:
– И х…й с ним!
Однако веки уже сами собой смыкаются. Как бы ни так! «Черпаки» злорадно смеются, один из них ехидно верещит:
– Что, зенки закрываются? Расслабились, бл…дь. Подъём! Через минуту выстроиться в коридоре повзводно.
Зашибись…
Преодолевая невероятную тяжесть в теле, одеваемся, бежим на построение. Уже звучит команда «В две шеренги становись!». Тусклое освещение действует угнетающе.
Заходит бочкообразный капитан Мухоедов. Помнится, меня будто по башке трахнули, когда поначалу услышал его фамилию: «В русском языке существуют столь замысловатые, с гурманным привкусом фамилии?». Даже чуть не стошнило. Однако затем услышал от самого офицерика на первом построении, как он похвастался: «Вы – мухи, я – паук, который вас будет жрать! Узнаете, как Родину любить». Мы по наивности не поверили ему. А зря. В последующем убедились: жирная сволочь вполне соответствует тошнотворной фамилии.
По команде «Смирно!» мы вытягиваемся, хотя получается с трудом. Командир медленно вышагивает вдоль строя, всматриваясь в наши бледные лица. Туда прошёл, сюда. Начинается очередное нравоучение:
– Тут брешут, что, когда солдат спит, служба идёт. Тупая шутка!.. Рядовой даже во сне должен лежать по команде «смирно!». И даже сидеть. Есть не согласные?
Мордой лица выражаем как бы полное согласие.
– Ну-ну, делаете вид, что правильно понимаете службу. На деле плохо стоите по озвученной команде. Именно поэтому будем учиться. Всем застыть на месте на двадцать минут! Засекаю время.
«Отец солдатам» начинает прохаживаться снова туда-сюда. Останавливается возле нашего отделения, я вытягиваюсь, кажется, до самого потолка. Остальные – тоже. Мухоедов ухмыляется и делает два шага дальше. Мы теряем по недомыслию бдительность, а мой сосед Роман судорожно попытался стереть пот, стекающий в глаза. Капитан торжествующе оборачивается, словно поймал на страшнейшем преступлении:
– Расслабились хмыри цивильные? В вас, гляжу, гонора больше, чем веса. Как фамилия?!
Мухоедов так заорал в лицо Роману, что тот отклонился назад. Осипло и с дрожью отвечает:
– Бляяя…б-блин.
– Ка-ак? Бля-блин? Что за еб…нутая фамилия?! Точно тебе подходит. Ничего, я из вас сделаю человеков. И из тебя, и из всех прочих.
Офицеру очень нравится расхаживать перед нами боевым петухом. Он чувствует себе прямо-таки настоящим генералом. Я прикидываю: «Своя-то паспортная кликуха, небось, милей…».
Мухоедов подскакивает вновь к Бляблину:
– Я сказал: «Стоять «смирно!». За каждое шевеление в строю добавляю по десять минут. А с тем, из-за кого это происходит, после сами разбирайтесь. Будут вам танцы раком.
Кажись, у моего товарища с незадачливой фамилией полная непруха. Помню ещё по школе, когда в старших классах по малозаметным признакам кого-то назначают неудачником, после жди ему неприятностей – будут топтать целым курятником. А этот лопоухий – точная копия друга крокодила Гены, такой же несуразный еб…нашка.
В общем, учимся родину любить от всего сердца. И в сто-душной казарме минуты тянутся, как часы. Спать хочется невыносимо, но проверить, сколько же утекло проклятого времени, невозможно. Кто-то опять шевельнулся. Капитан подбегает и бьёт провинившегося по роже, тот загибается. Офицер отрабатывает на нём ещё два-три увесистых удара. Потом поворачивается к шеренге:
– Будете стоять столько, сколько нужно. Теперь понятен смысл фразы «Один за всех, и все за одного!»? Вечный бой! А покой вам будет только сниться. Усвоили?..
Враждебное молчание в строю сгущается настолько, что солдафонская туша точно ощущает его собственным поганым нутром. Это – единственное, чем мы можем выразить жгучую ненависть. Мы знаем, что он думает о нас, он знает, что мы думаем о нём. По-моему, мы с таким садистом родились на разных «родинах», и им вряд ли когда сойтись. Вся мутотень о липовом равенстве в законах придумана такими же скотами, как Мухоед, чтобы запудрить нижестоящим мозги.
Так продолжается довольно долго. Нам прибавляют и прибавляют по десять минут. Истёк уже час. Внезапно Роман падает. Брякнулся прямо снопом. И лежит. Все в смятении: помочь или стоять дальше?
Подскакивают ефрейтора̀, переворачивают солдата, бьют по щекам:
– Эй, очнись!
Бляблин непонимающе открывает глаза. Капитан приказывает отвести его в умывалку. Следом раздаются команды «Разойдись» и «Приготовиться к отбою». Слава тебе, Господи, что помог нам! За счёт того несчастного?
* * *Да, такова наша служба, как выясняется.
Когда в Волгограде я прибыл на призывной пункт, то сам напросился в десантуру. Шёл в армию с полной уверенностью, что стану, если не героем Советского Союза, так хотя бы бравым воякой. У меня было отличное преимущество перед другими, ведь занимался в парашютной секции, когда учился в мединституте. Даже совершил три прыжка с «кукурузника». Ощущения были сверхкайфовые, хотя мандраж, когда тебя ни-че-го не держит в воздухе, ощущался.
Правда, с учёбой в вузе не задалось. Проклятая несчастная любовь – из-за неё захандрил, и забросил её подальше к ядрёной фене. В результате эсэсэсэрская действительность определила выбор за меня. Однажды весенним утром я вышел из подъезда белой девятиэтажки (мы только-только переехали сюда из старого дома). Мать собралась провожать до военкомата. Бабуля плакала, стоя на балконе. Из окна моей квартиры на втором этаже неслось: «Беле-е-т мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей…». Любил я бесшабашного Андрея Миронова; его песни вдохновляли необыкновенно, потому и поставил напоследок пластинку с неунывающим артистом. И так простился с гражданской молодостью.
Конечно, я твёрдо усвоил со времён пионерии, что волей-неволей обязан «отдавать долг Отчизне», но не придавал тому серьёзного значения. Со школьной скамьи трындели о совсем иной любви – государства и правительства, – которую нам давали бесплатно, как та девушка из анекдота: образование, лечение, отдых в лагерях и так далее. И, значит, долг платежом красен. Но мы до конца этот фортель не улавливали. Честно говоря, лишь позже задумался, почему за меня решили, что с рождения должен вступать в подобную сделку? Как-нибудь сам бы со своими делами разобрался. Не инвалид всё-таки.
Однако, коли государство с Родиной уже настолько сплелись в безумном экстазе, то не таким, как я, балбесам, разбираться, где начинается одно и кончается другое. Ты просто обязан отдавать неотвратимый, как сама смерть, долг той же службой в армии. То есть от принципа «дашь-на-дашь» не отвертишься! И уже не пытался уточнять соотношение, кто кому больше должен.
Из военкомата нас перебросили автобусом на сборный пункт под Мамаевым курганом. В центре загона из бетонного забора находился плац, вокруг – навесы. Под ними лениво сидели, пили водку в компаниях и нудно ждали предрешённой участи сотни две-три таких же оболтусов. Ещё вели через бетонный забор душещипательные беседы. «Береги здоровье!», – кричала родня. «Успей хорошо побухать!», – советовали ещё вольные сотоварищи. Время от времени подходили какие-то военные, выкрикивали ФИО, и очередные новобранцы уходили в здание по центру.
Меня записали в ВДВ. Проверили здоровье, убедились, что в моей долговязой фигуре набирается метр семьдесят пять – без такого роста в «небесных войсках» делать нефиг! Заодно врачи всех раздевали для осмотра, заглянули даже в задницы. Вероятно, факт нормальной округлости в «пятой точке» признавался самым мощным основанием для призыва в лучшие войска в мире, так как доктор отчеканил: «Вполне здоров!..»
Через два дня офицер-«покупатель» сформировал команду, из таких же, как я, любителей приключений на свою жопу. Вечером нас вместе с котомками, где мялись мамины пирожки вперемежку с бутербродами, покидали в грузовик и помчали в неизвестность. Куда-зачем, не объяснялось.
Уже через полчаса мы толклись на волгоградском аэродроме. Затем – несколько часов полёта в кромешной тьме. Иногда среди облаков выплывал месяц, чтобы после вновь скрыться за бело-пушистыми занавесками. Я слегка грустил под равномерный вой моторов, наблюдая за звёдной пое…енью в иллюминатор.
Летели долго – более четырёх часов. В конце концов, я уже стал кемарить. И тут по известному закону подлости (когда уже вконец сморило!) в самолёте началась движуха. В салон ворвался двухметровый офицерище и зарычал:
– Готовиться к посадке!
Нас, полусонных новобранцев, выгрузили на лётное поле огромного аэродрома. Вдали с рёвом взлетали и садились самолёты. Мы хлопали глазами и обалдело жались, как овцы, в кучу. Прохладная ночь где-то в двухстах метрах распарывалась вереницей огней над громадиной белого здания с зеркальными окнами. Поверху что-то написано под арабскую вязь.
Наша нестройная колонна двинулась в сторону аэропорта. Наконец, разобрали, что за надпись. Послышалось:
– Них. я себе! Ташкент!..
Эк, меня занесло! В башку не могло прийти, что окажусь за тридевять земель от родного дома. Ладно бы там, Лондон или Берлин.
Всех быстро рассовали в грузовые машины с тентом и погнали по тёмно-разбитым дорогам. Дышать пылью – то ещё удовольствие! Многие отчаянно чихали. Но мы ведь ехали служить! Так что, терпи, мудила-рекрут.
Наконец, колонна из трёх грузовиков въехала в часть. Сразу вспомнился военный фильм мальчишеских лет: ну, точно концлагерь – с вышками и колючей проволокой на заборе. Только овчарки не тявкают. Было около двенадцати ночи.
Всех разгрузили, построили, провели перекличку, посчитали. Мы уже превращались в обезличенные манекены, к которым пристроили сержантов. И повели вперёд, к ратным подвигам.
Заводят в почти пустое, с тусклой лампочкой, помещение, начинают стричь наголо. Прощай длинные хайры[4] рокера! Я вижу, как другие как бы братья по оружию тоже обречённо следят за тем, как их волосы устилают пол. Чёрные, каштановые, рыжие. Отныне мы одного цвета – лысого.
Затем оторопелых в непонимании типов запихивают под душ. Ополаскивание – на минутку. Когда выходим, гражданского шмотья нет – оно выкинуто куда-то туда-то. Выдаются без особых примерок гимнастёрки, брюки, ремни, нательное бельё и панамы. Ведут в казармы, каждому указывают спальное место из кроватей в два яруса. «Отбой!» – звучит первая в моей жизнь команда. Свобода исчезает в сонной пелене…
* * *– Подъём! – ножом прорывается ор в полотне сладкого сна. В ужасе просыпаюсь, пытаясь сообразить, где нахожусь – ведь только что приложил ухо к подушке! В окнах брезжит серый утренний свет.
Сержант зажигает спичку, без обиняков командует:
– Одеть всем брюки и строиться, пока горит спичка.
Мы трясущимися руками натягиваем штаны, завязываем шнурки на ботинках. Никогда не думал, что это будет даваться с трудом. Пальцы не слушаются! А сержант уже приказывает выскакивать наружу. Подгоняет тоном, которого боишься ослушаться:
– Живо, живо! Бегом за мной!
Мы выбегаем за пределы части и мчимся в степь. Вокруг слышен топот и учащённое дыхание. Бежим десять минут, двадцать, двадцать пять… Бег по пересечённой местности – не бег по асфальту. Я замечаю, как многие начинают отставать, переходят на шаг. Кто-то схватился за бок – ему не хватает дыхания. Другой схватился за ногу – натёр ступню новой тяжёлой обувью.
– У нас раненые! – кричит сержант. – Десантники своих не бросают.
Он показывает, как два солдата должны скрестить руки. Получается миленькое креслице для хѐровых «раненых». Вся команда разворачивается и бежит в обратном направлении, неся парочку недоделанных идиотов. Когда одни устают, тех пересаживают на другое «кресло». Все злы, а «раненые» чувствуют себя, ну, очень виновато…
Тем же утром становится понятно, что мы в «учебке» рядом с Ферганой. У нас ни минуты покоя, мы в постоянном движении. Дрессируют по полной программе! Постоянно занимаемся физухой, отжимаясь или ковыляя гуськом. Последнее развлечение ещё то! Ты ползаешь вприсядку по буеракам с руками на затылке. Даже несмотря на мои плотные сношения с «королевой спорта», к вечеру мышцы бёдер болели невыносимо.
В другой раз прыгаем с учебной вышки. Кажется, это пострашнее, чем с самолёта: там всё видишь издалека, как в кино, тут земля совсем рядом – до неё с тренажёра лететь десятка-полтора метров, и чудится, разобьёшься насмерть! Впрочем, с «кукурузника» тоже было жутко впервой прыгать. Да куда деваться. Терпи, новобранец косорылый (это нас так ласково сержанты величают).
Через три дня я возомнил себя крутым перцем. Мне был ненавистен головной убор с дурацким названием «панама», поля которой уныло опускались вниз. Поэтому вогнул донышко панамы внутрь и задрал поля у неё – ну, настоящий ковбой в сомбреро.
– Что за пое…ень?! Совсем оборзел! – в ярости заорал сержант, когда увидел мой прикид. Я почувствовал себя кроликом перед змеёй. В следующую минуту панамка оказалась в его руках. Ударом кулака сержант вывернул донышко наружу, после подкинул головной убор и ногой придал ему ускорение. Панама сделала дугу в воздухе, словно «летающая тарелка» и приземлилась, подняв облачко жёлтой пыли.
– Ещё раз увижу такую х…ню, будешь отжиматься до бесконечности! – определил сержант мне наказание. – Понял?
– Понял… – пролепетал я.
– Зато я не понял! – взорвался сержант и схватил меня за шиворот: – Как правильно отвечать?
– Так точно!
– Быстро скройся, чтобы не видел тебя.
К сожалению, сержант запомнил меня отлично. И через неделю, подозвав, спросил, где я учился. Я скромно упомянул о двух курсах медвуза.
– Самое то! – обрадовался сержант. – Сейчас производится набор в военную школу поваров. Туда и попи…дуешь.
Почему меня? Таинственную связь между медициной и кулинарией я не улавливал (как и когда-то с сельхозработами). Но начальство намного дальновиднее подчинённых, потому с ним небезопасно спорить. Возможно, сержант невзлюбил меня за наглость с панамой, но тот минус сейчас превращался в плюс – как-никак буду поближе к продуктам. Честно говоря, хавать хотелось всегда. Да и спать тоже. Вечный бой им подавай! Внутренний голосок поддакнул: «Ага, вечный сон. Бой нам только снится».
Ещё через три дня моё бренное тело тряслось в машине, направлявшейся в Чирчик. О таком населённом пункте, я даже не подозревал. Что ж, буду расширять познания в географии. Отныне я нахожусь в военной школе поваров, или кратко – ВШП.
И да! Я так и не понял: почему же советский солдат не смеет выглядеть красиво и молодцевато? Ага, носи на здоровье натянутую чуть ли не на уши панаму и форму мешком. На фоне имбецилов воинское начальство чувствует себя намного лучше, мудрее. А если все будут умные в армии, кто станет воевать?
* * *После отбоя волей-неволей перед глазами возникало недалёкое прошлое. В первую очередь, я думал всё о том же. О НЕЙ.
Как же! «Какая девушка вас будет ждать после такой песня?». Впрочем, меня и так не ждёт никакая гёрла[5], с песней или без.
Моя любовь… Тягучая боль, которая по-прежнему саднила в сердце. Пора бы забыть о ней в суете армейских шараханий, да не получается.
Странно, однако. Из-за какой-то ничтожной ху…ни твоя судьбинушка кувыркнулась коту под сраку! Хотя разве любовь – ерунда? Нет, постой! Любовь – это мука и радость в одном флаконе. О, я считал себя дюже опытным в амурных делах.
Сероглазая и улыбчивая девчонка возникла на горизонте как бы случайно. Мне тогда только исполнилось пятнадцать годков. Ира жила в пригородном посёлке Чапурники, где была лишь семилетка. И мать отправила её учиться дальше в город. Таким образом у моей бабули появилась юная квартирантка.
Едва я прослышал о поселившейся симпатуле, как мой не поддающейся дрессировке член, словно антенна, повернулся в определённую сторону. Я не виноват, что головка моего дружка вечно думала отдельно от основной тыквы. Впрочем, о чём ещё можно фантазировать в такие-то годы? Только как перепихнуться с любой подвернувшейся чувихой.
Уже на следующий день я отправился проведать старушку. Та весьма удивилась трогательной заботе внучка о её здоровье, но душевно приняла. Мы пили чай, разговаривали разговоры о жаркой погоде, которая никак не унималась к сентябрю. Заодно я с удовольствием трескал на халяву трюфельки и таил надежду, авось бабуля расстрогается и ещё подкинет деньжат.
Ирочка всё мелькала своей упитанной попкой и уже набухшими грудями то на кухню, то в свою комнату. Иногда хитровато поблескивала глазками в нашу сторону. О-о, она была ещё та тёлка из сельской местности – кровь с молоком. И как мне, такому охальнику, не сорвать соблазнительное яблочко?
Моя родственница по материнской линии пригласила девушку разделить чайную церемонию по-советски – с вареньем и печеньем. Ирочка достойно отказалась. Впрочем, отягощённая солидным опытом, бабуля уже просекла опасную фишку с моей стороны. И в уме (как я догадался позже) решила не давать спуска похотливому внучку. Нет, я не смею сказать, что между нами возникла та самая роковая любовь с первого взгляда. Отнюдь! Будем честны. Меня, конечно, сильнее интересовала, как засадить э-э… какой-нибудь подружуле всю аллею цветами (из арсенала шуток другана Женьки Морквина). Однако ценный зачин был положен. В тот вечер мы успели – пока скромно, почти как на приёме у английской королевишны, но с юморком – поболтать. У Иришки был бойкий язычок, что мне очень понравилось. И я уже надеялся… На что? Сам не пойму. Любовь? Да нет! Настоящему пацану западло гнуть извилины о ПОДОБНЫХ ВЕЩАХ.
Увы-увы. Маманя отправляла меня в Кабардинку на Чёрное море. Правда, я поехал чуть позже срока – задержался на месяц, так как неправильно оформили медицинскую карту. В санатории-интернате дети железнодорожников Приволжья одновременно укрепляли чахлое здоровье и учились. Там я и должен был оттрубить годовой срок в восьмом классе.
Бывал в Кабардинке и раньше – в пятом классе, потому поехал бы с удовольствием. Ведь сплошная же благодать: нависающие над морем горы, зелень южных лесов, галечный пляж, яхты и корабли на бликующей глади. А какие ароматы! Стойко-йодистый запах выброшенных на берег водорослей или, наоборот, едва уловимые, но приятные, запахи пышных цветов. Ещё пепси-кола – негроидный лимонад, от которого перехватывало дыхание! О, это солнечно прекрасное время! Да только было жаль оставлять у бабули наливное яблочко, я даже ничуть его не надкусил. Но минул сентябрь, и я уехал. Продолжение школьного романа не получилось, и всё вроде бы забылось.
Вернулся в начале июня следующего года загорелый и окрепший. И таил подспудно надежду: «Возможно, застану Иринку у бабули?». Нет, она уже сдала школьные экзамены и отбыла в родную Тьмутаракань (да-да, я правильно написал это слово – это места, где много тараканов).
И вдруг… Моя мамочка, знавшая меня, как облупленного, невзначай в конце июля обронила:
– Скоро Ирина будет опять жить у бабушки. Мать её приезжала насчёт жилья. Девочка поступает в технологический техникум.
А-а-а!.. Это сообщение подняло меня в какие-то эмпиреи! Ежедневно стал наведываться к бабуле, пока она не осекла:
– Хватит бегать! Приедит квартирантка в воскресенье.
Естественно, я, как молодой кочет, встал в стойку, заметив новую пеструшку. Как-никак, наблюдал за куриными «ухаживаниями» в бабулином дворе.
Она приехала. Встретились. Поначалу показалось, что Ира, вообще, не слишком рада встрече, так себе. Нет, она была проста озабочена собственным поступлением в техникум. Иногда по утрам к ней приезжала её мать, и они отправлялись в центр. Через две недели Ира сдала экзамены, и её лицо было счастливо. Я тоже за неё обрадовался. И в то же время загрустил: с началом занятий в техникуме она должна была переехать в очень далёкий район города и жить в общаге.
И всё-таки между нами уже засверкали зигзаги электроразрядов! Ток понёсся по проводам, динамо страстей закрутилось не на шутку. Оставалась ещё одна свободная неделя.
Однажды предложил Иринке:
– Айда в наш парк.
Мы отправились по самой узенькой улочке в Сарепте. Точнее даже, это был проулочек под названием Тихий; он аппендиксом тянулся между одноэтажными домами и личными огородами, за ними уже высился кирпичный забор судоверфи, выходившей к затону.
Чтобы показать Иришке, что мой посёлок не хухры-мухры, повёл её не через второстепенный проход в парк, а через две улицы к главному входу, деревянная арка которого возвышалась аж на три метра. Это, действительно, было ловкое место отдыха! Асфальтовая дорожка овалом охватывала центр, где среди густых деревьев аллея приводила уже к святая святых – гипсовому Ленину на высоком постаменте. С важностью туземца я показывал: