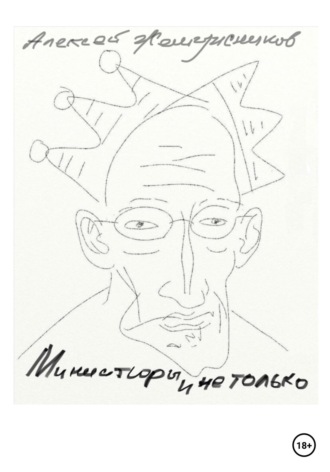 полная версия
полная версияМиниатюры и не только

Алексей Жемчужников
Миниатюры и не только
За картохой
Лежит Филимон, зевает, в потолок смотрит.
– Филимон, выйди вон.
– Это почему?
– Зеваешь громко.
– Могу и не зевать
Филимон на бок повернулся. Храпит, посуда звенит.
– Филимон, выйди вон.
– Почему это?
– В ушах от тебя звенит.
Филимон встает, натягивает штаны, папиросу закуривает.
Хочет Люсю потискать.
– Руки!
– А вон выйти – куда?
– А вон туда, в дверь. На базар пойди, картохи принеси.
Филимон – каланча двухметровая – на базар идет.
Шаг – километр, другой – километр.
На базаре народ плечами толкается.
– Филимон, яблок возьми!
– Филимон, капустка!
– Филимон, огурчиков хошь?
– Не. Не хочу. Мне б картохи
– Жареной? Пареной? С сальцой?
– С сальцой давай.
Взял Филимон котелок картохи с сальцой.
– Филимон, капустка!
– Давай!
– Филимон, огурчики!
– Давай!
– Филимон! Грибочки, курочка, колбаска
– А «свойская» есть?
– А то!
– Все давай! А серьги с жемчугами есть?
– Все есть!
– Давай!
Шаг – километр. Другой – километр.
Филимон котелок с картохой на стол ставит.
Огурчиками, грибочками, колбаской, курочкой скатерку украшает.
«Свойскую» – в центр всей композиции.
– Люсь, полюбуйся!
– Хм.
Филимон серьги с жемчугами жене протягивает.
– Тебе.
Люся серьги примеряет, к Филимону прижимается. Жемчуга что две луны в розовых ушках.
– Не проживешь ведь без меня.
– Не проживу.
Семечки
Спотыкается Ефим, спешит, вприпрыжку идет.
– Эй, Ефим, куда спешишь?
– Спешу куда надо.
Приспешил куда надо Ефим.
– За чем очередь? Что дают?
– Семечки. Каленые и соленые.
– Насыпь сто горстей каленых
– Куда тебе столько?
– В правый карман сыпь! Теперь сто горстей соленых.
– А этих куда столько?
– Этих в левый карман сыпь, не жалей.
Идет Ефим семечки лузгает, шелуху с бороды пятерней снимает.
Солнце яркое, небо синее, дорога пыльная.
Припылил Ефим домой, жену зовет:
– Жена! Ау!
Жена у печи, индюка варит.
– Ау, Ефимушка, что гостям купил?
– Семечек двести горстей для гостей!
– Куда столько?
– В гостей уйдет! Когда еще индюк сварится.
Глянь, жена, дорога пылит – знать гости идут.
Кидай скатерть на стол!
На пороге – Маша с Яшей, Коля с Полей, Вася с Олей.
– Не ждали?!
– Просим, просим. Как не ждали! Проходите, полузгаем.
Индюк варится, гости семечки лузгают.
Час лузгают, два лузгают. На третий час у Яши, Коли и Васи в горле запершило
Ефим – в подпол за наливочкой, глотку смочить.
Гости глотку смачивают, Ефим радуется, жена у печи индюка варит.
Маша, Поля, Оля песню затянули. Яша, Коля, Вася больше наливочкой интересуются.
К ночи индюк сварился. Гости от пуза наелись, наливочки напились и на лавки повалились.
Дрыхнут без задних ног.
И напрасно.
Не тот Ефим человек, которому верить можно. И жена его не та.
Ефим с женой поснимали с гостей, перстни, бусы, шелка, кошельки и деру дали.
Хорошо, что в живых оставили Машу с Яшей, Колю с Полей да Васю с Олей.
Приглянулись они Ефиму в городе. Думал – иностранцы.
Поговорил – туземцы, богатенькие. В гости позвал – все как обычно у Ефима.
Был Ефим, стал Аким.
Спотыкается Аким, спешит, вприпрыжку идет.
– Эй, Аким, куда спешишь?
– Спешу куда надо.
Приспешил куда надо Аким.
– За чем очередь? Что дают?
– Семечки. Каленые и соленые.
– Насыпь сто горстей каленых
Вот и попался Аким на семечках. Ждали его.
Дедуля-бабуля
Бабкин дед из грядки морковку дергает.
Толстую – направо, тонкую – налево.
– Дед, а дед! Ты делом лучше займись.
– А чего делать-то?
– Петуха поймай. Курятинки захотелось.
Дед с топором носится за петухом.
Петух – по грядкам, дед – за ним.
Петух в дом – из дома. Дед – кубарем с крыльца.
Петух – на забор, дед – под забор.
Удрал петух.
Бабка видит, что супчик куриный сбежал и кумекает:
– Дед, у соседа муки займи. Пирогов напеку.
Дед – к соседу.
– Сосед, дай муки, а я топор заместо оставлю.
Отсыпал сосед деду муки. Дед – к бабке.
– Вот мука. Пеки пироги, бабка!
На пироги внучка приехала. Как знала.
Студентка в джинсах. Танечка.
Внучка у них – фифа городская. Этакая штучка с запросами
– Дедуля-бабуля, а Петя где? Почему меня не встречает?
– Убежал Петя.
– С чего бы это?
– Сдуру, наверное. Глупая птица.
– Может, вы съесть его хотели?
– Что ты, внученька! Разве можно съесть твоего петуха?!
У деда и топора-то нет.
– Ну, смотрите, дедуля-бабуля! Не прощу и не приеду, если Петю съедите!
Поели пирогов с морковкой. День проводили и спать разошлись.
Дед с бабкой не спят. Все ворочаются и вздыхают.
Все кумекают – не простит им внучка. Не приедет, если петуха съедят.
С первыми лучами, петух на заборе прокричал о начале нового дня.
– Вот твой Петя, Танечка! Нашелся! А ты плохо о нас подумала.
Не боится петух деда с бабкой.
Понял куриными мозгами, что до седой бороды теперь доживет, как дедуля.
И кукарекает о том на заборе с утра до ночи.
Медведь
Пролог
Маленький Митя подошел к окну и столкнул медведя.
Такого большого, бурого и лохматого, он выбрал сам в день рождения в магазине игрушек. Интересно было посмотреть, как упадет медведь с подоконника вниз.
– Медведь!
Женский крик взвился так высоко, что более походил на пронзительный свист.
Мальчик забрался на стул, лег животом на подоконник и высунул голову на улицу. Медведя нигде не было.
***
Зверь опустился на четыре лапы, наклонил голову, вышел на опушку леса и побежал. Первые двадцать шагов он бежал словно бы нехотя. Медведь был необычайно большой, и могло показаться, что он никогда не разгонится. И все же медведь разогнался. Неуклюжая трусца его незаметно перешла в рысь. Мощные лапы выбрасывались вперед, увеличивая шаг. И лохматая бурая туша неожиданно быстро набрала скорость, сбилась с иноходи, и медведь перешел в галоп.
– Медведь!
Женский крик острым ножом разрезал плотный лесной воздух.
У Митяя заложило уши, и он обернулся. На поляне никого не оказалось.
Был один лишь Митяй и медведь бежал на него.
Митяй знал, что убежать от медведя нельзя и все же побежал. Побежал без оглядки. Оглянуться назад – потерять секунду, а вслед за секундой и саму жизнь. Ах, как же быстро бежал Митяй.
Пятки горели, и сердце отчаянно колотило в грудь.
Каждой мурашкой своего тела он понимал, что медведь догонит его.
Митяй летел, не касаясь земли, к одинокой молодой березе. Пятки жгло. Кровь била толчками изнутри по ушам.
– Господи, успеть бы!
Митяй взлетел на березу и ящерицей побежал вверх по стволу.
Уже высоко над землей, среди гибких ветвей, он смог наконец замереть и посмотреть вниз.
Медведь лез за ним.
Высокая, стройная, белая Митяй полюбил ее сразу.
Он лез все выше и выше, обнимал гладкий ствол и знал, что спасется – береза сказала ему.
Никого и никогда так крепко не обнимал Митяй как эту березу, которая так же обнимала его, не давая упасть.
Высокая, сильная стройная, она не ломалась и гнулась под тяжестью тел Митяя и зверя.
Плотная кудрявая крона, в которой только что ящерицей струился Митяй, мешала медведю.
Медведь застревал меж гибких ветвей и проламывался сквозь частые. Он мешкал, отставал и соскальзывал.
Когда береза склонилась дугой, грузная туша зверя не удержалась, сползла со ствола, повисла на передних лапах… и сорвалась вниз.
Гулко ударившись о землю, медведь тут же вскочил, обошел вокруг место падения, встал на дыбы и содрал белую кожу с березы, оставив на теле ее глубокие, длинные, рваные раны.
***
Эпилог
Митяй давно уж не молод. Он глубокий старик, и ему много лет. Очень много.
Женский пронзительный крик, взвившийся до небес, часто будит его по ночам, и Митяй просыпается.
Много лет этот сон беспокоит его.
Нет. Нельзя больше спать. Уже сил не осталось бежать от медведя.
Под утро старый Митяй уснул.
Тело его нашли под березой в лесу.
Могучий ствол старого дерева хранил на себе черные борозды – след железных когтей медведя.
Костик, или Сапоги против тельняшки
Костик появился в наших краях на черном «Форде» прошлой весной.
Обошел он свой будущий дом со всех сторон, окинул взглядом спящую после зимы деревню, прищурился на Волгу – блестит! Похлопал, пошелестел ладонями друг о дружку.
– Оно!
Следом Костик привез жену и гору необходимого для жизни имущества.
Заселились они с Клавой в совхозный дом, пустой и холодный. Стекла вставили, двери навесили, трубу побелили, печь затопили.
Дым из трубы идет – в доме люди живут. Со стороны посмотреть – и хорошо, и приятно.
Пожили они в деревне, разведали кто чем дышит, каковы запросы трудящихся и поставили в березовой роще новенький ларек. Свили себе Костик и Клава гнездышко, забором границы обозначили и родственников позвали.
В сеннике поросенок хрюкает – вес набирает. Куры дорогу перед домом клюют. Наладилась у них жизнь.
Раз в две недели Костик катается на «Форде» в город, скупает в магазинах необходимый продукт и снабжает жену товаром.
Клава уходит с утра на работу. Она торгует в ларьке пивом, махоркой, чипсами и фисташками. После обеда Клава закрывает ларек, приходит домой и занимается любимым делом – пилит мужа.
А пилит Клава, как и дышит, – легко.
Ходит перед Костиком и говорит, и говорит, и говорит.
Между слов фиалки на окне польет, пыль с телевизора смахнет, на диване полежит. И грудь ее плавно вздымается – в такт дыханию.
Костик не столько слушает, сколько смотрит, как Клава красиво дышит.
– Костик, ты для чего голову налысо побрил?
– Волос глуп, он везде растет. Вот я его и… того, – смотрит на Клаву Костик.
– Бани нет. В туалете – лед. Храпишь как трактор.
– Я храплю?! Да сроду не храпел!
– А чего сиднем сидишь и мхом обрастаешь?
– Товар жду.
– Да кто ж тебе, сидню, товар в дом принесет? Оторви «булки-то» от стула и в город поезжай.
Костик отрывает от стула «булки», потягивается, зевает, лязгает крепко зубами и хлопает Клаву пониже спины:
– Ну, я пошел.
Костик мужик крупный, сильный, предприимчивый. Вот за все это Клава его и любит.
Сама Клава некрупная, несильная и очень привлекательная. За то Костик и любит ее.
– Куда ты пошел?
– К брату, – Костик по старой армейской привычке стряхивает портянки. Мотает он их ловко, без складок. Проталкивает ноги в кирзачи и прыгает на месте с притопом. В сапогах – плотненько, как он любит.
Через стену живут брат Костика с женой. Совхозный дом, он на две семьи.
Клава слушает топанье мужниных сапог за стеной и скучает.
Два брата сидят на крыльце. Один белявый, другой – чернявый.
Белявый это – Костик.
Брат его слюнявит полоски газеты, крутит козьи ножки и трамбует махорку шляпкой гвоздя.
В тот год по всей округе первым делом исчезли конфеты. За конфетами улетучилась колбаса, а вслед за колбасой пропали в одночасье и сигареты с папиросами.
Как и не было. И вся курящая братия перешла на махорку.
Крутить козьи ножки, друзья мои, настоящее искусство. Это вам не картины маслом писать и не изюм из пудинга выковыривать.
Меня, например, этой премудрости тесть научил. Сам-то тесть никогда не курил, но будучи еще сопливым мальчонкой крутил козьи ножки своему деду. Стариковские деревянные пальцы могли только мять или рвать крупными клочьями газету. Куда там – тонкие трубочки крутить.
Чувствуете, откуда дымком табачным потянуло?! А потянуло дымком из солдатского окопа Первой Мировой. Дед моего тестя закурил именно в том окопе. Серьезная была школа.
Сидят братья на крыльце, стало быть, ноги свесили, курят.
– Все небо коптите?
Это жена брата Костика дверь приоткрыла и нос на улицу высунула воздух весенний понюхать.
Мужики жмурятся. Жмурятся они не столько на солнце, сколько от едкого дыма.
Дни стоят теплые. Хорошо братьям. Так бы и сидели.
Да где там. Не дадут! Обязательно будут мешать. Обязательно что-нибудь произойдет неприятное.
Как зовут брата Костика, никто в деревне не знает. И как жену брата Костика зовут, тоже никто не помнит. Странно, конечно. Но так уж получилось.
– Слышь, Костик, может, сети поставим?
Брат Костика плюет на палец, «бычкует» самокрутку и прячет за ухо.
– Да где тут сети-то ставить?
– И то, – соглашается брат Костика. – Негде.
Сидят жмурятся.
По дороге мужик идет. Мужик согнулся под тяжестью большого мешка. Мужик молодой, знакомый.
– Димка, что ли? – Костик напрягает зрение. – Точно. Димка!
Молодой мужик Димка останавливается напротив братьев.
Скидывает мешок со спины, переводит дух.
– Здорово, мужики! – Димка улыбается.
– Здоровее видали. – Братья нехотя отрывают «булки» от крыльца, подходят к мешку.
– Пустой мешок стоять не будет. Признавайся, что в мешке?
Димка с гордостью раскрывает мешок
А в мешке: щуки – с руку, лещи – лаптя́ми, судаки с клыками жабры топорщат!
– Где взял?!
– Да напротив вашего дома сетку поставил.
– Нашего дома?!
Братья выражаются. Выражаются бурно и кудревато, в пять этажей.
На шум выбегают Клава и жена брата Костика.
Женщины заглядывают в мешок, переполняются восхищением и завистью одновременно.
– Дим! Покажи ты этим дурням место, где рыба такая плавает!
– Вот! – Димка протягивает руку в сторону дома, где живут Костик, Клава, брат Костика и жена брата Костика.
– Прямо за вашим домом рыба такая и плавает!
Димка подлезает под мешок, берет груз на спину, крякает и топает к большому кирпичному дому.
– Он там живет. А я – по соседству живу. Димка мой брат.
На следующий день, пока солнце не встало, Клава выпроваживает Костика на рыбалку. Жена брата Костика тоже выталкивает своего мужа в дверь
Скоро рассвет. А пока белым облаком берег накрыт.
Ива прозрачными росчерками вырастает из молока.
Тихо. Лодка качнулась под рыбаками. Братья отчаливают и скользят над водой в тумане. И слышно только, как тихо скрипят весла в уключинах.
Братья ставят поперек Волги сети, так же тихо возвращаются и прячутся у воды в кустах.
Краем уха можно уловить в зарослях ивняка бульканье по стаканам и хруст огурцов на крепких зубах.
Но это если прислушаться.
А так, ничего не слышно и никого не видно. Хорошо братья спрятались. Сторожат как положено.
Ближе к полудню проходит на катере рыбнадзор и собирает все сети.
Выглядит эта процедура примерно так. Идет на малой скорости по реке небольшой катер. За катером тянется трос и цепляет крючьями со дна реки все что зацепится.
Братья с грустью провожают взглядом удаляющийся катер.
Ночью Костик сотрясает Димкину дверь обутой в кирзач ногой и тут же соскакивает с крыльца на всякий случай.
Дверь распахивается.
Ступенькой выше – Димка в тельняшке. Костику в нос упирается грудь моряка.
– Костик! Так раз так! Звонок видишь?!
– Разобраться надо! Твоя собака моих кур драла! Помнишь?
Димка отколупывает от тельняшки налипшую чешую.
– Блэк, что ли? Так мой Блэк еще осенью пропал.
Всем соседям, чьих кур потрепал или, хуже того, сожрал с потрохами красавчик Блэк, Димка выплатил компенсацию. Кому косу отдал, старинную с клеймом мастера, кому – крыльцо поправил, кому – дров привез.
Костик в глубине души понимает, что тема с курами давнишняя и потому сомнительная. Димка хоть и «добер бобер», но до поры. Тут по-умному надо.
– Двух кур мы с Клавой не досчитались осенью!
Костик стрижет двумя пальцами воздух у Димки перед носом.
– Двух кур не досчитались! А ты знаешь, сколько курица живет? Не знаешь! Десять лет!
Димка провожает взглядом двухпалубный пароход. В ночи слышно, как плюхают по реке его большие лопасти.
Димка смотрит на желтые огни и не слышит Костиковы причитания. Димка – там, на пароходе. Любимая картинка из детства. Ему десять лет. Он обнимает подушку и смотрит через иллюминатор на плывущие мимо огни. Скоро колесник подаст голос.
Вместо гудка Димка слышит голос Костика.
– А за десять лет две моих курицы знаешь сколько могли бы снести яиц?! А цыплят сколько могло вылупиться из этих яиц?!
– Костик, хочешь, я тебе сети свои отдам? Сто метров!
Костик понимает, что его затея с курами удалась, но виду не подает.
– Сети, говоришь? Двести метров и спининг! – ёКостик повышает ставку.
– Спининга у меня нет. Удочка есть с американским поплавком!
– Поплавок точно американский?
– Точно!
– По рукам.
Костик забирает у Димки двести метров сетей и удочку с американским поплавком взамен утраченных кур и неродившихся цыплят.
Всю следующую неделю, день за днем, Костик со своим братом «седлают» лодку и бороздят Волгу. Бороздят и вдоль, и поперек, и наискосок. Волга у нас неширокая. Метров пятьсот, не более, если от берега до берега посчитать. Мальчишки, из тех что покрепче, переплывают туда и обратно саженками без отдыха.
И сколько ни ставят братья Димкины сети, ничего не вылавливают. Впустую все!
Нет. Рыбалка это не для Костика. Не его стихия – вода.
Вот Димка – другое дело! Димка на Северном флоте служил.
В Баренцевом море тельняшку полоскал, на палубе папиросы курил, против ветра плевал и бескозыркой чайку с лету сбивал.
И может быть, потому всякая речная рыба к Димке со всем почтением и подобострастием, как матросы – к адмиралу. С поклоном и на сковородку.
А Костик что?
Костик – он сапог на портянке, коммерсант и снабженец.
– А и ладно, – Костик махнул рукой. Рыбы в Волге все равно теперь нет. Димка всю выловил.
Паша
Иван Сергеевич потянул за край любимый клетчатый плед и залез в теплую душную норку холодным носом.
Тощие белые ноги его оголились почти до колен.
– Куриные, – критически оценил картинку с голыми ногами Иван Сергеевич и закрыл глаза. Ему было хорошо в любимом кресле, под любимым пледом, у любимого камина. Он сызмальства окружал себя исключительно любимыми предметами.
– Тук-тук.
– Открыто.
Иван Сергеевич спрятал голые ноги под плед. Он стеснялся кривых пальцев на ногах. И даже соврал когда-то и кому-то, что, мол, станину от гаубицы-пушки случайно опустил себе на сапоги, когда служил в армии. А в сапогах ноги его были. Хрусть – и поломал пальцы.
Оправдание кривым пальцам прозвучало тогда мужественно и даже отчастигероически.
– Тук-тук.
– От-кры-то!
В дверь просунулась крупная, довольная собой голова.
– Таки я пройду? Как говорят у нас в Одессе.
Голова застрекотала в дверях, не успев переместиться в тепло, где приятно проводил свои утренние часы Иван Сергеевич.
– Я теперь великий поэт, как Пушкин и Есенин! Знаю всех, знаком с кем надо, вхож туда, вхож сюда, везде меня ждут и все меня хотят. Таки я пройду?
Иван Сергеевич узнал говорящую голову. О встрече они договорились еще вчера по телефону.
– Проходи уже, Паша. Холодно!
Голова, не умолкая, прошла в дом, крутанулась на пятках, прикрыла за собой дверь. Снова крутанулась.
– Двадцать семь лет не виделись! Представляешь?! Сколько лет столько зим! Обнимаю! Ты пишешь? Что ты пишешь? Зачем пишешь? А я, брат, на бумаге пишу карандашом. По старинке, как положено. Классика! Думаю, на перо гусиное перейти. Смотри, что у меня есть!
Подмышкой у говорящей головы, которую Иван Сергеевич назвал Пашей, раздувался переполненный бумагами портфель.
– Рукописи в подлинниках!
– Портфель, поди, имитация?
– Что ты, что ты?! Все натюрлих и русиш-культуриш! Кожа крокодила! Директор Цума-Гума лично мне одному с поклоном, со слезой и навеки!
Говорящая Пашина голова крепилась на короткой шее, которая крутила головой на мясистом торсе. Руки-ноги были так же коротковаты и добирали недостающую длину в толщине.
– Я по делу к тебе. Тема есть! Затем и пришел, – трещала Пашина голова, кружась вокруг кресла с Иваном Сергеевичем.
– Вот. Смотри, сколько стихов у меня! Пушкин, Есенин и теперь – Я! Не хуже, а даже лучше! Теперь так никто не пишет. Сборник своей поэзии хочу. Многотомник. Нигде моих стихов нет! Нигде! Только в этом портфеле!
Паша похлопал по крокодиловой коже.
– А народ спрашивает, где почитать. И меня от этого забирает! Народ спрашивает, а меня забирает! А что я ответить могу народу? Нетути нигде моих стихов, дорогой ты мой народ! Нетути! Нарасхват я весь. Тебе одному как на духу.
Иван Сергеевич силился понять: как это – стихов Пашиных нигде не напечатано, а народ с ног уже сбился в поисках
Слова вылетали из Пашиной головы пулеметными очередями. Иван Сергеевич обреченно слушал.
Он старался, он очень старался не слушать и даже заставил себя наблюдать за большим пауком, которого Елизавета мечтала извести. Сколько раз она умоляла убрать с глаз долой эту мерзость.
И каждый раз Иван Сергеевич внимал мольбам жены молча. Про себя он решил-таки дать шанс этому жутковатому пришельцу.
Паук возник на потолке из ниоткуда неделю назад. Облюбовал себе угол за дымоходом повыше, где сплел паутину, и замер в ожидании жертвы. Вот он сидит!
Огромный, черный, с бледным крестом на спине.
Паша трещал, не давая Ивану Сергеевичу сосредоточиться на пауке.
Еще теплилась надежда, что влетевшее в одно ухо вылетит в другое каким-нибудь чудесным образом.
Но не тут-то было! Слова точнехонько влетали в аккуратно оформленные маникюрными ножинками скважины ушей, гулко метались в черепе и никуда не вылетали.
Иван Сергеевич, оставаясь внутри пледа, сел вертикально, склонил голову на правый бок и постучал себя по левому уху
Дохлый номер. Не вылетело ни единой, даже самой никчемной буковки. Все застряло в черепе.
Иван Сергеевич вдел ноги в шлепанцы и пошаркал до холодильника. На стол были выставлены – початая «Столичная», рисовый пудинг отложенный на обед, две тврелки, рюмки, вилки. Иначе с поэтом было не разобраться.
Пашины глазки при виде «Столичной» замаслились. Он придвинул к столу свободное кресло, на кресло водрузил портфель и уже на портфеле устроился сам. Поерзал и вроде как уровнялся по высоте с Иваном Сергеевичем.
– Узнаю графские вилки! – Паша «хлопнул» рюмку и поковырял пальцем изюм в пудинге.
– Знаем мы вашу Мурляндию с холодными носами, господин Иван Васильевич Бунша!
– Какой еще Бунша? – Иван Сергеевич выпил водочки вслед за гостем.
– Ну ты же у нас Рюрикович, как я помню. А я, брат, все помню!
Паша коротко потрясся телом, беззвучно смеясь.
– А мы, понимаешь, пока хвосты коровам крутили да на гуслях ламбадили, так все в генералы и вышли. ЦК ВЛКСМ, ОПРСТ – знаешь? Мы, брат, везде наследили. Было ваше, стало наше! И все вы у нас вот где!
Паша сжал в кулаке графскую вилку:
– Вот где!
– Нарышкины мы, а не Рюриковичи, – Иван Сергеевич неуверенно улыбнулся и принял игру. Однако игра продолжалась недолго и закончилась сразу, едва начавшись.
– Да наплевать мне на вас, товарищ Бунша. Слышь, Сергеич, хочешь я на твои рассказы пародию напишу? Ухохочешься!
– Да не пишу я ничего такого, – Иван Сергеевич подобрался, напрягся и мысленно встал в боевую стойку.
– А ты не ерепенься. Пишешь-пишешь, по глазам вижу. Все пишут, и ты пишешь. А цензор внутренний у тебя есть? Нет! Путь писателя, брат, тернист и ухабист! Запомни это и не пиши! Вот меня и дубиной стоеросовой по загривку, и рылом в землю, и поганой метлой из всех щелей выметали, а я – вот он. Перед тобой! Цел и не вредим! Хочешь стихи мои почитать?!
– Хочу, да, – Иван Сергеевич произносил слова куда не так скоро, как его собеседник. Слово – пауза – слово – пауза. Он проглотил, наконец, пережеванный в пюре пудинг.
– Читай, Паша. Ждем-с.
– Во-о-о-т! А я что тебе говорил! Все хотят! Все спрашивают, все интересуются, как найти, где почитать! Вот и ты просишь. И меня это, знаешь, брат, забирает! Пушкин, Есенин и Я! Никто так не пишет, кроме нас троих. И все это знают. И ты теперь знаешь. А я кайф ловлю. Вот ты можешь, как я, писать? Не можешь! И ни одно свиное рыло так не может писать. Нас всего только трое – как Маркс, Энгельс и Ленин.

