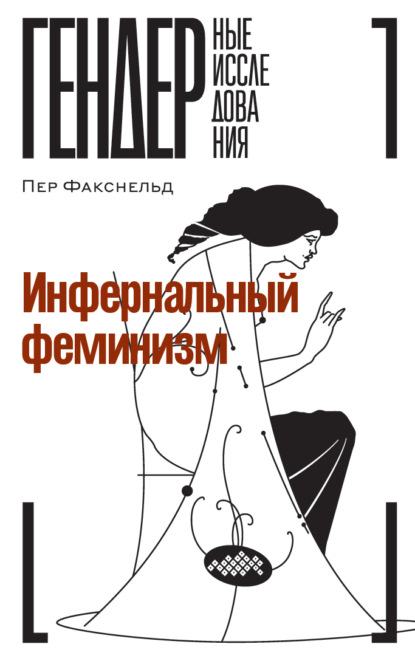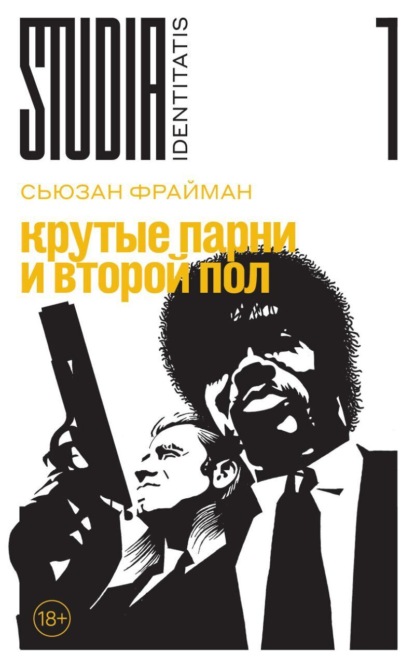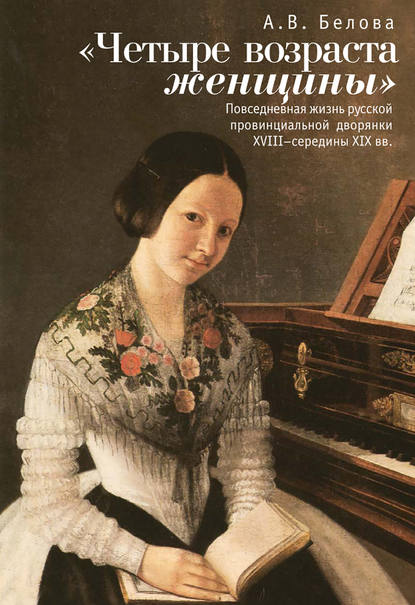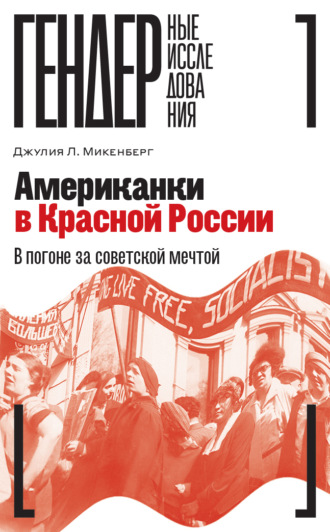
Полная версия
Американки в Красной России. В погоне за советской мечтой
Зато Горький нашел пристанище и теплый прием в клубе «А» – так называла себя группа художников и интеллектуалов, совместно проживавших в особняке по адресу Пятая авеню, 3 в Нью-Йорке. В этот «клуб» входило несколько бывших обитателей Университетского поселения, откровенные сторонники русской революции. В их числе были Эрнест Пул, Лерой и Мирьям Финн Скотты и Мэри Хитон Ворс. Клуб «А» стал чем-то вроде неофициального «пресс-бюро русской революции 1905–1907 года» и центром размещения заезжих русских революционеров. Марк Твен, живший по соседству, пришел на обед с Горьким, где присутствовали остальные деятели, еще до разразившегося скандала, но позже отменил план устроить литературный прием с Уильямом Дином Хауэллом в честь Горького[132].
Пуританская реакция американской прессы и публики, а также неспособность организаторов турне Горького и его сторонников прийти ему на помощь говорят о том, что в массовом сознании существовала стойкая связь между социализмом и сексуальной распущенностью. Действительно, многие поборники революции боялись, как бы их репутацию не запятнали обвинения в аморальности. Безусловно, внешнее отсутствие сексуальной привлекательности у Бабушки увеличивало силу ее притягательности как публичного образа революционного движения в США.
Ассоциация революции и нетрадиционного сексуального поведения возникла не на пустом месте. Эмма Гольдман замечала в автобиографии: «Все истинные революционеры отвергают брак и живут свободно». Влиятельное произведение Чернышевского «Что делать?» обычно характеризовали прежде всего как «роман о свободной любви». В коммунах, появившихся в России под влиянием книги Чернышевского, «коммунальный быт устраивался всегда таким образом, что каждый человек был волен жить с кем хотел и менять партнеров как только пожелает». Многие русские радикалы верили в освободительную силу любви, не скованной никакими общественными условностями. Бакунин, отец современного анархизма, воспитывал всех детей своей жены, хотя их биологическим отцом являлся его близкий друг. Даже Ленин, хотя его часто считали чуть ли не пуританином в вопросах пола, любил двух женщин: жену Надежду Крупскую и красавицу-любовницу Инессу Арманд. Хотя в США сторонниками «свободной любви» оставались лишь маргинальные радикалы, сами ее принципы вдохновляли тех же представителей «современных американцев», которые приветствовали русскую революцию, когда она наконец свершилась в 1917 году[133].
Струнской и Уоллингу повезло находиться за пределами США в пору провального турне Горького, которое выявило разрыв между авангардистами из Гринвич-Виллиджа и респектабельным обществом. Однако они останавливались в клубе «А» в начале 1907 года, когда приезжал товарищ Брешковской Григорий Гершуни. В отличие от визита Горького, его приезд в США остался почти незамеченным. Как рассказывала Струнская, американцев, похоже, гораздо больше заинтересовал побег Гершуни из русской каторжной тюрьмы в бочке с капустой, чем содержание его выступлений[134].
В ту пору сестра Анны Роза, в отсутствие Анны и Уильяма почти в одиночку управлявшая Бюро революционных новостей, еще больше втянулась в собственно революционную деятельность. В Петербурге она укрывала террористов в своей комнате, а потом, перебравшись для большей безопасности в Финляндию, хранила у себя на квартире динамит. В конце лета 1907 года, не вняв предостережениям эсеров, Роза вернулась в Петербург. Через десять дней после того, как туда же вернулись Анна с Уильямом, Розу арестовали. А через несколько часов арестовали и Уильяма с Анной. Впрочем, спустя сутки всех их выпустили благодаря вмешательству госсекретаря США Элиу Рута. Оказавшись даже ненадолго в русской тюрьме, в одной камере с русскими революционерками, и Анна, и Роза лишь укрепились в своей приверженности революционным идеям[135].
«Сколь узким показался дамский круг»: Бабушка и революция
Тем временем Брешковская, которой удавалось избегать поимки в течение почти двух лет после возвращения на родину, в 1907 году была схвачена и немедленно заключена в тюрьму, что вызвало бурные протесты в международном сообществе. Царю отправили петицию, подписанную пятьюдесятью ньюйоркцами, но все было напрасно. Изабель Бэрроуз, у которой «болела душа при мысли о плененной орлице», дважды ездила в Петербург и подавала прошение русскому премьер-министру. Бэрроуз неискренне уверяла, будто ничего не знает о призывах Брешковской к насилию, и убеждала премьер-министра в том, что явилась к нему «как одна старая женщина просить за другую»[136]. Премьер-министр отверг все ее доводы.
В суде дело Брешковской рассматривалось в связи с делом Николая Чайковского. Отчасти это объяснялось тем, что их арестовали почти одновременно, хотя так совпало, что Брешковскую называли «бабушкой», а Чайковского – «дедушкой» русской революции[137]. Суд над Брешковской, состоявшийся в марте 1910 года, длился всего два дня. Когда Брешковской задали вопрос о ее профессии, она объявила себя революционеркой. Ее приговорили к пожизненной ссылке в Сибирь, и большинство ее сторонников сочли эту меру довольно мягкой. Но все равно и суд, и приговор вызвали новую волну открытой поддержки и Брешковской, и революции вообще.
Поэтесса Эльза Баркер опубликовала в The New York Times посвященное Брешковской стихотворение, которое потом часто перепечатывалось. Начиналось оно со сравнения Брешковской с праздными и беззаботными дамами в США:
Сколь узким показался дамский круг,Сколь мелкими – все дамские дела,Когда Она сюда явилась, к нам,Седая, величавая душа!А заканчивалось словами о том, что тяготы, вынесенные Брешковской, служат для тех же самых женщин источником надежды и вдохновения:
Для жалости ты слишком велика.Тебе не стоны – песни шлем, и впредьОтважней станем, зная, что ты есть![138]Лиллиан Уолд, побывавшая в России в 1910 году (во время кругосветного путешествия), надеялась повидать Брешковскую, но вскоре пришла к выводу, что ее старания окажутся тщетны. «В России только что подавили великое движение, – рассказывала Уолд репортеру, – и положение сейчас выглядит безнадежным». Уолд выяснила, что
рассказы о героизме [Брешковской], хотя правительство и не позволяет писать о нем в газетах, все-таки просочились, и хотя она находится в заключении, эти рассказы служат революционным фактором и вдохновляют других.
Направившись из России в Англию, Уолд решила непременно встретиться с революционерами-изгнанниками – Чайковским (добившимся освобождения), Кропоткиным «и некоторыми „товарищами“, которые отдали борьбе все и охотно отдали бы еще больше»[139].
Вернувшись в Нью-Йорк, Струнская использовала шумиху вокруг суда над Брешковской и вынесенного ей приговора как повод напечатать несколько материалов, написанных о тех революционных деятелях, с которыми она лично познакомилась. Ее вышедшая в августе 1910 года статья «Сибирь и русские женщины» начинается с Брешковской, однако о ее приговоре говорится в связи с отвагой других женщин и их деятельностью во имя революции. Уподобляя молодых революционерок, встреченных в тюрьме, «прекрасным нимфам и дриадам», Роза описывала их с восхищением, почти с влюбленностью: «Они стройные и гибкие, и под тугими корсетами и юбками чувствуется физическая сила. А какая кротость в прикосновении их рук, какая нежность в их глазах и губах!» В тюрьме очарование этих женщин достигало вершины:
На улице русская революционерка – явно в чуждой стихии. Она куда-то торопится в своей узкой черной саржевой юбке (с карманами, неизбежно набитыми литературой), в коротком черном жакете и меховой шапочке; без корсета, сгорбленная, с волосами, вначале заплетенными, а потом приколотыми к затылку; с сосредоточенным видом, словно она очень волнуется, как бы не пропустить проезд царя и метнуть в него бомбу. Чтобы раскрыть все свои качества, ей нужно попасть в тюрьму[140].
Описания Струнской намекают на то, что русские революционные идеалы служили не только образцом романтической любви, но в некоторых случаях и ее заменой.
Сама Брешковская, хотя ее почти всегда представляли как «бабушку», в молодости испытала обычную любовь, но оставила мужа, а потом и ребенка, чтобы всецело отдаться революции. Таким образом, ее вскользь брошенное замечание в адрес Хелены Дадли, Элис Стоун Блэкуэлл и Эллен Гейтс Старр – «вы, три девственницы, которые целиком посвятили себя миру и ничего не попросили взамен», – наводит на мысль, что любовные желания некоторых женщин сублимировались в страсть к революции. Однако у всех перечисленных женщин были длительные романы с другими женщинами. Нетрадиционные любовные отношения – от гетеросексуальных союзов, вписывавшихся в рамки представлений о «свободной любви», до однополых связей – часто сопутствовали приверженности общественным преобразованиям и – шире – сочувствию русской революции[141].
Пока Брешковская жила в ссылке в Киренском уезде Иркутской губернии, ее поддерживала – и материально, и морально – доброта и щедрая помощь ее американских друзей. Изабель Бэрроуз возложила на себя задачу: ежемесячно собирать и пересылать средства в объеме, разрешаемом властями. Но после кончины одной из жертвовательниц Бэрроуз, уже немолодая, с тревогой задумалась о том, что если умрет она сама, то помогать Брешковской будет уже некому. И она написала Мэри Хиллиард, директору Вестовера – элитной школы для девочек в Коннектикуте. Она поведала ей историю жизни Брешковской и спросила, не пожелают ли девочки помогать ссыльной революционерке. Так ученицы Вестоверской школы взяли «шефство» над террористкой, известной как «бабушка русской революции». Благодарность Бэрроуз не знала границ. Она написала Хиллиард:
Их безотчетное влияние будет простираться от Вестовера в далекие русские просторы, в ледяную Сибирь, и будет нести свет, тепло и радость не только Бабушке, но и всем ссыльным, которые с ней знакомы. Они раскрывают блокноты – и вот они уже соприкасаются с международными интересами[142].
Откликаясь на щедрость друзей (и незнакомцев), Брешковская присылала длинные, вдумчивые письма, полные советов о том, как прожить осмысленную, насыщенную жизнь. Своим «юным друзьям и товарищам» из Вестовера она писала:
Всю свою жизнь я стремилась служить другим людям, потому что понимала, что нет в нашем мире ничего более возвышенного, более прекрасного, чем человеческая душа. Ее можно исковеркать, она может пойти по ложному пути, свернуть в дурную сторону, проходя через жизненные трудности, но если верно подойти к ней, но если опекать ее с раннего детства, то можно вывести ее к самой цели: наш ум и наши чувства способны воспарить к самым высям божественного духа[143].
В декабре 1913 года, используя средства, полученные от американских друзей, Брешковская предприняла попытку побега, которая почти увенчалась успехом. Поменявшись одеждой с одним политзаключенным, Брешковская пять дней ехала через тундру. Но в нескольких километрах от границы ее поймали, перевезли в еще более глухое место и установили над ней очень строгий надзор.
Американцы продолжали проводить встречи для оказания помощи Брешковской и осаждать царских чиновников прошениями о смягчении ее участи. Их сочувствие и всепрощение распространялись и на других русских изгнанников и революционеров. Бывшую бомбистку Марию Суклову очень тепло принимали в Халл-хаусе и в сеттльменте на Генри-стрит. Грейс Эбботт, основоположница борьбы за права детей, позднее вспоминала:
После одного из наших долгих споров за обеденным столом в Халл-хаусе сибирячка [Суклова] рассмеялась и сказала: «Я давно не попадала в такую душевную обстановку – с тех пор, как впервые оказалась в кругу террористов».
В конце концов Мейбл Бэрроуз Масси, дочь Изабель Бэрроуз, нашла для Сукловой уютное пристанище в Кротоне-на-Гудзоне, и она жила там до тех пор, пока большевистская революция не завлекла ее обратно в Россию[144].
В 1915 году пропагандистское турне по США совершила русская феминистка Александра Коллонтай: она хотела поддержать Ленина и большевиков и убедить американцев не встревать в войну, которая к тому времени охватила многие страны Европы. «Победа воюющих государств не принесет ровным счетом ничего простому народу страны-победительницы», – утверждала она. Как и Брешковская, Коллонтай родилась в русской дворянской семье, но связала свою судьбу с революционерами. Она представляла другую политическую группировку; впрочем, у обеих женщин имелось много общих поклонников. Коллонтай объехала 81 американский город и выступала на немецком, французском и русском языках. Организацией встреч чаще всего занималась социалистическая партия. Коллонтай не только агитировала против войны – она затрагивала и феминистские темы. В речи, отрывки из которой перепечатали многие газеты – от Daily Ardmoreite в Ардморе (штат Оклахома) до Bismarck Tribune (Северная Дакота), – она назвала материнство «не только частной привилегий, но и общественным долгом, выполнение которого должно подстраховывать государство». Как и Грейс Эбботт, Джулия Латроп и другие реформаторы, выступавшие за охрану прав детей, Коллонтай выступала за выплату пособий матерям, за учреждение яслей, за законодательный запрет детского труда и другие усовершенствования в сфере охраны материнства и детства. Положительные отзывы о деятельности Коллонтай со стороны Детского бюро впоследствии были использованы против американского движения за права детей[145].
Благая весть революции
В феврале 1917 года, когда революция в России наконец свершилась, американцы и американки, годами восхищавшиеся разными революционерами и поддерживавшие их, возликовали. Лиллиан Уолд написала Элис Стоун Блэкуэлл:
Радуюсь вместе с вами новости столь чудесной, что не верится в ее правдивость. Из Нью-Йорка только что получено известие о том, что Дума распорядилась создать комитет для сопровождения Бабушки в Петроград[146].
Пока Брешковская ехала на санях из Минусинска (в Енисейской губернии) до ближайшей станции Транссибирской железной дороги и позже, уже в поезде, ее неоднократно просили выступить. Когда она приехала в Петроград, ее спецвагон ломился от букетов, подаренных поклонниками. На вокзале ее встретили оглушительными рукоплесканиями и представили собравшейся толпе как «вдохновительницу русской революции». Брешковскую поселили в Зимнем дворце и дали ей должность во Временном совете Российской республики. Она с радостью праздновала победу революции и заявляла: «Если мы все стремимся к свободе и равенству, то какие между нами могут быть разногласия? О чем нам спорить?»[147] Как вскоре выяснится, и разногласий, и споров возникло множество.
Сборник «Бабушка русской революции: воспоминания и письма Екатерины Брешковской», составленный и выпущенный Элис Стоун Блэкуэлл в ноябре 1917 года, заканчивался словами, которые Брешковская адресовала однажды американскому другу:
Мы должны возвышать души людей, действуя на них собственным примером, и давать им представление о более чистой жизни, знакомя их с образцами высокой нравственности и высокими идеалами; взывать к их лучшим чувствам и стойким принципам. Мы должны говорить правду, не боясь огорчить наших слушателей, и должны быть всегда готовыми подтвердить свои слова делами[148].
Время выхода книги, составленной Стоун Блэкуэлл, намекало на связи Брешковской с совершившейся в итоге русской революцией, но на самом деле она относилась с откровенной враждебностью к большевикам, чей авторитаризм и репрессивные методы отталкивали склонных к демократии (хотя тоже не брезгавших насилием) эсеров. Вскоре после того, как большевики свергли умеренное Временное правительство, Брешковская залегла на дно, а в конце концов и вовсе уехала в Чехословакию. В 1918 году в американской печати появилось сообщение, будто ее расстреляли большевики. Однако многие американские союзники Брешковской, хотя и сочувствовали ей и понимали, почему она осуждает диктаторские замашки большевиков, все же воздерживались от критики в адрес нового российского режима[149].
В 1919 году Брешковская запланировала повторное американское турне, чтобы поддержать эсеров в их попытках свергнуть новое правительство и – что имело больше практического смысла – собрать средства на помощь огромному количеству детей, осиротевших из-за воцарившегося в России хаоса. Впервые побывав в Вестоверской школе, Бабушка с большой радостью познакомилась с некоторыми из тех идеалисток, которые поддерживали ее в годы сибирской ссылки. Одна из учениц вспоминала потом:
Брешковская сразу заметила одну из наших темнокожих девочек… [и] принялась быстро перебегать от одной к другой, обнимать их всех по очереди, целовать в обе щеки, приговаривая на ломаном английском: «Милые дети, только освободились от рабства – и вот уже здесь, такие счастливые, такие свободные».
Брешковская послушала, как девочки поют, а потом сама стала петь им русские народные песни и даже плясать (а ей было в ту пору семьдесят шесть лет). Она выступала перед ученицами с речью, переходя с английского то на французский, то на русский, рассказывала о положении в России и о своих надеждах на будущее. «В ней всегда ощущалась детская простота, большая наивность и большая мудрость, открытость всему миру, богатство нажитого опыта». Для этой девушки встреча с революционеркой оказалась одним из самых незабываемых моментов за все время учебы в школе. «Общаясь с нами, [Брешковская] создавала удивительную атмосферу героизма и вечной надежды», – вспоминала она позже[150].
Однако во время этого турне Брешковской от нее отдалились некоторые старые друзья. Они опасались, что, рассказывая о злодеяниях большевиков (и даже выступая перед Конгрессом), Бабушка будет только лить воду на мельницу реакционных сил и в России, и в США. Консерваторы жадно слушали Брешковскую и затем пересказывали ее свидетельства о вероломстве большевиков. «Везде, куда бы она ни приезжала, ее привечали и чествовали все враги социализма, тогда как рабочий народ по большей части смотрел на нее с печалью и горечью», – вспоминала Стоун Блэкуэлл. Она понимала, что у Бабушки слишком наивные, идеализированные представления о Соединенных Штатах:
Она не верила нам, когда мы рассказывали, что наше правительство – такой же эгоист, как правительства Британии и Франции; что крупные финансовые воротилы, которые во многом контролируют нашу внешнюю политику, скорее одобрят реставрацию монархии в России, чем порадуются успехам любого социалистического правительства, если оно там утвердится.
В узком кругу Стоун Блэкуэлл признавалась, что и сама скорее желала бы видеть у власти не большевиков, а Временное правительство, но сравнивала ситуацию в России с Французской революцией: «худшие крайности» революционеров были предпочтительнее, чем «реставрация монархии и реакция». Уолд тоже отказывалась публично осуждать большевиков и заявляла, что новому правительству нужно дать шанс – пусть оно преуспеет или провалится самостоятельно[151].
Журналистка Луиза Брайант, встречавшаяся с Брешковской в России после Февральской революции, размышляла о том, почему Бабушка категорически отказывалась поддерживать новое правительство:
Нет ничего странного в том, что Бабушка не принимала участия в октябрьской революции. История почти неизменно доказывает, что те, кто в юности целиком отдает себя служению какой-то великой идее, на склоне лет не в состоянии понять тот самый революционный дух, которому они сами когда-то положили начало; они не только не сочувствуют, но и, как правило, деятельно противостоят ему. Так вот и Бабушка, чье имя так долго служило синонимом политической революции, заартачилась при мысли о следующем логическом шаге – то есть о классовой борьбе. Все дело в возрасте[152].
В 1919 году, как только Брешковская появилась в Нью-Йорке, ее немедленно навестила Струнская. К тому времени брак Струнской уже распался из-за идейных разногласий супругов: Уильям поддерживал вступление США в Первую мировую войну, а Анна – нет; на него большевики нагоняли ужас и отвращение, а Анна считала, что они заслуживают шанса проявить себя с хорошей стороны. Струнская спросила Брешковскую, «почему она нападает на большевиков, которые, как и она, пропагандируют социалистические принципы и которые, если вспомнить долгую историю революции, тоже шли за свои идеи и в Сибирь, и на эшафот». Бабушка ответила, что для Ленина и его сторонников принципы важнее людей, они бесчеловечно считают, что цель оправдывает средства, и отдали все «массам», не обращая внимания на «воров и грабителей», которые «воспользовались их пропагандой». Струнскую эти доводы не убедили. Она подумала, что Брешковская, пожалуй, сделалась элитисткой: «Когда идею подхватывают многие, она теряет часть своей отвлеченной чистоты и славы». Струнская предполагала, что Брешковская, в сущности, скорее националистка, нежели интернационалистка:
Она вернулась, чтобы собственными глазами узреть чудо – свободную Россию, и чтобы явить себя русскому народу, как и остальному миру, живым символом трагедии и триумфа, а также борьбы за свободу, но увидела собственное поражение в тот самый миг, когда, казалось бы, достигла вершины счастья. Большевистская Россия не могла получить ни ее одобрения, ни поддержки. Если большевики и были, в каком-то смысле, ее детьми, она никак не могла последовать за ними[153].
Среди тех, кто в 1919 году упрекал старого друга за критику в адрес большевиков, была Эмма Гольдман. Однако уже через несколько лет Гольдман, находясь в изгнании, сменила тон и заговорила о разочаровании, которое неизбежно ждет в будущем многих из тех, кто поддерживал советскую власть. Гольдман депортировали из США в Советскую Россию по закону о нежелательных иностранцах, она своими глазами увидела, как большевики расправляются со всеми несогласными, и пришла в ужас. Чувствуя потребность поступать по совести, Гольдман стала писать о том, что ей было известно. Расстояние, разделявшее ее и ее бывших товарищей в США, становилось уже не просто географическим. Она предрекала, что взгляды на Советский Союз со временем не только разведут еще дальше левых и правых в Америке, но и вызовут раскол среди самих левых[154].
Бешеная популярность среди женщин с самыми разными взглядами Екатерины Брешковской – героини своего времени, ныне забытой (подобно многим другим деятелям, фигурирующим в до сих пор не опубликованной работе Струнской «Биографии революционеров»), – служит ярким напоминанием о том, что изначально привлекало в русской революционной борьбе идеалистично настроенных, независимых и раскрепощенных американок. В первые годы, последовавшие за большевистской революцией, некоторые из этих самых реформаторш и смутьянок поддерживали (иногда не только деньгами, а даже личным участием) программы помощи, призванные спасти русских детей от разрушительных последствий войны, массового голода и болезней, которые угрожали погубить новую Россию еще до того, как она сможет выполнить свои обещания – в том числе и обещание полностью изменить жизнь женщин.
ГЛАВА 2
Спасители детей и дети-спасители
В неопубликованном рассказе Луизы Брайант американка, которая работает на агентство, оказывающее помощь детям в большевистской России, всей душой привязывается к мальчику Сереже, живущему в Петрограде в приюте для детей-беженцев[155]. В начале рассказа Сережа – жизнерадостный и сытый семилетний мальчик – описывается так: «В глазах у него сияло солнце юга, а в голосе слышался перезвон серебряных колокольчиков. Он излучал радость, покой, умиротворение». Во время Первой мировой войны его семья бежала от немцев, и Сережа потерялся. Родители его были довольно зажиточными крестьянами. Он ненадолго прибился к крестьянской чете, ехавшей в Петроград, но в городской толчее снова отстал от взрослых и оказался в одиночестве. Усталый и голодный, он бросился наземь и заплакал.
Остановился один прохожий, потом еще два, потом женщина. Скоро собралась целая толпа. Люди совали ему монетки, он не брал. Ему было одиноко, он требовал любви. Русская толпа – это нечто особенное. Люди любопытны, как дети, их легко растрогать. Они могут нарочно идти куда-нибудь, чтобы подать нищим на перекрестке. Но, хотя русские сами охотно плачут, смотреть на чужие слезы спокойно они не умеют.
«Дама из Калифорнии», оказавшаяся в толпе, «будучи настоящей женщиной», прониклась жалостью к Сереже и «сразу же полюбила его». Она привела мальчика в приют для детей, где сама работала на добровольных началах. Она хлопотала о нем, строила планы – отвезти в деревню, – а втайне надеялась усыновить его.
Каждому, даже невнимательному человеку, было ясно, что у дамы из Калифорнии все мысли теперь вертятся вокруг Сережи. Она учила его английскому – и сама все время грустно повторяла, что хорошо было бы вернуться на родину.
Иногда мне становилось неловко, когда я наблюдала за ними и сознавала, как крепко она привязалась к Сереже, – замечает рассказчица. – Он то и дело приставал к ней с вопросом: увидит ли он когда-нибудь мамашку и папашку? А она всякий раз торопливо отвечала, что, конечно же, увидит. Но в такие минуты складки вокруг рта у нее делались резче, а взгляд почти суровел. Что ж, она была одинокая женщина, так что мы прощали ей любые тайные замыслы.