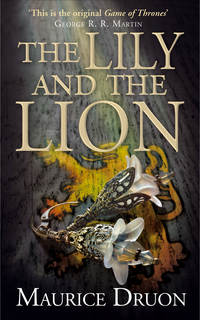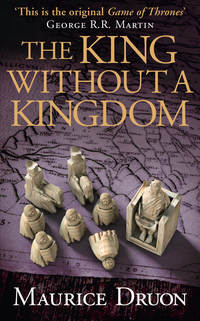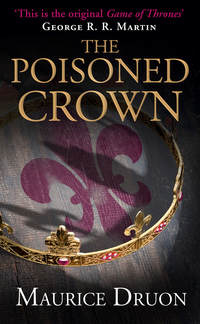Полная версия
Сильные мира сего. Крушение столпов. Свидание в аду
Мысли генерала витали далеко-далеко. Ему казалось, будто его голос раздается в пустынном мировом пространстве, где атмосфера необычайно разрежена.
– От имени президента Республики…
Удар плашмя саблей сначала по правому плечу, затем по левому. С трудом прокалывая металлической булавкой мундир капитана де Паду, генерал спросил:
– Я знавал некоего Паду, он командовал лотарингскими драгунами.
– Это мой дядя, господин генерал!
– Да? Ну, поздравляю вас!
Объятие. Барабанная дробь, звуки фанфар. В большом каре ружья опущены к ноге.
– От имени военного министра…
Перед генералом славное лицо вахмистра. За девятнадцать лет службы он ни разу не получил повышения. Один из тех, кто скоро закончит срок службы и станет, должно быть, таможенником. Глаза у старого служаки были в красных прожилках.
«Надеюсь, не заплачет», – подумал генерал.
Он пожал руку награжденному и сказал ему несколько приветливых слов.
Гусарский полковник снова оглушил всех раскатами своего голоса. Войска приготовились к торжественному маршу.
Сначала под звуки труб двинулись вперед егеря. Казалось, они скреплены между собой деревянной планкой, как стулья в соборах.
Затем, обдавая неподвижного, как статуя, генерала запахом человеческого и лошадиного пота и клубами пыли, прошли кавалерийские эскадроны; поскрипывала кожа белых ремней, звенели удила и шпоры, сверкали мушкеты. Наконец проскакал замыкающий, и пыль за ним улеглась.
Генерал в сопровождении своего спутника-«собаки» двинулся навстречу полковнику гусарского полка.
– Поздравляю вас с прекрасной выправкой солдат, полковник! – произнесла «собака».
– Солдаты вашего полка хорошо держат равнение. Поздравляю вас, – медленно произнес генерал де Ла Моннери.
Он направился к своему автомобилю. Сзади, со стороны конюшен, до него донесся крик: «По казармам!» – и громкие взрывы хохота участников всей этой головоломной игры.
9Генерал снял мундир и сложил в специальную коробку ленту командора и другие ордена. Он остался в легкой сетчатой фуфайке и в коротких кальсонах, поверх которых был надет стягивавший живот корсет из плотного полотна с металлическими крючками. На ноге – розоватая полоса шрама. Прихрамывая, он прохаживался по комнате, заставленной упакованными вещами, и продолжал исходить злобой:
– Видите ли, мой дорогой, вся эта шатия политиканов – просто олухи. Раньше еще можно было утверждать: «Необходима война, чтобы они поняли, что к чему!» Но вот они получили войну! И все-таки ничего не поняли. Одно слово – олухи!
Эта тирада предназначалась для широкозадого командира драгун Жилона, который с грустью наблюдал за приготовлениями к отъезду. В углу денщик укладывал вещи в сундук.
– Не так, не так, Шарамон! – крикнул генерал. – Я тебе двадцать раз твердил: обувь – вниз! Остолоп ты этакий!.. А потом, я отлично понимаю, что произошло, – продолжал он. – Вы меня знаете, Жилон! Я всегда говорю правду в глаза, а это многим не по вкусу… Да-с, было время, когда аристократическая фамилия с двумя приставками, как говорят эти тупоголовые англичане, у которых нет ничего хорошего, кроме лошадей, кое-что значила. Теперь же эти приставки только вредят.
Он взвешивал и подробно разбирал все возможные причины своего увольнения из армии, за исключением одной, подлинной, – возраста.
– Как мне все это претит, генерал! – сказал Жилон.
То был человек лет сорока с цветущим, приветливым лицом. Белые полотняные гетры на пуговицах обтягивали его икры. Перстень-печатка с изображением стершегося герба чуть врезался в мякоть мизинца.
– Пожалуй, я выйду в отставку, – продолжал он. – С вами, генерал, было хорошо. Когда я служил под вашим командованием, мне это напоминало войну. А теперь кто знает, куда меня сунут… с кем я буду… Пятую нашивку надо ждать еще три-четыре года. Да и дадут ли ее вообще…
– А Крошар-то каков! Слышали? Ни слова о моей мадагаскарской кампании, ни единого звука! Штабная крыса! – проворчал генерал.
– Чем оставаться с таким горе-воякой, предпочитаю тотчас же уложить багаж, – ответил командир драгун, теребя свои маленькие жесткие усики. – Уеду в Монпрели. Займусь имением, заведу лошадей для охоты, пожалуй, женюсь. Кстати, давно пора…
Так они перебрасывались словами, но каждый думал о собственных делах.
– Шарамон! – крикнул генерал. – Затяни мне шнурок.
– Ах да, генерал, местная пресса просит ваш портрет, – сказал майор Жилон.
– Пф-ф!.. Пресса, пресса! Вы ведь знаете, как я отношусь к журналистам!
Жилон молчал, ожидая, какое решение примет генерал. Наконец тот произнес:
– Шарамон! Подай мне портфель, вон тот… из черной кожи!
Он присел к столу, подул на фуфайку – на то место, где обычно красовались его ордена, – нацепил пенсне и закурил сигарету. Из прозрачного конверта он достал несколько фотографий, разложил их перед собой и начал внимательно рассматривать.
– Эта не годится, – сказал он. – Такое впечатление, будто у меня нос в песке. Не понимаю, как удается этим типам извлекать из своих хитроумных ящиков такие рожи. Вот эта фотография как будто ничего… Нет, я, очевидно, пошевелил рукой. Впрочем, все равно, передайте им ее. Тут у меня более внушительный вид, я всегда лучше выхожу в профиль.
– Могу я просить вас, генерал, подарить мне одну фотографию? – спросил Жилон.
– Ну конечно, друг мой, с удовольствием. Выберите сами…
На своем изображении он начертал поперек брюк: «Моему верному боевому товарищу, командиру эскадрона Шарлю Жилону, в знак уважения и дружбы. Генерал де Ла Моннери. Июль 1921 года».
– Благодарю вас, генерал! – сказал обрадованный Жилон и вытянулся.
– Вот видите, – продолжал генерал, – как правильно я поступил, сохранив за собой парижскую квартиру. Хорош бы я был сейчас, когда меня уволил в отставку этот балбес министр! Куда бы я девался?
– Во всяком случае, генерал, знайте: двери Монпрели всегда открыты для вас!
– Спасибо, мой дорогой, спасибо. Конечно же, я непременно приеду навестить вас. Шарамон, помоги мне одеться!
Денщик взял брюки от штатского костюма и натянул штанину на негнущуюся ногу генерала.
– Уж так мне жаль, господин генерал, – произнес он глухим голосом, – что в последний раз помогаю вам одеваться.
Шарамон разговаривал очень редко, но уж если говорил, то чистую правду. У него была круглая темноволосая, а сейчас наголо остриженная голова.
Майор Жилон спросил:
– Шарамон, сколько лет ты в армии?
– Десять, господин майор, и все время в денщиках.
– В этом его призвание, – пояснил генерал, – как у других призвание быть камердинером. Шарамон прошел всю войну, ему трижды объявляли благодарность в приказе, он награжден медалью за то, что вынес на себе офицера с поля боя, и он всегда хотел быть только денщиком. Видимо, служба у меня – венец его карьеры. Вместе с тем он упрям как осел… Смотрите! Все-таки умудрился положить башмаки сверху! И еще злится!
– Если их положить вниз, брюки помнутся, – спокойно заметил денщик.
– Он готов кинуться в воду ради меня. Верно, Шарамон?
– Так точно, господин генерал.
– А ради майора кинулся бы в воду?
– Понятно, если бы служил денщиком у него.
– На, возьми! Выпьешь за мое здоровье, – сказал генерал, сунув ему в руку кредитку.
Отведя Жилона к окну, он сказал доверительно:
– Вот со всем этим, дорогой мой, и трудно расстаться, с такими парнями…
Он дотронулся до сабли, лежавшей плашмя на столе.
– …и потом повесить на стену эту старую железку…
Казалось, он грезит. «Урбен подарил мне ее, когда я окончил Сен-Сир, – думал он. – Это было так давно. С ней я шел в атаку, убивал людей: ведь, по правде говоря, в этом истинная цель нашей профессии… убивать людей. А когда становишься стар, больше убивать не можешь…»
– Ножны, как и я, начинают изнашиваться, – проговорил он вслух.
– Но клинок еще хорош, генерал! – с улыбкой произнес Жилон.
Генерал усмотрел в этих словах игривую шутку.
– Пф-ф… Нет, уже совсем не то. Теперь надо, чтобы женщина была не слишком молода и не слишком стара.
– Вот что, генерал, – сказал Жилон, довольный тем, что разговор принял другой оборот, – ваш поезд отходит лишь в три часа. Давайте кутнем на прощание. Позвольте мне вас пригласить!
– Э нет, дружище! Пока еще я ваш командир. Разрешите уж мне пригласить вас на завтрак.
Жилон был много богаче генерала и поэтому не настаивал.
Денщик между тем разглаживал ладонью кредитку на крышке сундука.
– Что ты там делаешь, Шарамон? – спросил генерал. – Собираешься ее разменять?
– Нет, я думаю ее сохранить, господин генерал, – ответил денщик.
Генерал, склонив влево свое слегка тронутое морщинами лицо, сдул воображаемую пылинку.
– Вы правы, Жилон, надо хорошенько кутнуть. Отныне только это мне и остается, – сказал он.
10По-настоящему чувство одиночества охватило генерала только тогда, когда он проснулся в своей квартире на авеню Боскэ. Он еще не успел подыскать себе прислугу. Привратница приготовила ему завтрак и раскрыла окна. Свет проник в запыленные унылые комнаты, где все поблекло за те несколько месяцев, пока они стояли пустыми. Генералу вдруг почудилось, будто он возвратился к себе на следующий день после собственной смерти.
Он нашел, что башмаки плохо вычищены, и принялся чистить их вторично. Попытался без посторонней помощи натянуть брюки, но только причинил себе сильную боль. Ему пришлось обратиться за помощью к привратнице. То была не слишком опрятная женщина лет сорока. Три года назад, сразу после перемирия, она бы засуетилась вокруг раненого героя и не посмела бы дотронуться до него, предварительно не вымыв рук и не причесавшись. Теперь же она презрительно и брезгливо смотрела на этого старика, которому нужно было помочь одеться. И даже заявила генералу, что долго его обслуживать не сможет.
Выбрасывая вперед ногу, он обошел квартиру, где отныне должен был проводить свою жизнь… Переносные печи «Саламандра», поставленные в каминах, мебель «под Людовика XIII» и африканские безделушки; в передней – расшитое серебром, но уже изъеденное молью марокканское седло; переплеты книг стали бурыми от пыли, фотографии с автографами его бывших начальников – Галиени, Жоффра и других, менее известных генералов – пожелтели. Вчера еще он радовался тому, что сохранил эту квартиру и найдет сувениры на прежних местах. А теперь ему хотелось очутиться в гостинице, за границей – где угодно, только бы не здесь.
«Надо что-то предпринять, иначе я с ума сойду, – подумал он. – Не пройдет месяца, и пустишь себе пулю в лоб… Подумать только, после ранения я был так рад, что выкарабкался! Какой глупец! Если уж человеку повезло и он лежит при смерти…»
Он не последовал общему правилу, не создал себе семейного очага, у него не было ни жены, ни детей. «Я жил только для себя – и вот мне наказание. Нет, при чем тут наказание? Что я такое совершил, чем заслужил его?» За какие-нибудь четверть часа он мысленно перебрал все оставшиеся ему возможности: уйти в монастырь, «чтобы ни о чем больше не думать», окунуться в политику, выставить свою кандидатуру на выборах в сенат, затем с трибуны сказать «этим олухам» все, что он о них думает.
Но он знал, что это только фантазия, что прежде всего следует привести в порядок свой штатский гардероб, отремонтировать квартиру…
Он отправился завтракать в офицерский клуб. В это время года там бывали немногие, главным образом те, кто не знал, куда себя девать, то есть такие же офицеры в отставке, как и он, но только уволенные из армии на несколько лет раньше.
Они скучали в просторных залах с позолотой и в библиотеке, дремали после еды или, собравшись по двое, по трое, беседовали с видом заговорщиков, сидя в оконных нишах. Время от времени кто-нибудь поднимался и, волоча ноги, брел к столу за иллюстрированным журналом, затем возвращался на свое место. Внезапно в этом морге гремел зычный голос: кто-то требовал у официантов черного кофе. Но полумертвые не пробуждались.
И все же, когда вошел генерал де Ла Моннери, они подняли глаза, оторвавшись от газет, заложили подагрическими пальцами страницу книги, прервали заговорщические беседы.
Старик с эспаньолкой и орденской розеткой величиной с монету в сорок су, с желтыми глазами и трясущейся рукой подошел к генералу.
– Это вы, мой юный друг? – произнес он.
Единственно стоящей, по мнению старика, кампанией, которая оставила у него неизгладимые воспоминания, был поход в Италию.
– Я только что рассказывал друзьям, – и он указал на заговорщиков, – как однажды вечером в Сольферино Мак-Магон чуть было не подрался на дуэли с командиром третьего корпуса. Подумать только: в двух шагах от императора! После битвы у Мажента я имел честь служить адъютантом Мак-Магона.
– А, Ла Моннери! – воскликнул какой-то толстяк с прыщеватым лицом и подстриженными бобриком волосами.
– Мое почтение, полковник! – ответил генерал.
Толстяк положил ему огромную лапу на плечо. Разговаривая, он надувал щеки и после каждого слова переводил дыхание.
– Вот славно! – сказал он. – Не забыл-таки. Видите ли, господа… этот молодой человек оказывает всем нам честь… простите меня, генерал, что я так к вам обращаюсь… Так вот, я преподавал ему стратегию в военной школе! И он меня не забыл. Отлично… уф… отлично!.. Он по-прежнему называет меня полковником.
Мимо них прошел тощий человек с крашеными волосами; щелкнув каблуками и не сказав ни слова, он продолжал свой путь.
– Кто это? – спросил генерал де Ла Моннери.
– Да ведь это же Мазюри! – ответил толстяк. – Неужели не узнали?.. Один из ваших товарищей по школе, тоже мой бывший ученик… уф… У него была скверная история в Сенегале, – прибавил он, понизив голос, – я вам потом расскажу.
– Мазюри? Действительно… – пробормотал Ла Моннери. – Но как он изменился!
– Вот мы и встретились снова. Такова жизнь… Не сыграть ли нам в бридж, генерал?
Ла Моннери извинился и поспешил уйти. Нет, так закончить жизнь невозможно! Ему претило, когда давние начальники, отставшие от него на два чина, запросто называли его генералом, а старцы, вроде бывшего адъютанта Мак-Магона, – «моим юным другом». Эти пожелтевшие усы, восковые или лиловые щеки, голые черепа с темными пятнами, дрожащие колени… «Нет, нет, нет, – повторял он, – я еще не дошел до этого! Я еще молод, черт побери, у меня есть еще порох в пороховнице!»
Если бы не проклятая негнущаяся нога, он бы прошелся колесом по площади Сент-Огюстен или опустошил бы первое же попавшееся бистро, как он это сделал, когда был лейтенантом в Бискра. Он не замечал, что через каждые двадцать шагов останавливается и обдувает орденскую розетку.
Дома он разобрал почту, и она принесла ему некоторое успокоение. Ему предлагали войти в Почетный комитет бывших лауреатов ежегодных состязаний. Затем Ноэль Шудлер, поздравляя его с третьей звездой, писал о том, что на предприятии по производству фармацевтических препаратов не полностью укомплектован состав административного совета.
«Ну вот, есть все же люди, которые еще не считают, что я окончательно впал в детство», – подумал он.
Издатель компилятивного труда о войне 1914–1918 годов просил его о сотрудничестве при описании военных действий, в которых принимала участие его дивизия.
Неделю назад генерал отмахнулся бы от всех этих лауреатов, издателей, руководителей фармацевтических предприятий и потребовал бы, чтобы его оставили в покое. А сейчас он не спеша перечитывал письма, обдумывал, несколько раз взвешивал каждое предложение, потому что на это, по крайней мере, уходило время. «Посмотрим, посмотрим», – повторял он.
В эту минуту вошла госпожа Полан; безошибочный инстинкт подсказал ей, что уход в отставку – событие столь же прискорбное, как смерть. Она появлялась в доме только при печальных обстоятельствах, и все называли ее тогда «милая Полан».
Что касается генерала, то он разделял мнение Люсьена Моблана и считал ее старой ящерицей. Тем не менее он встретил гостью не без удовольствия.
– Вот я и не у дел, милая Полан, – сказал он.
На госпоже Полан была все та же черная шляпа, но летний зной заставил ее сменить кроличий воротник на жабо из крепдешина кремового цвета; от постоянной беготни по церквам с лица у нее никогда не сходил нездоровый румянец.
– Не говорите так, генерал! – воскликнула она. – Я убеждена: чего-чего, а дел у вас хватит. Через две недели вы уже не будете знать, за что раньше приняться.
– О, это уже началось, – сказал он с притворной усталостью и указал на три листка, лежавших на письменном столе. – Меня настойчиво приглашают в различные места. Просят написать воспоминания о войне…
– Вот видите! Конечно же, человек, который видел столько, сколько вы, должен писать мемуары. Просто грешно, если все это забудется. И потом, в вашей семье у всех врожденное чувство стиля.
– Да-да, вы правы, я уже и сам подумывал о мемуарах, – сказал он.
Именно этого посетительница и ждала. Она объяснила, что у госпожи де Ла Моннери ей, собственно говоря, уже нечего делать, тем более что та сейчас на водах.
– Том посмертных стихотворений поэта, над которыми вместе с господином Лашомом работала мадемуазель Изабелла, – никак не привыкну называть ее госпожой Меньерэ, – пожаловалась Полан, – составлен, перепечатан и передан издателю.
– Кстати, что там такое приключилось с Изабеллой? – спросил генерал.
Как член семьи, посвященный во все тайны, но умеющий их хранить, госпожа Полан шепотом пересказала историю, которая ненадолго заинтересовала генерала.
– Кажется, именно Лашом добился для меня третьей звезды на погонах, так что я не могу особенно на него сердиться, – сказал он. – Но как подумаешь, что такие щелкоперы управляют Францией…
Госпожа Полан по утрам была занята у отца де Гранвилажа, настоятеля монастыря доминиканцев, родственника господ Ла Моннери: он готовил к изданию сборник своих проповедей. Но с середины дня она свободна. В разговоре она трижды упомянула об этом.
– Что ж, это устроит нас обоих, – заметил генерал. – Вы будете приходить после двенадцати, разбирать почту, я смогу вам диктовать свои воспоминания…
– О деньгах между нами не может быть, конечно, и речи. Вы ведь знаете, для меня все, что касается Ла Моннери…
– Нет, нет, напротив, договоримся об этом сейчас же. Жизнь нелегка для всех, и я люблю определенность… Да, кстати, подыщите мне прислугу, умеющую все делать, – добавил он уже требовательным тоном. – Займитесь этим. Потом надо пригласить водопроводчика: в ванной что-то не в порядке.
Генерал почувствовал себя лучше: рядом находился кто-то, кому можно отдавать приказания. А госпожа Полан была в восторге от того, что кому-то оказалась необходимой.
Вдруг он спросил ее:
– Ну а ваш муж? Что с ним?
Выражение лица госпожи Полан сразу изменилось. Она горестно опустила голову.
– Ушел, – ответила она. – В четвертый раз. Сказал: «Иду в парикмахерскую» – и вот уже шесть месяцев не возвращается.
Она достала платок, вытерла уголки глаз и добавила:
– У каждого свой крест!
То был единственный раз, когда генерал как будто проявил интерес к личной жизни своей секретарши. Он всегда был глубочайшим эгоистом, а сейчас меньше, чем когда-либо, его занимали дела ближних. Когда в беседе затрагивались такие темы, он принимал отсутствующий вид либо начинал сдувать пыль с орденской розетки, так что собеседнику волей-неволей приходилось произнести:
– Я, верно, надоел вам своими историями!
Генерал отвечал «нет, нет», но глаза его были пусты. Он не слушал.
* * *Все свое внимание он сосредоточил только на самом себе, думал только о своей особе, любил только себя, то есть поступал так, как обычно поступают стареющие люди.
Время тянулось теперь необычайно медленно. Генерал бывал в комитетах, членом которых состоял, работал с госпожой Полан. Его рассеянность во время заседаний снисходительно принимали за сосредоточенность.
Он каждый день задумывался над тем, что бы такое поручить госпоже Полан; быть может, именно поэтому она сделалась для него необходимой.
– Сегодня утром, – говорил он, – я перебирал в памяти мои воспоминания о сражении при Тананариве. Я вам сейчас их продиктую, Полан.
Когда секретарша ему надоедала, он посылал ее в Национальную библиотеку за справками, и затем их поневоле приходилось прочитывать. Иногда он оказывал ей особую милость и оставлял обедать. Это происходило в те вечера, когда ему было особенно тоскливо.
Служанка, которую подыскала Полан через монахинь Сен-Венсан-де-Поль, ему не нравилась.
Генерал написал своему бывшему денщику Шарамону, у которого в декабре истекал срок службы, и предложил старому солдату вновь поступить к нему. Он ощущал потребность в таком человеке, которому можно запросто говорить «ты» и с напускной, ворчливой благосклонностью называть его «дурьей башкой».
Итак, он наладил свою жизнь и мог медленно плыть к пока еще далекой смерти, не слишком задумываясь о ней.
Да еще как раз в это время простата начала причинять генералу страдания, что дало ему дополнительный и весьма важный повод заняться собой.
11…особую благодарность приношу племяннице поэта госпоже Изабелле Меньерэ, оказавшей мне своим просвещенным содействием помощь в выполнении моей задачи.
Симон Лашом
Изабелла заложила пальцем страницу книги и горестно улыбнулась.
Свет осеннего дня проникал в кабинет. Симон сидел спиной к окну, и она плохо различала черты его лица.
Со времени отъезда в Швейцарию она впервые увиделась с Симоном. В конце сентября у нее произошел выкидыш; после выздоровления уже не было смысла дольше оставаться в Швейцарии, и она вместе с мужем возвратилась в Париж.
– Вы его, кажется, любите? – спросил Симон.
– Да, я очень привязана к Оливье и испытываю к нему большую нежность. К счастью, – прибавила она, – иначе это было бы ужасно. И вот я без ребенка, замужем за очень старым человеком, моя репутация все же несколько пострадала… ведь это замужество мало кого обмануло, не правда ли?.. Я лишена радостей любви и радостей материнства и не питаю большой надежды когда-либо их обрести… Тут и вы немного виноваты, Симон.
– Мы оба повинны, дорогая, – возразил он. – Мне кажется, вы тоже несете некоторую долю ответственности.
– Да-да, конечно. Я вовсе не сержусь на вас. У меня и в мыслях этого нет. Напротив, мне приятно вспомнить, – сказала она, положив на стол только что вышедший томик посмертных произведений Жана де Ла Моннери.
Она не узнавала Симона. За несколько месяцев он необычайно переменился. Какой у него теперь важный, самоуверенный вид! Льстившие его самолюбию мелкие знаки внимания, с которыми он ежедневно сталкивался, почтительность, оказываемая ему во время второразрядных церемоний, где он представлял особу министра, предупредительность генералов, рукопожатия тучных сенаторов – все это наполняло Симона чувством удовлетворения. Но главное – он преуспевал по службе, и министр постоянно поручал ему самые сложные дела. Его ежеминутно беспокоили телефонные звонки, в кабинет к нему то и дело приносили пакеты. Его манеры и речь стали более утонченными. Он словно старался подчеркнуть свою изысканность.
– По правде говоря, прежде вы мне больше нравились, – чистосердечно призналась Изабелла.
Симон обиделся. Изабелла ему тоже показалась иной. Она пришла из другого мира, из страны теней, какой обычно представляется людям былая любовь. Возможность иметь ребенка, тешившая его тщеславие, теперь не связывала больше Симона с ней. Это тоже исчезло, ушло в страну теней. А меж тем только весной… «Как быстро проходит жизнь», – подумал он. Его нисколько не взволновала встреча с Изабеллой, он испытывал лишь неловкость. А она, наоборот, была и смущена, и взволнована. Если бы он предложил ей встретиться завтра наедине, она согласилась бы почти без колебаний. Боясь признаться себе в этом, она хотела возобновить их прежние отношения.
– Оставайтесь хоть со мной таким, каким вы были раньше, – сказала она. – Человеку всегда нужно иметь рядом кого-нибудь, с кем он может быть самим собой.
– То же самое говорит моя жена, – ответил Симон.
– Благодарю вас, – сказала задетая в свою очередь Изабелла. – Ну что ж, быть может, она не так уж неправа.
– Вам кажется, будто я изменился, потому что… ваши чувства ко мне… изменились.
– А ваши чувства, Симон? Скорее уж они изменились… или разве…
– Я придерживаюсь условий, которые вы мне поставили, дорогая, – ответил он лицемерно.
«Какая-то новая женщина вошла в его жизнь, одно только служебное положение не могло до такой степени изменить его. Я просто дура», – думала Изабелла, чувствуя, что страдает. И спросила:
– Вы счастливы?
У него чуть было не вырвалось: «Очень!» Но из приличия он ответил:
– Разве такое понятие вообще существует?
– Несколько месяцев назад вы не говорили так, – прошептала она.