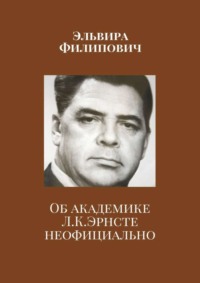Полная версия
Наука, любовь и наши Отечества
– Но зачем сейчас? Ведь, кажется, всё уже стихает, нормализуется…
– Поэтому и поджегся. Цензуру ввели. Нормализаторы! В письме, которое написал он, выразил несогласие свое с цензурой.

Ян Палах – живой факел на Вацлавской площади, 16 января 1969 г. (фото из интернета).
Ян Палах! Он еще жив. Но обгорело 85 процентов тела. Врач Долежалова просит журналистов и студентов не посещать Палаха. Ему тяжело… Третьи сутки пошли его страшных мучений…
«Ян Палах! Ян Палах!» – набатом звучит во мне. Серая пелена вокруг. Беспросветно…
«Не реви! Слёзы тут не помогут…» – слышу будто издалека голос Ивы…
На днях он был в своем землячестве при посольстве. Вместе с другими чехами – аспирантами советских вузов Иво подписал письмо-обращение к высшим властям Чехословакии в защиту Александра Дубчека. Сказал об этом только мне.
И снова «Руде право» с портретом Яна Палаха. Умер девятнадцатого января в пятнадцать тридцать (среднеевропейское время). «Исчерпаны были все возможные терапевтические средства… Умер спокойно…»
Родился в августе 1948 года в местечке Вшетаты, вблизи Праги. Отца не было. Мать, Либуше, продавщица. По отзывам учителей, Ян – отличный ученик, студент. Всегда спокойный и рассудительный. Любил порядок. Перед смертью просил врача передать, чтобы никто из его друзей не повторял бы его. У матери остался еще один, младший сын.
Смерть – протест Яна Палаха – потрясла всех моих друзей в Дубровицах и в Москве и, конечно же, всех родных – в Москве, Пскове, Свердловске… Некоторые нам, чехам, даже соболезнования выражали… Позже появились стихи. Вот одно из них, автор Ольга Бешенская (1947—2006), почти Янова ровесница.
«Памяти чешского студента Яна Палаха» называется оно:Прага, я не могу на твоём не споткнуться пороге:Здесь брусчатка, как реквием, скорбно звучит под ногой…Чешский мальчик горел, а у нас проступали ожоги,Будто Ян – это я, это я, а не кто-то другой…Мы познали тогда: нет стыда безнадёжней и горше,Чем за Родину стыд…»Похороны Яна Палаха 25 января стали огромной демонстрацией против этой восхваляемой во всех наших газетах нормализации, которая возродила цензуру и тем убила свободу печати и другие свободы, которых было добились в Чехословакии. Шли десятки тысяч пражан, шёл президент страны Людвик Свобода. Огромную печаль выражала эта процессия, но угадывалась и могучая сила народа этого, чувствовалось, что, несмотря на танки и прочее, эти люди – победители.

Похороны Яна Палаха, Прага, 25 января 1969 г. (фото из интернета).
Мои опыты – моё душевное отдохновение
У меня в Клёново два опыта, но и две лаборантки: деньги договорные из Микробиопрома. Помимо Тамары еще Ольга Ивановна, свинарка бывшая. Ей уже за шестьдесят, но еще крепкая и веселая. Как что расскажет, мы обхохатываемся, и не потому, что смешные случаи, а так умеет их представить – настоящая артистка. Небольшого росточка, поджарая, а как изобразит высокого да животастого директора Барбашова, так вроде бы живьем его видишь. Все о его любовных похождениях:
«Это потом у него продавщицы пошли, а тогда к свинарочкам он хаживал, на ферму да в соседний лесок. Однажды пошел на свиданку, да на краю леска Машку, т. е. свиноматку с фермы встретил. Осерчал на свинарок, ишь, распустились. Забыл, зачем и шел. Взял прутик, хотел гнать к ферме свинью. А она к лесу. Там у Машки свидание… с диким кабаном. Как рявкнул на Барбаша кабанище, как сверканул глазками, директор наш и усрался. Еле добёг до свинарника. Промеж себя свинарочки того кабана дикого сперва „Директором“ звали, а потом за рык его „Прокурором“. Огулял „Прокурор“ в тот год полмонитора. Такие поросятки рождались, рыженькие, полосатенькие, да много. Сначала радовались: росли быстро. Но на третьем месяце почти все от легочных погибали. Непривычные к спертому воздуху…»
За разговорами и работа быстрей делается.

Полосатые поросята в станке.
Кормосмеси теперь втроем готовим. Но поросята уже подросли, корма идет много. Да и на свиноматках еще продолжается опыт по соли. Так что урабатываемся. Приезжаю из Клёнова и кидаюсь в постель, чтобы согреться. Перед тем еще ноги сую в горячую воду. Потому что подошвы, как лед. Все же на цементном полу. Сама упарюсь до пота, а ноги стынут.
Наконец закончился опыт на супоросных. Матки – не поросята, без соли, результат хуже. Хотя потребность раза в два меньше, чем в существующих нормах, всего 2,5—5 граммов соли на килограмм сухого корма вместо 10 граммов, необходимых по прежней норме.
Результаты «пшеничного» опыта много интереснее. А самое главное, опыт показал, что и на чисто пшеничном рационе поросята могут расти столь же быстро, как на полноценном комбикорме, если к пшенице добавить недостающую аминокислоту лизин и необходимые витамины с микроэлементами. Мне было это очень радостно: ведь именно пшеницей кормят на Алтайской целине и свиней, и даже цыплят. Теперь стало ясно, что добавлять к пшенице, чтобы животные так же быстро росли, как на полноценном по белку комбикорме.
Переизбрали на пленуме и «выкинули на помойку истории»
А в Чехословакии, в Пражском граде, снова проходит пленум ЦК КПЧ. Первым выступил Дубчек. Попросил, чтобы освободили его от обязанности первого секретаря ЦК КПЧ и предложил вместо себя избрать товарища Гусака. Это еще позавчера произошло. На том же пленуме говорил президент Свобода, мол, просьба Дубчека об отставке «…была тщательно изучена. После детального обсуждения решили просьбу удовлетворить. Имя Дубчека навсегда останется в сознании всех нас связанным с послеянварской (возрожденческой) политикой КПЧ. Он завоевал большую популярность и симпатию, и думаю, что будет на них опираться при работе на самых ответственных постах». Так написано о Дубчеке в «Руде право». Значит, не выпихнули его с генсека? Сам попросился! Может, и действительно Гусак лучше, тверже…
«Никакого возврата к старым временам. Но требуется навести порядок. Свобода – не анархия… Законы соблюдать надо», – провозгласил он в тот же день. А биография даже лучше, чем у Дубчека. В партии с 1933 года. Тоже участвовал в Словацком народном восстании против оккупантов немецких. В апреле сорок пятого стал членом ЦК КПЧ, а в 1951 году репрессирован. Был в тех же местах, о которых мне еще во Вратиславицах пан Голый рассказывал. И тоже, как и он, был в 1960 году освобожден из заключения по общей амнистии. Да и по образованию подходящий: окончил юридический факультет университета в Братиславе, где в тридцать седьмом получил степень доктора права.
А Дубчек остался в составе ЦК КПЧ, и это радостно.
Однако на очередной лекции о международном положении снова о таком-сяком бывшем генсеке Дубчеке и иже с ним, которых наконец-то «выбросили на помойку истории».
Как же так, думаю, ведь Дубчека только что переизбрали в президиум ЦК КПЧ! «Значит, останется там недолго», – поясняет Иво.
«Я за Человеческое лицо»
Так называется короткометражный документальный фильм, посвященный очередной жертве нормализации Евгению Плоцку.

Евгений Плоцек,
убежденный марксист и коммунистический лидер, 1965 г.
«Ни вырвать и ни сжечь той календарной странички:Она имплантатом вросла в наше сердце.Не вырвать, не уничтожить наше сердце —Оно соединилось с землёй нашей чешской,Впитавшей пролитую кровь.В объятиях с нашей землёйНам спокойно под дулами танков…»Евгений Плоцек(конец августа 1968 г.)Перевод с чешского автора
Известно было, что вслед за Яном Палахом и Яном Заицем в январе – марте шестьдесят девятого в знак протеста против ввода цензуры горящими факелами стали ещё более двух десятков человек. Но то были студенты, молодые люди, горячие, эмоциональные. В апреле того же года факелом горел человек зрелого возраста, семейный, имеющий четырнадцатилетнего сына, к тому же коммунист, любимый народом партийный функционер, глава парторганизации большого завода Моторпал в городе Йиглава.
Случилось это на Великую пятницу, когда город, красивый, с большим историческим прошлым и где во все времена свято чтили традиции, готовился к празднику Воскресения Христова. На площади уже стояли карусели, павильон со стрельбищем (тир) и целый ряд праздничных палаток, где можно было приобрести всё пасхальное, начиная с любимых гранатовых крестиков и заканчивая замечательным моравским вином.
Шесть вечера. Детей уводят домой, но молодёжь продолжает тусоваться. А к стрельбищу подходит мужчина лет сорока в элегантном пальто-монтгомераке, из-под которого на брусчатку площади срываются капли, пахнущие чем-то горючим…
Мужчина кладёт на счетчик стрельбища сложенный лист бумаги с коротким наказом: «Я – за Человеческое лицо. Не переношу равнодушия». И подпись: Евгений Плоцек. А потом, отступив на пару шагов, зажигает спичку и становится живым факелом… Из пламени люди слышали крик: «Двадцать лет я был коммунистом!» и «За Палаха!»
Огонь затушили, но спасти не удалось, Евгений умер на пятые сутки…
Протест коммуниста против режима нормализации был от народа тщательно упрятан: в центральной прессе ни слова. Зато в Йиглаве, в её окрестностях – Высочине – люди были потрясены: Евгения хорошо знали, уважали и любили. Он был активным участником начавшегося 22 августа 1968 года экстренно созванного нелегального съезда КПЧ.
Навязанная партии политика «нормализации» с её бесконечным фарисейством и наглым враньём была Евгению глубоко чуждой: прежних лидеров Пражской весны, которых он знал как бескорыстно преданных идеям реформ и демократии, поливали черной краской, а само возрождение стали называть контрреволюцией. И самым обидным было то, что делали это не «оккупанты», а свои, члены КПЧ, бывшие соратники: одни – активно, другие, их было большинство, помогали им своим равнодушием…
Евгений, будучи лидером, жить так дальше просто не смог… Протест его был актом отчаяния.

Завод Моторпал хоронит своего ведущего работника и коммунистического лидера Евгения Плоцка, погибшего в знак протеста против нормализации. Йиглава, апрель 1969 г. Фото из архива Алеша Плоцка, внука погибшего.
Хоронили его огромным коллективом завода. Похоронную процессию провожала вся Йиглава. «Это были самые грандиозные похороны в Йиглаве», – говорили бывшие коллеги Евгения, в частности молодой тогда Роман Фёрст. Он снял похороны, а потом вместе с другом Карелом Томком сделал документальный фильм, завоевавший на районном фестивале любительских фильмов первое место. Однако люди, за исключением немногих участников фестиваля, фильм не увидели: приказано было срочно сдать его органам. Авторы фильма успели передать его друзьям, где он хранился двадцать лет, то есть до Бархатной революции, а гэбэшникам сообщили, что фильм украли. Те не поверили, Романа и Карела мучили многочасовыми допросами, провели обыски в их жилище, забрав все фотографии событий 1968 года. Не найдя фильма, велели молчать.

Роман Фёрст снимает похороны своего старшего коллеги Евгения Плоцка на любительскую кинокамеру. Йиглава, апрель 1969 г. Фото из архива Ростислава Шимы.
Под запретом стало само имя Евгения Плоцка. В центральной прессе Чехословакии не появилось ни строчки об этой трагедии: цензура действовала, нормализаторская власть торжествовала.
Об этой трагедии в Чехословакии широкая общественность узнала только через двадцать лет (я – ешё гораздо позже1), а 4 апреля 1990 года на площади в центре Йиглавы Александр Дубчек торжественно открыл посвященный жертвенной гибели протестующего коммуниста Мемориал.
«Ужасное» сочинение о вожде – смешно и грустно
Апрель. Снова Ленинский субботник. «Ильич потел и нам велел…» Столько новых памятников ему появилось. Теперь уже и в деревнях. Не знаю, то ли на самом деле, то ли анекдот: в одном селе рядом с клубом соорудили фонтан и назвали его «Струя Ильича».
Орденом Ленина наградили на днях президента Свободу и Гомулку.
А в Дубровицах на тему Ленина писали в школе сочинения.
Только пришла я с работы, вкатилась учительница Лены Клавдия Андреевна, по прозвищу Кнопка. Наверное, за ее малый рост. Большие, навыкате глаза Кнопки, казалось, вот-вот из орбит повыскакивают, с лица аж пар идет. Я перепугалась: что случилось?
– Ленин… Лена… Ваша дочка так о вожде! Играла с ним. А потом излупила! Лицо у Кнопки бледное, губы трясутся.
– Сильно ударила? Не покалечила? Кого? – интересуюсь.
– Да Ленина. Вождя! Понимаете?! – Я ничего не понимала.
– Раньше за такое могли бы посадить. И вас и меня… Её – в колонию…
– Да за что же?
– А вот за это… ее сочинение. Мы писали о Ленине. Я же их в Подольск возила. Все как надо написали; про памятник в Подольске, про дом-музей. А она – какой был Ильич в детстве. Да нет, об этом никто писать не возбраняет. Пусть бы так и написала, как у Бонч-Бруевича в его рассказах. А то ведь стала присочинять, вот, смотрите, – и дрожащим пальцем: – Маленький Дмитрий плакал, жалея козлика, от которого «остались рожки да ножки», а Володя смотрел и смеялся… Я его лупанула за это, и потом мы стали дальше играть в индейцев…
Ужасно смешно сделалось. Аж присела. А Кнопка подумала, что мне плохо и уж хотела мчаться за сердечными каплями. Она ведь в нашем подъезде живет, на четвертом этаже. И она добрая. А потом тоже и она расслабилась. Тоже стала смеяться. «Слава Богу, время сейчас не то…» И мы хохотали обе минут пять. А потом она сказала, что сочинение это сожжет, а то мало ли чего… Ведь жалко Леночку, она хорошая. И ошибок почти нет. Тройку вполне можно поставить…
А на майские праздники – грустная новость: уезжают Рядчиковы, надёжные друзья, наш тыл… Виктор устроился завлабом в Северокавказский НИИ сельского хозяйства. Простились на работе, в аминокислотной. Прибегал Махаев, напоследок (для Рядчикова) поорал, дескать, не передали хозлаборанту всю посуду и вообще всё. Анализаторы оба переданы были Иве.
«Смотри, всё проверь. Чтобы ничего не пропало. Знаю этого Рядчикова», – громко советовал он моему супругу. Рядчиков на эти Махаевские слова молча снисходительно улыбался: у него там, в Краснодаре, аминокислотная лаборатория втрое, а может и в десять раз богаче этой. А главное, там никаких «махаевых», сам себе хозяин будет.
Директором ВИЖа стал Эрнст, и это для нас с Ивой весьма отрадно: Эрнст (по мнению пожилого ВИЖевца Сергеева, с которым в Клёново ездим) любит талантливых, работящих и честных. По его мнению, мы с Ивой именно такие. Спорить я не стала.
В составе группы ученых ВИЖа меня и Верочку готовят к зарубежной поездке
Мне и Верочке пришло письмо из Югославии от Милоша Косановича. Приглашает принять участие в первой югославской международной конференции по животноводству, которая будет проходить в начале июня 1970 года в Новом Саде. Обрадовалась, но в то, что поеду, особо не верилось. В нашем ВИЖе заграницу ездят лишь определенные «выездные» личности. Из отдела это Махаев и Томмэ, а в последнее время только Махаев. Потом узнала, что и еще трём нашим сотрудникам пришло такое же письмо, а также и самому Томмэ. Всех, мол, на время конференции обеспечат жильем и кормить будут. Так, может, пустят, раз не одна? Во всяком случае, тезисы-то послать авось разрешат.
Провела за этот год аж четыре опыта. Сдала в разные редакции с десяток статей. Заведующая патентной группой Перепелицына мне помогает их протолкнуть. «Раз подпись Томмэ есть, то Махаева (он эксперт) не обязательно», – говорит она. Я всегда являюсь к шефу с двумя работами: одной – за двумя подписями, его и моей, и другой – только моей. Томмэ уже заметил и дружелюбно шутит: «Снова парочка! Благословляю!» Букин всё советует скорее докторскую писать. Он мечтает: я возглавлю витаминную лабораторию в ВИЖе.
На конференцию в Югославию, кажется, утвердили меня. А также Верочку, Раецкую, Модянова, Демченко и Самохина. Поездка еще только через полгода, а уже сейчас уйма времени тратится на нее. Готовимся к собеседованию в райкоме партии, газеты читаем, чтоб не дай бог чего не знать или оговориться.
В Чехословакии Дубчека таки «вычистили» из ЦК. А заодно и всех его бывших соратников – Смрковского, Гюбла, Гаека и других. Все это произошло, вернее, стало официальным, в конце сентября шестьдесят девятого, на пленуме ЦК КПЧ, который собирался специально по кадровым вопросам. Так что Иво был прав, он с самого начала это предвидел. В Праге, Брно, в Либерце «хулиганы пытались организовать беспорядки…» – пишут в «Руде право». «Контрреволюционные группы возглавляли уголовные элементы…»
Ивочка мой тоже попал в «элементы». В начале года вместе с другими чешскими аспирантами подписывал бумагу в землячестве в поддержку Дубчека. Теперь о них обо всех вспомнили… «Вычистили из КПЧ». Но, кажется, на том и успокоились. В институт вроде бы не стукнули. Решили мы не выписывать больше «Руде право», потому что с конца сентября – нуднейшая это стала газета. В день печати (в Чехословакии он 23 сентября отмечается) Гусак на встрече с главными редакторами центральных газет сказал, что журналист – это политический работник, который должен быть верен идеям марксизма-ленинизма. А кто нет – пошел вон.
А ведь когда-то самого преследовали…
Сейчас Дубчека во всём винит… «Его лично Брежнев предупреждал. Письмом! А он никому это письмо не показал… Обо всем сказал, когда уже войска на всех границах стояли. Ночью двадцатого августа. А то, что войска пришли, мол, все правильно, социализм спасли…» – говорил Гусак.
«Корыта свои они спасли, а социализм – тот, настоящий, они загубили…» – сказал тогда Иво, тихо, будто про себя, но с большой горечью.
Мою «политическую грамотность» и «моральную устойчивость» уже завизировали на партийном бюро института, сказав, что для меня, беспартийной, делают исключение. А сразу же после Нового года мы все шестеро поехали «утверждаться» в бюро райкома партии. Там снова испытывали нашу «политическую грамотность» и «партийную подкованность». Надо было знать имена и фамилии всех генсеков стран Варшавского договора и то, что свершается в этих странах. Верочка меня наставляла и тренировала: отвечать в райкоме надо бойко и обязательно глядя в глаза спросившему.
Все мы порядком перетряслись, стоя перед дверью и не зная, что спросят.
Меня в райкоме спросили, знаю ли я, кто шестой наш космонавт?
– Так это ж Валентина Терешкова! – ответила я, при этом не только бойко и глядя в глаза лысоватому райкомовскому дядечке, но и с явной радостью стала рассказывать, как мы в Хабарском сельхозуправлении Алтайского края везли огурчики со свежесваренной картошечкой нашей Валентине, приземлившейся на территории нашего управления… Выслушали с изумлённым вниманием. «А вы были на целине?» – спросили. И после моего ответа уже больше ни о чем не спрашивали. Зато долго терзали вопросами симпатичнейшего профессора Модянова. Тоже и его характеристику утвердили. Наконец мы все вместе поехали в загранотдел нашего союзного министерства сельского хозяйства. Там официально радушная, с подобранной фигурой и ухоженным, без единой морщинки лицом, моих лет кураторша Ангелина завела на каждого из нас папку, куда сложила наши характеристики, тезисы докладов и заполненные анкеты… Кажется, можно было выдохнуть.
А уже весна, март месяц, и близится восьмое число. А седьмого марта Верочка ездила в министерство. Вызывали в загранотдел по готовящейся поездке в Югославию. Оказывается, утрясали программу, и меня одной лишь не было. Верочка шепотком сообщила мне, чтобы, не мешкая, завтра же ехала к Ангелине, она, мол, велела. А больше ничего не знает.
«Не знал, что это ты!»
Женский День, а я чуть свет в Министерство еду, в загранотдел. При виде меня рот у Ангелины стягивается в бантик. «Тебя в списке делегации больше нет. Еще неделю назад была. До того, как отдали в ВАСХНИЛ на согласование. Может, просто потеряли тебя там?» Ангелина знает меня еще с Тимирязевки: она моложе на три курса. Говорит со мной тихонечко, доверительно…
Мчусь на Харитоньевский, где ВАСХНИЛ. Каждый раз поражает меня это здание – боярские хоромы с расписными потолками и изразцовыми печами, которые оставлены для красы, с узкими виляющими коридорами.
Захожу в кабинет, где секретари по животноводству, Градусов и Кабанов. Их еще с конференции знаю. А потом по заданию Томмэ работала с ними по составлению сводного (по всем институтам) отчета за прошедшую пятилетку. «Мою фамилию где-то у вас потеряли. Из списка пропала», – говорю им в ответ на их поздравление с восьмым марта. «Не пропала, а выкинули. Не мы. А вот сюда зайди, к Никите!» – и ржут, и подталкивают к двери меня, на которой позолоченными буквами выведено: академик-секретарь Ростовцев. Тот самый, что когда-то в Тимирязевку приезжал на нашу защиту дипломов. Его ли мне бояться. А тут еще и мужички подбадривают: «Иди смело! Сегодня твой день. Только вот погоди, косу распусти и вперед ее, и давай!»
Академик – высокий поджарый старик, седой и с лысиной, однако ж с гордой начальственной осанкой, удивленный, привстал мне навстречу, руку свою костистую подает и улыбку делает, мол, праздник сегодня. А я ему: «Зачем фамилию мою вычеркнули? Ну да, я – Филипович». Тот список как раз перед ним и лежал. А он: «Ой! Я не знал, что это ты! Я б тебя никогда-никогда… Ну да, сейчас и впишем». И вписал. «А вот ее, слышь, Раецкую, Исааковну. Тут без ошибки будет», – и берется черкать.
«Это же скандал полыхнёт, – подумалось. – И я виновата».
– Её тоже не вычеркивайте! – почти закричала я.
– М-м-м… А что ж делать? Один лишний. Ну ладно, счас позвоню в министерство. – Наверное, говорил с Ангелиной. Разулыбался, желал здоровья и красоты женской, и счастья в семье. Потом уж совсем буднично, мне: – В понедельник все сделаем. Сейчас эту бумагу все равно некому печатать, секретаршу отпустил…
Прямо в дверях любопытствующие физиономии: носатенькая, по-чиновничьи прилизанная Градусова и округлая, с маленькими хитроумными глазками из-под очков Кабанова.
– Ну как? – и хихикают оба.
– Обещал всё сделать. Была б секретарша, так и сегодня же.
– О-о! Это мы сейчас! Скорей тащи список!
Когда я вернулась в кабинет Ростовцева за тем листочком, академик дремал. Вскинулся, чуток поворчал, но листочек дал. Градусов напечатал сам.
– Такие бумаги надо подписывать немедля! Сегодня же и в министерство тащи!
Ростовцев подписал. Огромная «Р» и характерный росчерк в конце. А потом еще и руку пожал. Крепко. Чтоб ощутила: есть еще силушка в академике старом. «Если что, приходи!» – напутствовал.
Наконец в конце мая всю нашу группу – научных туристов – собрали для инструктажа в кабинете у начальника по связям с зарубежными странами нашего министерства. Югославия считается почти капстраной, поэтому строже инструкции: по одному никуда не ходить, в откровенности не пускаться, восторгов своих при виде их переполненных магазинов не проявлять, а твердо знать, что все равно у нас лучше, ибо все богатство страны – и земля, и недра, и заводы-фабрики, и больницы, и магазины – все наше. И что стоят по сравнению с этим их тряпки, на которые дамы наши часто прельщаются. Последнее сказано было явно для женской половины «делегации», т. е. Верочки, Раецкой и меня. Мужской половине – профессорам Петру Васильевичу Демченко и Алексею Владимировичу Модянову, которым давно за шестьдесят, и Валентину Самохину, у которого лысина от блестящей макушки сползла чуть ли не к самым ушам, оставив лишь кромочки рыжих волос, что под цвет веснушек на сытом его лице, и который смиреннейше взглядывал на министерского начальничка, – посоветовали не напиваться (а если – так у себя в номере!), не ходить на стриптизы, не знакомиться с дамами, ясно, мол, с какими. Ну, а в остальном вести себя раскованно, то есть быть как свободные граждане свободной страны.
После мы должны были получить загранпаспорта, которые для служебного пользования. Но мы их не получили, потому что их еще кто-то там в МИДе главный не подписал. Хотя, можем не волноваться: все уже решено. Тезисы докладов тщательно все проверены (чтобы ничего лишнего не просочилось), залитованы и уже давно отосланы. А нам заказаны билеты.
Паспорта и деньги выдали нам буквально накануне. Ангелина победно сообщила, что разрешили поменять аж по тридцать пять рублей, которые получим с билетами, уже на вокзале. «За это накупите полные чемоданы, рублики-то не простые, а золотые, отпускаются для обмена», – победно сообщила она. Их ей пришлось «выбивать». Потом тихонечко дала нам с Верочкой понять, что была бы рада фарфоровому сервизику, хотя бы кофейному. У нее дома никакого нет. А там эти вещи ужасно дешевые. Сколько стоить будет, она заплатит. Последние слова, конечно же, были сказаны для проформы.