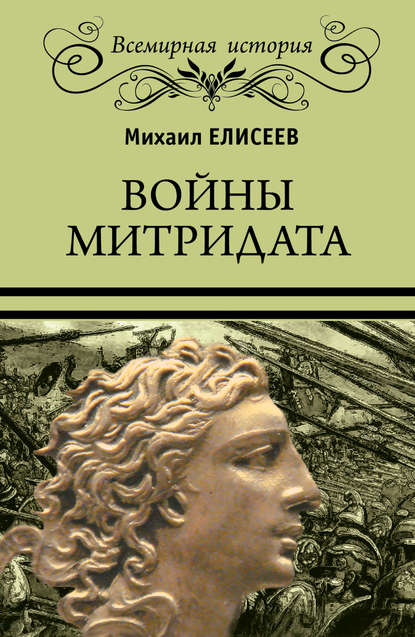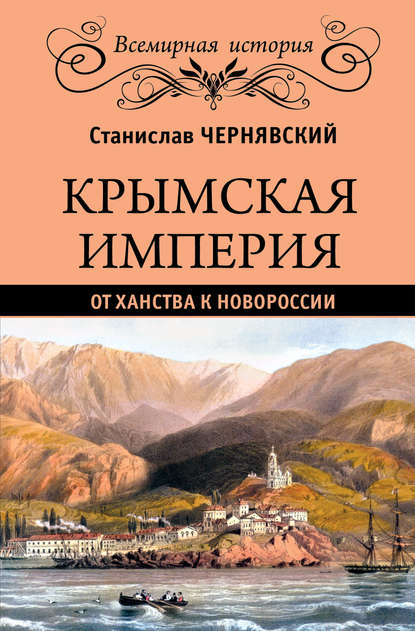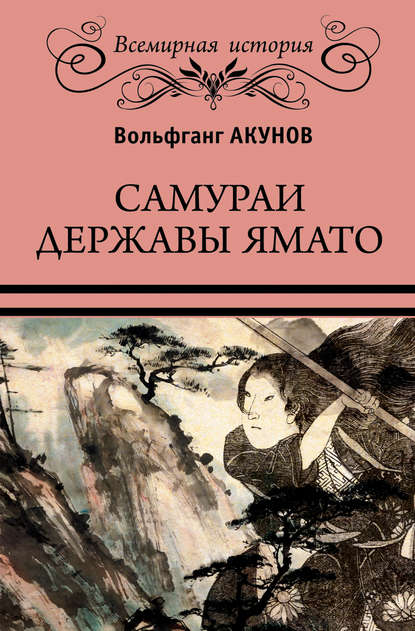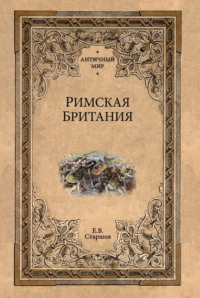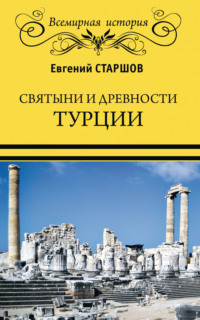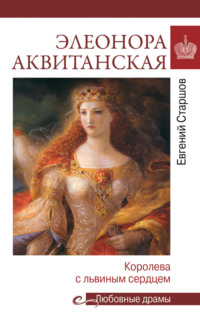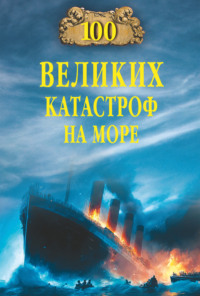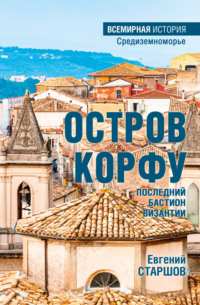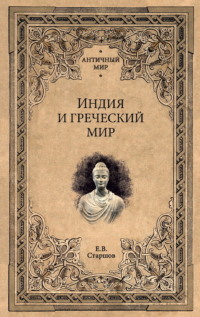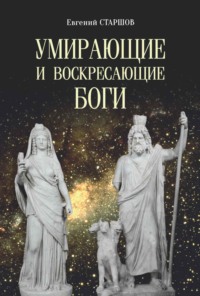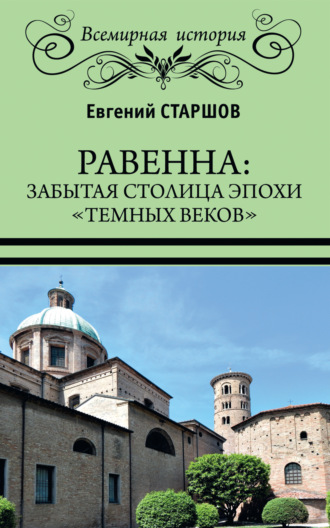
Полная версия
Равенна: забытая столица эпохи «темных веков»
Отметим, что, к прискорбию, время практически целиком стерло с лица земли и Цезарею, и Классис (в последнем осталась только ранневизантийская базилика Св. Аполлинария), лишь раскопки выявляют немногочисленные фундаменты античных построек, однако видеть гавань Августа с кораблями, а также высокие стены Цезареи мы можем до сих пор – на мозаике равеннской церкви Св. Аполлинария Нового. Известно, что на входе в порт стояли два маяка, также имелись верфи, доки, арсеналы, склады, бараки и т.д. Гавань отделял от моря канал длиной 80 м, внутри были два маленьких островка. Сохранились следы молов из цемента, стен вдоль береговой линии из того же материала, длиной в 40 м и шириной в 4—4,5 м, для предотвращения эрозии. От первых построек времен Августа остались дубовые сваи, от сооружений немного более позднего времени – большое количество битой керамики, которой усиливали деревянные конструкции, от II века – кирпичи.
Старший современник Августа, римский инженер Витрувий (I в. до н.э.), оставил в своем бесподобном сочинении «10 книг об архитектуре» руководство по строительству порта: «Вопроса об удобном расположении гаваней нельзя обойти, но надо разъяснить, каким способом корабли защищаются в них от бурь. Если гавани хорошо расположены от природы и у них есть выдающиеся возвышения или мысы, образующие естественные идущие внутрь излучины или завороты, то ясно, что они обладают огромными преимуществами. Ибо кругом них возводят портики, или верфи, или проходы по портикам к рынку и по обеим сторонам ставят башни, с которых можно при помощи машин протянуть цепи поперек гавани. Если же у нас не будет естественного и удобного места для защиты кораблей от бурь, то следует поступать так: если в данном месте нет никакой мешающей делу реки, но с одной стороны будет пристань, тогда с другой стороны устраивают выступы из каменной кладки или плотин; таким образом получается замыкание гавани. Кладку же, которая будет в воде, следует делать так: надо подвезти поццоллану из области, тянущейся от Кум до мыса Минервы, и смешать так, чтобы в растворе было две ее части на одну часть извести. Затем в заранее выбранном месте опускают в воду и прочно закрепляют ряжи из дубовых свай со шпунтовыми стенками; после этого дно внутри этих ряжей выравнивают и очищают и наваливают туда бутовый камень с раствором, замешанным так, как было указано выше; наконец, все пространство внутри ряжей заполняют каменной кладкой. Природная же поццоллана имеется в местностях, указанных выше. Если же из-за волнения или прибоя открытого моря сваи не смогут сдержать ряжей, тогда от самой земли или береговой насыпи выкладывают как можно более прочный мол; причем меньшую половину мола выкладывают горизонтальной, остальную же его часть, примыкающую к берегу, делают с уклоном. Затем, у самой воды и по бокам мола выкладывают стенки, толщиной фута в полтора, вровень с вышеупомянутой поверхностью, после чего этот скат заполняют песком до уровня стенки и поверхности мола. Затем сверху этой выровненной площадки выкладывают требуемой величины столб, который, после того как он выложен, оставляют не меньше чем на два месяца сохнуть. Тогда стенку, сдерживающую песок, разбивают, а песок, подмытый волнами, дает столбу обрушиться в море. Таким способом можно продвигаться в море настолько, насколько это будет нужно. В тех же местностях, где не имеется поццолланы, надо поступать, следующим образом: в намеченном месте устанавливают двойные перемычки, заделанные досками, сплоченными в шпунт, и промежутки между перемычками набивают глиной в плетенках из болотного камыша. Когда эта набивка будет сделана как можно более плотно, тогда место, окруженное такою оградою, опоражнивают и осушают установленными там водоподъемными улитками, колесами и барабанами, и там, внутри перемычек, выкапывают дно для фундамента. Если дно будет земляным, то его выкапывают до самого материка, шире стены, которая должна будет стоять на нем, и затем наполняют бутовой кладкой на извести и песке. Если же грунт будет мягким, в него вбивают обожженные ольховые или масличные сваи и наполняют его углем, как было указано для фундаментов театра и городской стены. Затем уже возводят стену из тесаного камня с как можно более длинными перевязками, чтобы камни, лежащие в середине, крепко-накрепко сдерживались швами. После этого нутро стены наполняют раствором со щебнем или же каменной кладкой. На таком основании можно строить даже башни. По окончании этого, при постройке верфей, надо принять за правило строить их по преимуществу обращенными на север, ибо на южной стороне заводятся гниль, черви-древоточцы и всякого рода другие вредные твари из-за жары, способствующей их питанию и размножению. В этих зданиях надо как можно больше избегать применения дерева из-за пожарной опасности. Что же касается их величины, то тут нельзя устанавливать никакого определенного размера, но надо их делать соответственно самым большим судам, чтобы, если понадобится ввести даже очень крупные корабли, они могли бы там просторно поместиться».
В конце своего сочинения Витрувий более подробно описывает водовзводные механизмы, упоминаемые выше (возьмем из обилия его информации по водяным механизмам и автоматам только нужное по теме): «Теперь я изложу, каким образом устраивают разного рода орудия, изобретенные для подъема воды. И первым делом скажу о барабане. Он подымает воду не высоко, но легко вычерпывает большое ее количество. На токарном станке или по циркулю изготовляют ось, окованную по концам железом; ее вставляют в середину сколоченного из досок барабана и укрепляют на стойках, обитых железом под концами оси. Вовнутрь этого барабана вставляют восемь поперечных досок, примыкающих к оси и к окружности барабана и разделяющих барабан на равные отделения. Наружную его часть обшивают досками, оставляя полуфутовые отверстия для поступления воды внутрь. Также около оси делаются отверстия с одной стороны каждого отделения. Когда этот прибор просмолен, как корабль, его вращают ногами людей, как топчак, и он, черпая воду через наружные отверстия барабана, выпускает ее через отверстия вокруг оси в подставленное деревянное корыто, соединенное с желобом. Так доставляется много воды для орошения садов и для надобностей соляных заводов. Если же воду надо поднимать выше, это устройство видоизменяется так. Кругом оси делают колесо требуемой высоты. По всему наружному ободу колеса прибивают прямоугольные черпаки, залитые смолой с воском. Таким образом, когда колесо вращается топчаком, полные черпалки, поднимаясь кверху и возвращаясь вниз, сами выливают в водоем поднятую воду. Если же надо доставлять воду в еще более высокие места, на ось такого же колеса наворачивают двойную железную цепь и спускают ее ниже поверхности воды, обвесив медными ведерками вместимостью в один конгий. Таким образом, вращение колеса, наворачивая цепь на ось, выносит кверху ведерки, которые, став над осью, непременно опрокидываются и выливают в водоем поднятую ими воду. Также и на реках ставят колеса того же устройства, какое было описано выше. К их ободам прибивают лопасти, которые, будучи толкаемы течением реки, приводят своим движением колесо во вращение и таким образом, забирая воду черпаками и поднимая ее кверху, доставляют нужное количество воды без помощи топчака, вращаясь от самого напора реки. Таким же способом вертятся водяные мельницы… Существует также приспособление-улитка, вычерпывающее множество воды, но не поднимающее ее так высоко, как колесо. Устройство его таково. Берут бревно, имеющее в толщину столько же дюймов, сколько в длину футов. Его обтесывают по циркулю. Концы его по окружности делят циркулем на восемь частей квадрантами и октантами, и эти линии располагают так, чтобы при лежачем положении бревна линии на обоих концах в точности соответствовали друг другу, и так, чтобы по всей длине бревно разделялось на отрезки, равные восьмой части окружности. Затем, положив бревно на землю, проводят совершенно прямые линии от одного конца к другому. Так бревно и вдоль и по окружности разделится на равные отрезки, и в тех местах, где пройдут продольные линии, поперечные круги образуют пересечения, а в пересечениях – определенные точки. После того как эти линии правильно проведены, берут тонкую дранку от ивы или витекса и, вымазав ее жидкой смолой, прибивают к первой точке пересечения. Затем ее протягивают наискось к следующим пересечениям продольных и круговых линий и, по мере того как она продвигается, проходя по порядку от точки до точки и обвиваясь вокруг бревна, ее прикрепляют к каждому пересечению; и так, отступая от первой к восьмой точке, она приходит и прибивается к той линии, к которой было прибито ее начало. Таким образом, насколько она проходит наискось и через восемь точек, настолько же она продвигается в длину к восьмой точке. Так же и дальше, по всей длине и окружности, дранки, прибитые наискось по пересечениям, образуют каналы, завороты которых проходят через восемь делений толщины и точно воспроизводят естественный вид улитки. Затем по этому следу набивают одну на другую дранки, намазанные жидкой смолой, и выкладывают до тех пор, пока они не достигнут толщины, равной восьмой части длины. Их окружают и обивают досками для защиты этой спирали. Доски пропитывают смолой и связывают железными ободами, чтобы им не разойтись от напора воды. Концы бревна железные. Направо же и налево от улитки укрепляют брусья, на концах которых с обеих сторон имеются прибитые поперечины; в эти поперечины вставлены железные втулки, в которые втыкают стержни, и таким образом улитки вращаются посредством двигаемого людьми топчака. Наклон этой улитки должен быть сделан под таким углом, под каким вычерчивается Пифагоров прямоугольный треугольник, то есть в следующих соотношениях: длина улитки делится на пять частей, и на три из них возвышается ее голова; таким образом, расстояние от основания перпендикуляра до сопла внизу будет равно четырем таким частям… Орудия для подъема воды, делающиеся из дерева, способы их устройства и каким образом они приводятся в движение, принося своим вращением бесконечную пользу, я, насколько мог яснее, описал для ближайшего с ними ознакомления». То, что все «прелести» труда по обустройству порта падали на плечи самих моряков, было отмечено ранее.
Относительно серьезным недостатком Равенны как блистательного порта Августа являлся дефицит питьевой воды. Как не вспомнить еще одну эпиграмму Марциала: «Не виноградником мне, водоемом владеть бы в Равенне: // Больше нажиться я там мог бы продажей воды»; впоследствии эту проблему решит Траян (53—117 гг., правил с 98 г.). Достоинствами были связь со столицей через дороги Фламиния и Эмилия и, вместе с тем, возможность ее защитить; прямая угроза иллирийским пиратам; возможность действий на реке Пад; неприступность с суши; наличие лиственничных лесов для постройки кораблей. Более мелкие подразделения равеннского флота базировались в Салоне, Брундизии, Лориуме, на Фуцинском озере; возможно, в Аквилее; с меньшей вероятностью – в Анконе; собственная стоянка была у равеннского флота в столице – впрочем, как и у мизенского. Также одной из целей учреждения равеннского флота являлась переброска (по необходимости) «живой военной силы»: трирема принимала порядка 80 «морпехов», квинкверема (пентера) – 120; для перевозки легиона, принимая его численность в 5000 человек, требовалось где-то 60 кораблей.
В целом нельзя не отметить, что, по сути, флоты римской империи «отметились» в истории не громкими победами – их просто не было, но являлись, по известному английскому выражению – fleet in being, т.е. «флот был» – и самим своим существованием выполнял стабилизирующую роль, поддерживая знаменитый «римский мир» – Pax Romana. Кризис, наступивший в середине III в., развалил и флот; и когда римские воды начали бороздить хищные суда готов (их армаду античные писатели, конечно, с преувеличением, оценили от 2 до 6 тысяч!) и иных варваров, ответить на это было еще, конечно, чем, но все равно – вклад флотов (в том числе равеннского) в разгром готов Клавдием II (ок. 214—270 гг., правил с 268 г.) довольно спорный (сведения скудны, Ч. Старр вообще чрезвычайно скептичен в этом отношении, этот вопрос детальнее будет рассмотрен в следующей главе). Каждый город или регион выходил из положения, как мог, вплоть до создания «самостийных» флотилий. В конце III в. «великие флоты» были исключены из «претория», а в V в. ни мизенского, ни равеннского флотов даже уже не было в реестре боевых соединений. Что удивительного, если к тому времени в Классисе на месте заиленной гавани росли деревья! Император Восточной Римской империи Феодосий II (401—450 гг., правил с 408 г.) в 419 г. «разразился» законом, карающим смертью каждого, кто обучит варваров морскому делу, – а уже 10 лет спустя вандалы беспрепятственно бороздили имперские воды. Но это мы зашли чуть вперед, чтоб логически завершить рассказ об истории равеннского флота; на самом деле, с упадком и фактическим исчезновением флота (но, разумеется, отнюдь не благодаря этому) Равенна вошла в новый, причем, видимо, славнейший для себя период – став столицей Западной Римской империи. Следовательно, задачей следующей главы и является посильное описание истории города и действий его флота в период от Августа до Гонория (384—423 гг., правил с 395 г.) – первого западноримского императора, давшего Равенне столичный статус.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.