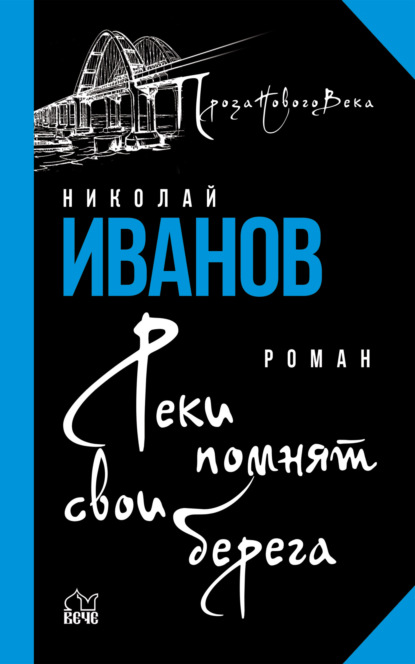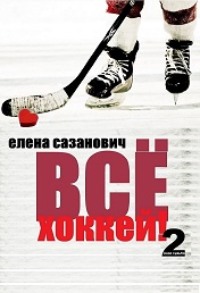Полная версия
Убить Гиппократа
Но в это дежурство я вдруг подошел к зеркалу. Странно, но на этот раз оно меня не разочаровало. А даже взбодрило. Тщательно выбритый, подстриженный, помолодевший. Если открыть рот – там можно даже увидеть пломбу… Жаль, зеркало не может отображать не только слова, но и запахи. Иначе сейчас оно бы непременно источало аромат дорогущей туалетной воды, которую я почему-то приобрел накануне. Зато галстук, купленный тысячу лет назад, но с тех пор заброшенный, зеркало хорошо отразило. Как и то, что он не вышел из моды. Хотя я не знаю, есть ли сейчас мода. Скорее всего – нет. И зачем мне галстук, я сейчас надену халат, и галстук почти будет не виден. Хотя разве галстуки надевают для красоты? Нет, безусловно, нет. Галстуки предназначены для солидности, строгости и уверенности в себе. Можно сказать, для повышения самодостаточности. Сегодня я хотел выглядеть солидным, строгим и особенно уверенным в себе.
Зачем? Затем, что мне нужно расспросить пациентов об их самочувствии и пожелать спокойной ночи. Стоп. Не то. Для этого я никогда не надевал галстук и не покупал туалетную воду. Просто среди пациентов была одна пациентка… У нее еще фикус в палате. И больничные тапочки у кровати. Но это-то тут при чем? Разве из-за фикуса надевают галстук?
Я совсем запутался. Пожалуй, пора. Я бросил умоляющий взгляд на зеркало. Оно отразило вполне симпатичного мужчину около сорока лет. С довольно мужественным широкоскулым лицом. Слегка раскосыми проницательными глазами. В белом халате, из-под которого неожиданно выглядывал дорогой галстук. Мне вдруг показалось, что в этого мужчину можно влюбиться. Может быть, не зря придумали зеркала…
Мое ночное дежурство было предсказуемым. Я обошел все палаты. Расспросил всех пациентов о самочувствии и всем пожелал спокойной ночи. К ней я заглянул в последнюю очередь.
Она не щелкала фисташки. Она читала книгу. Настольная лампа освещала ее круглое лицо. Но я по-прежнему не мог его уловить. Почему-то ярче всего были видны ее по-детски оттопыренные уши. А книга делала выражение лица умнее. Все книги всегда делают лица умнее. Жаль, что лица не могут сделать книги умнее. Хотя умные книги в этом не нуждаются.
Я хотел спросить, что она читает. А вместо этого у меня почему-то вырвалось:
– Угостите фисташками?
Она отложила книгу в сторону. И ее лицо слегка поглупело.
– Они закончились.
Я растерялся. Я чувствовал, что теперь и мое лицо глупеет на глазах. И я схватился за ее книгу. Она пришлась очень даже кстати. Это был Достоевский. А я думал, что девушки с круглым лицом и оттопыренными ушами Достоевского не читают.
– Я и не знал, что девушки еще читают Достоевского, – глупо, тем более с поумневшим лицом, пробубнил я.
– Это чтобы побыстрее уснуть, доктор, – отрывисто ответила она. И зевнула, не прикрыв рот ладошкой? – А вообще у меня самочувствие нормальное, температуры нет и…
Она запнулась. Она хотела сказать: спокойной ночи. Она хотела от меня отвязаться. И мне стало так грустно, словно у меня вновь отобрали солнце. Хотя ночью его не могло быть априори.
– Спокойной ночи, – опередил я ее.
Видимо, ей стало стыдно.
– Очень красивый фикус. Я даже его полила. И галстук мне ваш нравится.
Как она могла заметить галстук? Ведь он совсем не виден из-под халата. Я еще больше смутился. И отложил книгу на тумбочку. Мое лицо вновь поглупело. Мне следовало давно уйти, я это чувствовал. Свой долг врача я уже выполнил. И о самочувствии узнал, и пожелал спокойной ночи. Но я не уходил. Хотя прекрасно знал, что уходить всегда нужно первым. Зная, что тебя не задерживают. Это не так болезненно.
Меня не задерживали. И мне было от этого чуточку больно. Мне так хотелось с ней поболтать. Но она, похоже, соблюдала режим. Похвально.
– Жаль, доктор, что я не могу вас угостить фисташками. – Она вновь демонстративно зевнула.
Она словно куда-то торопилась. То ли уснуть. То ли дочитать Достоевского. Хотя мне казалось и то, и другое неправдоподобным. Кто в мире торопится спать или читать Достоевского?
И я подумал, что зря запломбировал зуб. Похоже, в ближайшее время поесть фисташки мне так и не придется.
Вернувшись в свой кабинет, я вдруг почувствовал себя одиноким. А ведь никогда, никогда еще на работе я не чувствовал одиночества. Почему, почему оно вновь безжалостно и навязчиво нагнало меня? Только потому, что какая-то лопоухая девчонка не захотела со мной поболтать? Какие глупости. Что я себе вообразил! Она не девчонка! Не так уж она и молода. Просто выглядит так. Пусть свои уши за это благодарит. Она всего лишь одна из пациентов. Которым следует строго соблюдать режим. И я принципиальный сторонник клятвы Гиппократа. И прозвище у меня Гиппократ. Прозвища зря не дают, их заслуживают. И я не имею права относиться к пациентам по-человечески…
Тьфу ты! Что я болтаю? Конечно, по-человечески. Но не по-другому. А как это – по-другому? Я спорил с собой, убеждал себя. Пытался с помощью валерьянки утихомирить свое взбунтовавшееся сердце. Но переубедить себя мне не удалось.
Я опять посмотрел в зеркало. На меня смотрел влюбленный человек. Гладковыбритый, аккуратно подстриженный. С мужественным широкоскулым лицом. В галстуке. От которого пахло дорогим парфюмом. И даже зуб был запломбирован. В завершение совершенного образа. И я подумал в очередной раз, что в этого человека можно влюбиться. Мое отражение меня победило. Зеркала победили мой мир. Он стал прозрачным, сквозным. И я поежился от сквозняка.
К середине ночи мне вздумалось перекурить свой совершенный и прозрачный образ. В себе разбираться мне уже не хотелось. И я, достав из ящика стола пачку сигарет, вышел на балкон. Да, именно на балкон. В нашей клинике были балконы.
Изначально она была задумана как санаторий или дом отдыха. Эта идея принадлежала Вальке Лису. Чтобы больница внешне никоим образом не напоминала больницу. Упаси боже! Чтобы, один раз взглянув на нее, никто не посмел сказать: а ведь тут лежат больные люди, некоторые очень даже больные, а некоторые вообще при смерти. Словно суть вопроса зависела от внешнего вида. Словно внешний вид мог победить болезни и противостоять смерти. Словно больные исчезнут, если больничные стены будут окрашены в салатовый цвет. А палаты будут напоминать жилые комнаты. Хотя никто не задумывался, что жилые комнаты сегодня скорее напоминают больничные палаты.
Иногда создавалось впечатление, что эта игра в красивости специально уводит от сострадания и переживаний. Мы откровенно говорим о болезнях больному, понимая, как это ему больно. И в то же время избегаем внешней правды. Чтобы в том числе и прохожий, посмотрев на комфортабельный, веселенький вид клиники, равнодушно прошел мимо. Возможно, буркнув под нос: а неплохо тут больные пристроились.
Впрочем, разве только больницы это касается? Это касается всего в нашей жизни. Вот Достоевский не боялся настоящей правды. Чтобы больно было не только больному, но и здоровому ближнему. В том числе было бы больно самому писателю. И он бы этой боли не избегал. Это и есть сострадание.
Хотя вполне можно было строчить развлекательную ерунду. И по ночам спать спокойно. Но сейчас у писателей другая миссия. Писатели спокойно спят по ночам. И прохожие равнодушно проходят мимо больниц. И никому уже не больно. И только физическая боль еще может причинить страдание. Но если в жизни осталась лишь физическая боль, разве мы мало отличаемся от животных? А возможно, в этом и заключается сегодня основная миссия мира? Чтобы он стал однородным. Страшная миссия…
Я вышел на балкон. И вдруг понял, что и мне тоже давно уже не больно. Давно. Больно – это конкретное слово, из жизни, что ли. А если больна душа? Нет, я понимал, когда я физически болен. Это другое. Хотя уже казалось, это одно и то же. И фраза «душа болит» уже выглядит не просто анахронизмом, а банальностью и безвкусицей. За такую фразу становится стыдно. А мы выше этого. Потому что циничнее, увереннее, равнодушнее. Правда, мы еще помним, что такое душа. Но не знаем, зачем она нужна. Если понимаем лишь физическую боль. И то исключительно свою.
Я закурил. Я не винил Вальку. Он хотел как лучше. К тому же он шел в ногу со временем. Можно сказать, даже бежал. И, по сути, это верно. Правда, балконы в палатах оказались ошибкой. Открытыми их нельзя было оставлять, потому что больные там тайком покуривали. Даже были случаи, некоторые хотели выброситься… Потому балконы в палатах заколотили. А зачем нужны заколоченные балконы? Валька пока придумать не смог. Но, как всякий энергичный человек, идущий, вернее, бегущий в ногу со временем, активно его искал. Я был уверен, что он найдет ответ. Потому что нельзя допускать бесхозяйственности. И расточительства. И попустительства. Ведь в эти балконы вложены большие деньги.
Я стоял на балконе и курил. Вот в моем кабинете балкон был как нельзя кстати. И в Валькином тоже. Валька тоже курил. Впрочем, наши кабинеты располагались рядом, и балкон был один на двоих. Его разделяла лишь узенькая перегородка.
Вдруг я заметил, что из-за перегородки просачивается слабый луч света. Возможно, мне это кажется. А возможно, и нет. Валька был, конечно, ответственный человек. Но бывали случаи, когда он забывал выключать настольную лампу или компьютер. Я переступил через перегородку. Конечно, на этот раз опять компьютер.
Монитор горел тусклым синим светом… Лучше бы синим пламенем. Компьютеры я ненавидел. Как и всю новомодную технику. Нет, я не был ярым противником научно-технического прогресса. А просто считал, что он не должен происходить так резко и навязчиво. И тем более обгонять самого человека. Душа которого давно уже не болит. Да и как может болеть душа, если она давно заложена в компьютер и ее можно легко починить?
Я осторожно открыл балконную дверь. Она даже не скрипнула. Сам не знаю, почему я сделал это осторожно. Ведь для этого не было никакой причины. Просто, наверное, сработал элементарный инстинкт. Ночью все нужно делать тихо и осторожно. Ночь не любит скрипучих дверей. Ночь не жалует громких шагов… И я тихо переступил порог Валькиного кабинета. И застыл на месте. Мгновенно у меня даже во рту пересохло.
Я увидел ведьму. Или приведение. Или русалку. У меня не было времени разобраться. Да и разница небольшая. Я плохо ее различал в темноте. Я увидел только длинные черные волосы с синевой, бледный профиль лица с синевой, и белые одежды с синевой. И мне показалось, что она что-то толчет в ступе. И над чем-то колдует.
Впрочем, мое видение продолжалось одно мгновение. Единственный слабый источник света – компьютер – вдруг потух. И ведьма, от которой остались только белые одежды, вылетела в едва приоткрытую дверь. Не утверждаю, на метле или еще как…
Я перевел дух. Или у меня галлюцинации, или я сошел с ума, или все это чушь собачья. И включил свет. Вместе со светом в кабинет вернулась реальность. Нет, все же научно-технический прогресс – это совсем неплохо. Особенно я приветствую изобретение электрической лампочки. Хвала Яблочкову и Лодыгину! Так и быть – Эдисону тоже! Хвала электрификации всей страны!.. И что я, врач-практик XXI века, себе вообразил? Право, смешно! Ведьму! Это когда вот-вот полетят на Марс. Когда мобильники, скайп и компьютеры. Цифровая спутниковая связь и искусственная сетчатка глаза! Когда в любой момент можно увидеть лицо человека, находящегося от меня за миллионы километров. И запросто с ним поболтать. И почувствовать запах через компьютер!.. Какие, к чертям собачьим, ведьмы?
Правда, почему-то все эти аргументы мне показались не очень убедительными. Когда я вдруг вспомнил еще один продукт научно-технического прогресса – телевидение. Допотопность его мышления и варварство его сплетен. Когда вдруг вспомнил уровень общественного образования. И слепую веру людей. В ведьм, чертей, домовых, гадалок, экстрасенсов и прочих. А еще человеческое мышление. И восприятие невероятной информации.
Похоже, я оправдывал себя. Я ничем не отличался от темных людей XXI века. И тоже безоговорочно поверил в ведьму.
Нет уж, в отличие от них, я еще помнил, что являюсь врачом-практиком. Материалистом и реалистом. А папа у меня вообще был ученым. Хоть и работал простым терапевтом. Как Чехов. И Чехов – мой любимый писатель и тоже – врач-терапевт. И тоже реалист и материалист. Хотя и писатель. Потому что тоже ученый…
В итоге я окончательно запутался, работая сам себе адвокатом. В общем, пошли все к чертям собачьим! Учитывая, что чертей не существует. И собаки к ним никакого отношения не имеют… Поэтому я сумею во всем разобраться. И найду эту «ведьму». Которая окажется простым воришкой. Даже если в белых одеждах. Может, это и вовсе был медицинский халат?
Я тщательно осмотрел кабинет. Все было на своих местах. Конечно, только Валька сможет вынести окончательный вердикт – не украдено ли чего? Но внешне все довольно прилично. Не разбросано, не побито, не разгромлено. Я решил выйти в коридор. И дернул ручку двери. Черт! Дверь была заперта! Значит, не было никого! Значит, галлюцинации! Или все-таки ведьма?! Похоже, я возвращаюсь к исходному. К человеку XXI века. Прилипшему к компьютеру. И сжимающему в руках мобильник. Как спасательному кругу. В современном стеклянном доме, обустроенном в стиле минимализма и напоминающем больничную палату. С головой, забитой лабиринтом дремучих, примитивных, запутавшихся мыслей. Распутывать которые человек не желает. И даже не может. Учитывая, что мысли его давно не болят. Как и душа.
Щелкнув ручкой дверного замка, я вышел в коридор. В дальнем конце дежурила медсестра. Вернее, дежуря, дремала. Как жаль, что мое дежурство не совпадает с дежурством Иришки, жены Лиса! Вот кто ответственный работник! Вот при ее дежурстве невозможно никакое ЧП! Никакие воры! Не говоря уже о ведьмах или привидениях…
Я скучал по Иришке в ночные дежурства. Она просто излучала настоящую реальность, спокойствие и уют. Особенно когда брала гжельскую чашечку в руки, наливала туда из гжельского чайника ароматный дымящийся чай и гжельской ложечкой размешивала сахар. А еще она пила чай из гжельского блюдечка, конечно, если чай очень горячий. Хотя, признаюсь, всего этого я не видел. Но ярко представлял эту картину, сотканную из гжельского уюта, гжельской реалистичности и гжельского умиротворения…
Это я постоянно вспоминал, когда болела душа. И мне казалось, что только такие, как Иришка, способны вылечить душу. Она воистину была медсестра от Бога. И не только для пациентов…
И я в который раз позавидовал Лису. И в который раз пожалел, что не дежурю с Иришкой…
* * *Увы, это была не Иришка. Это была всего лишь медсестра с очень медсестринским именем – Мила. Но несмотря на милое имя Мила, несмотря на то, что она была очень мила собой, она не любила свою работу. И предпочитала на ней спать. Иногда красить ногти. В это дежурство она, похоже, успела и то, и другое.
В коридоре пахло лаком, а Мила мило дремала на стуле. Валька давно бы ей голову свернул и обломал бы все ее накрашенные ногти. Валька есть Валька. Но он был слишком… Слишком хороший… Даже для Милы. Он давно хотел ее уволить, но почему-то не увольнял. Валька был просто добрым парнем. Хоть и бегущим в ногу со временем.
– Милая Мила, – тихо позвал я медсестру.
Она тут же проснулась. И сразу приняла строгий вид. Ни сна на лице, ни следов сновидений. Ни частого моргания спросонья. Ни зевоты. Секрет профессионала.
– Да, Георгий Павлович?
– Да, Мила. Вы не видели случайно – никто сейчас не прошел по коридору?
– Прошел? Я вас не понимаю. Я бы точно заметила! Я бы никого не пропустила. – Мила ответила уверенно, даже не моргнув глазом. – К тому же кому тут быть! Это вам не бульвар и не спортплощадка, чтобы тут прогуливаться или бегать. Слава богу, наша клиника современная. У каждого в палате свой туалет. Это вам не допотопные больницы, где туалет один на всех, и тот на коридоре. Так что…
– Я вас понял, Мила! Вы все очень аргументированно объяснили. Можете дальше продолжать…
У меня чуть не вырвалось в рифму – спать. Но я вовремя остановился. Мне не хотелось ночных разборок с Милой. Да и прямых доказательств сна на дежурстве не было.
– Продолжать дежурство.
– Я и продолжаю.
Милое лицо Милы выглядело очень глупым, хоть и уверенным.
– Кстати, Мила. А что вы всю ночь делаете? Я ни разу не видел вас с книжкой. Кстати, она была бы вам к лицу.
– Странный вы, Георгий Павлович. На дежурстве я дежурю. Что же еще? Я выполняю все инструкции. Читать не положено, разве не так? Чтение – это нарушение правил.
– Вы правильный человек, Мила. И ответственный. Я рад за вас.
Лицо Милы стало еще строже и еще глупее. Не могу понять, как это возможно совместить – строгость и глупость одновременно. Но Миле это всегда удавалось. Возможно потому, что она искренне верила в свою правильность и ответственность.
И я в очередной раз вздохнул по Иришке. Она всегда сомневалась в своей ответственности и правильности. Но более правильного человека я не видел. Ее лицо было всегда умным. И с книгой в руках, и с гжельской чашкой. За круглым столом.
Я двинулся по коридору. По пустынному коридору своей больницы. Ночью мне она нравилась еще больше. И репродукции русских, французских, голландских художников вдоль стен выглядели настоящими именно ночью. И мне казалось, что я иду по художественной галерее. Может, Лис действительно прав? Когда думаешь, что ты в музее, а не в больнице, стоны больных за стенами, на которых развешаны картины, не слышны. И, безусловно, нам от этих стонов уже не больно. Больно только больным.
Может, Лис прав? Боль должен испытывать только тот, кто болеет? И этой боли на каждого за жизнь хватит… Но мне казалось по-прежнему, что Гиппократ с Лисом ни за что с этим не согласились бы…
Хотя что мы знаем про Гиппократа? Когда столько веков прошло. И столько историков родилось за это время. И столько эти историки смогли переврать и насочинять за эти века. Хотя мой папа и Чехов тоже бы никогда не согласились с Лисом. А они верили в Гиппократа, словно знали его всю жизнь. А я верил им…
Возле двери палаты, где лежала моя пациентка… Вот я уже и констатирую – моя… Ведь все – мои пациенты. Так почему именно она?.. Наверное, правильнее будет сказать: «возле двери палаты, где лежала пациентка по имени…» Как же ее зовут? Имя какое-то дурацкое. Я вообще плохо запоминаю имена. Какое-то не очень русское. И не очень нерусское. С ягодой ассоциируется. Да, точно, точно… Ядвига. Польское имя. Хотя в Белоруссии и на Украине навалом девушек с таким именем. Думаю, и в Словакии, и в Словении, и в Германии их навалом… Зачем это я ударился в географию? Учитывая, что всегда неважно ее знал. Потому что плохо ориентируюсь в пространстве, а может быть, и в самом мире. Плохо запоминаю города и страны. И имена людей тоже. Может быть, потому, что среди людей тоже плохо ориентируюсь. Поэтому разве имеет значение, как зовут мою пациентку? Ну вот, я опять за свое. Еще не хватает, чтобы я назвал ее пациенточкой. Нет, нет, ни в коем случае. Ее зовут Ядвига, я вспомнил! Обычное нерусское имя.
Так вот, возле палаты Ядвиги я остановился. За стеной, на которой висели репродукции картин известных художников, лежала она. Нас разделяли художники. И я почему-то сделал вид, что внимательно рассматриваю одну из картин. Чтобы, не дай бог, Мила, ничего такого не заметила. А пронзительный взгляд Милы буквально впивался в мою спину, и я это чувствовал. Слава богу, она сидела в другом конце коридора, иначе от ее взгляда у меня наверняка бы остались синяки.
Мила впилась в меня. Я впился в картину… И вдруг до меня дошло, что на ней изображена ведьма. Я буквально похолодел. И напрасно. Потому что это была вовсе не ведьма, а обыкновенная Баба-яга работы сказочника Васнецова. Она так и называлась «Баба-яга». По-моему, еще в детстве я видел это полотно в доме-музее художника. И тогда она меня не испугала, а рассмешила. В детстве мы всегда смелее. А сейчас я, врач-практик, реалист и материалист, вдруг похолодел от этой картины.
Хотя при чем тут ведьма? Моя ведьма, как и положено, была в белом. С черными, как и положено, волосами. И пугающе красива, как и положено. Нет, про красоту я придумал. Потому что даже не разглядел ее лица в темноте…
А эта васнецовская Баба-яга была даже трогательной. Потому что очень хотела напугать всех своим классическим образом. И носом-крючком, и клыками, и растрепанными волосами, выбивающимися из-под косынки, и костяной ногой, и ухающим филином. Но разве может напугать классический образ? Классика заставляет думать. А пугает в основном масскульт. Вон Гоголь сколько пугал-пугал, но так и не напугал. До сих пор его читают – и вдумчиво, и недоуменно.
Впрочем, при чем тут Гоголь, классика и Баба-яга… Да и не читают уже ничего вовсе… Но почему, почему именно картина с этой ужасной до смеха бабкой висит на стене, за которой временно живет Ядвига?
Мне это не понравилось. Вдруг – плохая примета?.. А с каких пор я стал верить в приметы? И что эта примета может означать? Что в одно солнечное осеннее утро влетит на ступе Баба-яга и унесет через балкон мою пациентку? Вместе с солнцем. Последним солнцем для осени. Ну, хорошо, одну из моих пациенток. Но это невозможно. Хотя бы потому, что все балконные двери в палатах заколочены. Так распорядился главврач Лис. И солнце украсть невозможно. И девушку тоже… Хотя почему девушку невозможно украсть?
Я похолодел. А возможно, я и не о пациентке беспокоюсь. А о солнце, которое мне хочется удержать. И я так не хочу, чтобы его украли. А Баба-яга просто невозможна… Я похолодел еще больше. Но ведь кто-то был ночью в кабинете Вальки Лиса?
И внезапно мне захотелось убедиться, что с Ядвигой все в порядке. Что она спокойно спит в своей постели. Но могу ли я ночью разбудить пациентку? Просто из-за каких-то бредовых подозрений? Особенно, когда пронзительный взгляд медсестры вцепился в мою спину. До боли… Тут кто-то больно хлопнул меня по спине. Я резко обернулся. Это была сама Мила, а не ее взгляд.
– Бабкой-ёжкой любуетесь? Хороша! И кому только в голову взбрело вывесить в больнице этот комикс? Больных, что ли, пугать!
– Милая Мила, это не комикс, а шедевр. Да и больных уже не испугаешь Бабой-ягой. У них совсем другие страхи. И очень даже реальные. Обоснованные.
– Ну, Баба-яга – это тоже основание. Особенно когда идешь на операцию. А перед твоими глазами клыки и нос крючком. Всякие могут возникнуть ассоциации.
– Вряд ли те, кто идет на операцию, глазеют по стенам. В основном, Мила, их везут на каталке. И впереди они видят лишь белый халат. Халат медсестры. Такой, как у вас, Мила.
Мне захотелось добавить: хотя какая, к черту, ты медсестра? Но я промолчал. А она потянулась к дверной ручке палаты.
– Вы куда, Мила? – почему-то испуганно пробормотал я.
Мила удивленно посмотрела на меня.
– Как куда? Уже утро, Георгий Павлович. А вы и не заметили. А этой пациентке сегодня выписываться. Вот я ей первой градусник и несу.
Я, как фокусник, изящно выхватил градусник из рук Милы.
– Вы ответственный человек, Мила. Вы всегда следите за режимом пациентов, вы всегда охраняете их покой. Но позвольте, я занесу градусник.
Мила бросила на меня подозрительный взгляд и, по-моему, даже хмыкнула. А может, и нет. Может, я преувеличиваю.
– Вообще-то это входит в обязанность медсестры – разносить градусники и записывать температуру…
– А я как врач должен всего лишь подтвердить возможность выписки пациента именно сегодня.
– Пациентки, – навязчиво (или ненавязчиво) поправила меня Мила.
– Разве? А я почему-то подумал, что здесь лежит именно пациент. Впрочем, это не важно…
– Ну да, где уж запомнить, – поверила (или не поверила) мне Мила.
Я тихонько отворил дверь. Ее солнце еще не влетело в палату. Было слишком раннее осеннее утро. Солнце еще стояло за дверью балкона, ожидая, когда его пригласят. И мне казалось, что не время, не природа, не климат, а именно она должна его пригласить.
Она лежала на диване. Слава богу, ее не украла ни Баба-яга, ни кто-либо другой. Сегодня моя пациентка уйдет сама. И заберет с собой солнце. И я до весны его уже не увижу.
Она спала на диване. И ее веки подрагивали. Такое бывает, когда крепко спишь. Или когда притворяешься, что крепко спишь. Я не знал – она крепко спала или притворялась. Впрочем, это было не так уж важно. В любом случае вранье могло быть простительно и уместно. Неловко лежать с открытыми глазами, когда входит лечащий врач.
– Ядвига? – тихонечко позвал я ее.
Она тут же открыла глаза. И спросонья потянулась. Или сделала вид, что спросонья.
– Здравствуйте, доктор.
Она включила настольную лампу. Свет осветил ее круглое лицо и оттопыренные уши. И пышные светло-русые волосы, особенно ярко подчеркивающие ее черные глаза и черные брови.
– Вы должны измерить температуру. Вас сегодня выписывают.
– Правда? А если будет высокая температура?
– Ну… Значит, вы, возможно, простыли. Но это не означает, что вам нужна операция. Поймите, у нас хирургическое отделение.