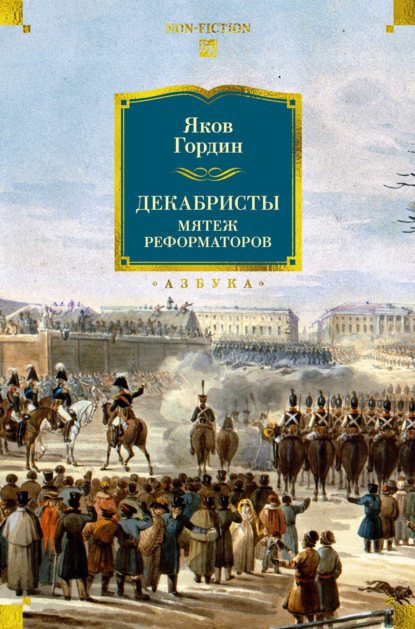Полная версия
Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки
Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году укоротились и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося в своем саду брюки. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 г. из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели – те все выдумывали себе разные костюмы: Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Маяковский по-своему… Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале (теперь Приморское шоссе), они либо жили в Куоккале, либо часто приезжали в Куоккалу.
Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.
Свой куоккальский озорной характер К. И. Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил К. И. Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по-старинному Ужское) было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю». Такой лист висел часов до трех дня. Приезжавшие к Корнею Ивановичу из Москвы ждали, ждали и в конце концов часто уезжали. Татьяна Александровна рассказывала и о следующей проделке. Бывало, он бросался на колени перед сестрами, приносившими ему лекарства (обычно травные настойки: сердечные, успокаивающие, снотворные), и умолял их с трагическими жестами забрать лекарства назад.
Давняя подавальщица в столовой Антонина Ивановна тоже хорошо помнит Корнея Ивановича: «Ох, и чудил же», а сама смеется. То было уже в Узком, но стиль поведения был куоккальский.
Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук, – точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Все чаще было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.
Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется – талантливых озорников. Я в детстве жил в Куоккале недалеко от «Пенат» Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками. Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре. О Куоккале как одной из родин европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени остается все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н. А. Заболоцкого. Я до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство – в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.
Летом 1915 г. в Куоккале появились новые «зимогоры» – беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цото бендзе» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! Цото бендзе – и для вас и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.
И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквах, разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!
Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат Миша снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться под «парусом» вполне домашнему мальчику – внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после Второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила Мишу только – не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Северный ветер тихий, как всегда у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств, могла захлебнуться и утонуть. А на берегу за загородкой из простыни загорал проректор Петербургского университета – красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, о ужас! – в одних трусах – тогда это считалось неприличным. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?» Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет».
Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно случалось что-либо неприятное.
А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел – то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буковками «С. Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки.
Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией.
Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды в особенно сильную бурю кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор, не люблю обманчивого берегового ветра.
Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.
И опять «связь времен». Дачевладелец серб А. Шáйкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.
И еще раз «связь времен». Когда рукопись этих моих воспоминаний была совершенно готова, я полистал очерк К. И. Чуковского о Короленко. Выяснилось, что Владимир Галактионович Короленко чрезвычайно любил бросать на тихую поверхность моря плоские камешки и был своего рода чемпионом этой игры. Я тоже любил это занятие, и осенью 1931 г. мы развлекались с племянником писателя Владимиром Юльяновичем Короленко во время своих тайных прогулок в лесу у соловецких озер (об этом дальше). Оказывается, «печь блины» было любимым занятием Короленок…
Часть Финского залива, отделенная сейчас от остальной его части дамбой, до сих пор называется Маркизовой лужей: в первые годы XIX в. здесь обычно устраивал морские учения маркиз де Траверсе. Море располагало к забавам.
Жизнь дачной местности летом была совершенно непохожа на современную. Дачники постоянно общались, ходили друг к другу в гости, обсуждали все новости – как газетные, так и местные. Каждый заботился о своей репутации, о том, что о нем говорят. Наряжались не только для того, чтобы похвастаться своей портнихой, но и чтобы создать «свой образ». Мария Альбертовна Пуни одевалась экстравагантно, другие – подчеркнуто скромно или «строго» – в аристократическом вкусе.
Все это создавало культуру. Культура дачного общества была повторением русской культуры в целом, но в меньшем масштабе. Она носила разговорный характер. Мнение каждого вырабатывалось в беседах с друзьями, иногда в спорах, которые не вели к вражде, но создавали интеллектуальную индивидуальность каждого.
К прогулкам готовились за неделю. Обсуждались наряды. Прогулочный костюм должен был быть скромным и вместе с тем красивым. Обувь! – это был главный вопрос для дам. Готовились бутерброды, закуски, напитки. Надо было не только поесть семье, но и угостить знакомых.
У садовницы-финки, к которой я зашел в 1985 г. в Комарове, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил: не помнит ли она пансионат «Юлия» на Церковной улице в Келомяках, где мы жили, кажется, в 1915 г. «Юлии» она не вспомнила, а о пансионатах и о Куоккале мы разговорились. Вот что она рассказывала:
«Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, сколько было праздников. На Троицу, бывало, все березками украшено – даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл. Компании водили. В ветреную погоду змея пускали. А теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые и дети пускать змея любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли. А теперь и крокет забыли. Наверное, и не продается? На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был. Много таратаек ехало. Финские лошадки маленькие, но быстрые и выносливые.
Финны русских господ любили… Русские вежливые были, приветливые».
Когда в первую финскую войну финны отсюда уходили, Александра Яновна спряталась – хотела с русскими остаться. Между двумя финскими войнами ее вывезли куда-то – может быть, в Вологду. Там она замуж вышла. Первую ее дачу отобрали пожарные, но дали другую, и она разводила цветы, ягоды, огурцы. С того и жила. К ней мы постоянно заходили. И с дочерью Верой заходили.
Я был рад поговорить с ней о Куоккале. Мои впечатления совпали с ее. Значит, я не преувеличивал.
«Семейные» слова
Существование «семейных» слов, шуток и поговорок – свидетельство крепости семьи. Моя бабушка по матери и ее верная Катеринушка (о последней я писал выше) любили вставлять в свою речь поговорки и пословицы (и первые, и последние всегда как шутку), и эти обычные для всех шутки своею понятностью именно в тесном семейном кругу как бы служили удостоверением прочности семейного быта. О надетой с форсом набекрень дамской шляпке или слишком вольном дамском костюме говорили: «неглиже с отвагой». О франтоватом мужчине, что он держится фертом (ферт – название буквы «Ф», напоминающей избоченившегося человечка) и т. д.
Наша няня Катеринушка, вдова питерского мастерового, любила присказку: «Как у Семянникова на заводе, только трубы пониже и дым пожиже» (в начале нашего века густой дым из труб завода служил как бы рекламой предприятия, свидетельствуя якобы о напряженной его работе). Эту присказку Катеринушка говорила о тех, кто старался показать, что вовсю работает. В разговорах бывало множество острот, которые я называю «устойчивыми» и которые понимались «между своими». Из поговорок в нашей семье особенно частыми были: «Мели Емеля – твоя неделя» (о вранье и пустозвонстве) и «На тебе, боже, что нам негоже». Обе поговорки «успокаивали», приглашали терпимо относиться к чужому хвастовству и показной доброте.
Много было и «детских» слов, с которыми обращались к детям и говорили о детях. Но, увы, слова эти забылись.
Меньше традиционных, «семейных» слов и выражений я слышал от отца: может быть, потому, что весь уклад отцовской семьи был мрачноватым и шутить там не было принято. Но, скажем, молитвенные слова повторялись у отца и у его брата «дяди Васи»: «Царица Небесная», «Матерь Божья», не потому ли, что семья была в приходе храма Владимирской Божьей Матери? Со словами «Царица Небесная» отец и умер во время блокады. Но были у отца и свои привычные выражения, которые воспринял и я, хотя смысл их для меня остается непонятным; привычным было только их употребление в быту. Так, например, при какой-либо мелкой неприятной неожиданности отец восклицал: «Ах ты! сделай одолжение!» Например, когда ошибся в чем-либо, занозил руку, не туда попал, забыл пенсне или носовой платок… Объяснить это выражение я не берусь, хотя сам употреблял его до сорока лет постоянно. Думаю, что оно повторяет какую-либо реплику из фарса или водевиля. Выражение это, верно, повторялось в тексте пьесы и имело комический эффект: то, что в искусстве клоунов когда-то называлось «лягушкой». А потом это выражение стало обычной реакцией на неприятную неожиданность в какой-то узкой, «своей» среде.
Были свои обычные шутки в языке моего класса, в кружке, где я уже студентом встречался с товарищами, и т. д. Изучать их надо.
Были в моем языке и семейные неправильности. Например, я во всех случаях говорил «оне», а не «они». Как будто бы это была петербургская черта в моем языке, вероятнее всего передавшаяся мне по семейной линии. Из петербургских слов запомнились мне такие: «вставочка» вместо «ручка», «клякс-папир» вместо «промокательная бумага», «фрыштак» вместо «завтрак». Долгое время (да и сейчас порой) произносил я «ч» вместо полагавшегося по литературному произношению «ш» в словах «что», «булочная», «прачечная» и т. д., а также «г» вместо «в» в словах «его», в окончании родительного падежа на «ого» («нового», «красного», «городового» и пр.).
Старался я внимательно следить за ударениями в своем языке и даже изобрел «спасительное» правило: если не знаешь, где поставить ударение, – ставь его на один слог ближе к концу слова. С начала XIX в. появилась тенденция переносить ударение на один слог ближе к началу слова. По-старому говорили: «агéнт», «арéст», «астронóм», «начáть» (ставшая знаменитой ошибка – «нáчать»), «объясни́ть», «углуби́ть».
Как-то я спросил у академика А. С. Орлова, чистоте речи которого я всегда удивлялся: в каком слое русских самый богатый и правильный язык? Он подумал и ответил: «У среднеусадебного дворянства». И действительно, из этого слоя происходили Пушкин, Тургенев, Бунин: три столпа русского языка. Язык их богат и гибок. Очень много дали мне общения на Соловках с А. А. Мейером, К. А. Половцевой, А. Н. Колосовым, А. П. Суховым, а в корректорской издательства Академии наук в 30-е годы с образованнейшими на старый манер «учеными корректорами» – А. В. Сусловым, Л. А. Федоровым и другими.
Совершенствовать свой язык – громадное удовольствие, не меньшее, чем хорошо одеваться, только менее дорогое…
Крым
Огромную роль в эстетическом воспитании нашей семьи сыграло пребывание на юге. Отец год работал в Одессе (1911–1912), и два лета мы провели в Крыму, в Мисхоре. Мне вспоминается запах разогретого на солнце лавра, вид от Байдарских ворот, где помещался тогда монастырь, алупкинский парк и дворец, купания в Мисхоре среди камней (впоследствии по фотографиям я установил, что это было как раз то место, где перед тем купался после болезни Лев Толстой, спускаясь сюда из имения графини Паниной в Гаспре). Особенно эмоционально воспринималась мною маленькая полянка над морем с необыкновенно душистыми цветами. Полянку эту все называли «Батарейка», и туда чаще всего мы ходили гулять. Во время Крымской войны там размещалась небольшая батарея, чтобы воспрепятствовать возможному десанту англо-французских войск в Алупке. Здесь для меня все было слито: чувство природы и чувство истории. Последнее появилось у меня в возрасте 5–6 лет – и прежде всего на памятниках Севастопольской обороны, по которым я любил лазать, и на Малаховом кургане, воображая себя артиллеристом у стоявших среди укреплений орудий; поражение русских войск воспринималось мною уже тогда как личное горе.
Месяцы, проведенные в Крыму, в Мисхоре, в 1911 и в 1912 гг., запомнились мне как самые счастливые в моей жизни. Крым был другой. Он был каким-то «своим Востоком», Востоком идеальным. Красивые крымские татары в национальных нарядах предлагали верховых лошадей для прогулок в горы. С минаретов раздавались унылые призывы муэдзинов. Особенно красив был белый минарет в Кореизе на фоне горы Ай-Петри. А татарские деревни, виноградники, маленькие ресторанчики! А жилой Бахчисарай и романтический Чуфут-Кале! В любые парки можно было заходить для прогулок, а дав «на чай» лакеям, осматривать в отсутствие хозяев алупкинский дворец Воронцовых, дворец Паниной в Гаспре, дворец Юсуповых в Мисхоре. Никаких особых запретов в отсутствие хозяев не существовало, а так как хозяева почти всегда отсутствовали, то парадные комнаты (кроме сугубо личных) были доступны для обозрения.
Береговая полоса в те времена не могла находиться в частной собственности. От Мисхора по берегу шла бетонированная дорожка до Ливадии, по которой мы всей семьей гуляли по вечерам за маяк Ай-Тодор. Никаких частновладельческих пляжей! По берегу нельзя было пройти только от Мисхора до Алупки, из-за скал. Но по высокой части шла прекрасная дорога. Все эти прогулки хорошо сохранились в моей памяти благодаря отличным фотографиям отца. Теперь многого уже нет, нет и чудесной дорожки по берегу от Алупки. «Царская тропа» к Ореанде тоже укоротилась и изменила свой вид.
В 60-е гг. мы ездили в Дом творчества, в Ялту. После уже не захотелось ехать туда во второй раз – разрушать тот «маленький рай», который еще существовал в моей памяти.
Когда эта заметка была уже написана, я прочел статью Т. Братковой «Город Солнца» (Дружба народов. 1987. № 6). Ее надо прочесть и не забывать: она нужна всем, кто любит Крым.
Может быть, с тех пор у меня начала укрепляться любовь к различным памятным местам и «музеям под открытым небом» – будь то знаменитый памятник-«пушка» в Одессе, усадьбы-музеи, петровские домики в Петербурге, да и просто маленькие лирические памятники вроде памятника Жуковскому в Петербурге в Александровском саду, где я чаще всего гулял до «вечернего колокольчика» сторожа, когда сад запирался на ночь, или небольших памятников Петру, которых было несколько в Петербурге: например, Петр, мастерящий лодку, – на набережной у Адмиралтейства. Уже тогда в Крыму меня поразили старые деревья в Никитском саду, а в Петербурге во время неизменных праздничных прогулок на Острова я благоговейно смотрел на Петровский дуб, огороженный скромной решеткой. Стоя перед этим дубом, я шептал ему свои заветные желания: например, получить в подарок еще одну лучиночную коробочку с оловянными солдатиками или «настоящую» паровую машину – паровозик, который видел у приятеля. Странно – желания мои исполнялись, и я приписывал исполнение их не внимательности родителей, которые, конечно, о них догадывались, но доброму и всесильному дубу. Язычество проснулось у меня вместе с чувством истории очень рано.
Осенью 1914 г., когда началась Первая мировая война, мы жили в Оллило близко от Большой дороги. Ждали десанта немцев в Финляндии. Дачники спешно уезжали в Питер. Вагонов для перевозки дачного скарба не хватало. Финны везли тяжело нагруженные телеги мимо нашей дачи и часто застревали в песке. Тревога усиливалась лесными пожарами (лето было засушливое). В воздухе стоял запах дыма. Время детского рая кончилось навсегда.
По Волге в 1914 году
В мае 1914 г. мы ездили по Волге – от Рыбинска до Саратова и обратно. Мои родители, старший брат Михаил и я. До Рыбинска от Петербурга – поездом. Как ехали поездом – не помню. Смутные впечатления сохранились только от вокзала в Петербурге. Скорее всего, это был Николаевский (теперь Московский). Там, где прибывали и отходили поезда, в крытой части вокзала, и где обрывались рельсы, всегда помещалась икона. Отъезжающие молились перед ней. Жарко горели десятки свечей.
Был май месяц. Утром Рыбинск встретил нас дождем и холодом. Мы направились в суровский магазин купить мне длинные чулки, на которые мне надо было сменить мои носочки. Разумеется (дети всегда одинаковы!), мне этого очень не хотелось. Весной надо было быть одетым как можно более легко: таково было мальчишеское франтовство. А тут еще «оскорбление» в магазине. Приказчица-девушка, которая взялась мне примерить чулки, обратилась ко мне со словами: «Барышня, дайте мне вашу ножку!» Меня приняли за девочку! Ужас!
В те времена на Волге лучшими пароходными компаниями считались две: «Самолет» (розовые красавцы-теплоходы с двумя красными полосами на трубе и полукруглым зеркальным стеклом спереди в ресторане) и «Кавказ и Меркурий» (белые суда). Суда «Самолета» ходили от Нижнего до Астрахани. До Нижнего надо было добираться на колесных «кашинских». А суда общества «Кавказ и Меркурий» шли от самого Рыбинска. Мы взяли каюту на одном из судов компании «Кавказ и Меркурий».
И. Разживихин в статье «Как назывались пароходы» (журнал «Речной транспорт». 1984. № 9) указывает такие названия пароходов общества «Самолет»: «Князь Серебряный», «Князь Юрий Суздальский», «Князь Мстислав Удалой»; общества «Русь»: «Князь Пожарский», «Козьма Минин», «Владимир Мономах», «Дмитрий Донской», «Алеша Попович», «Добрыня Никитич». Даже по названиям пароходов мы могли учиться русской истории.
На Волге погода потеплела, и мы в первый же день обедали на носу парохода на воздухе. До сих пор помню вкус хлеба и весенних огурцов. Замечали ли вы, что еда на воздухе имеет другой вкус? Гораздо лучший.
Волга тогда была другая, чем сейчас. Я уже не говорю о том, что она была без «морей» и разливов, без плотин и шлюзов. На ней было множество мелких судов разных типов. Буксиры тянули канатами караваны барок. Сплавляли лес плотами. На плотах ставили шатры и даже маленькие домики для плотогонов. Вечером ярко горели костры, на которых плотогоны готовили пищу и у которых сушили выстиранную одежду. Русские крестьяне при всей своей бедности были очень опрятные. Раза два-три встретились красавицы-«беляны». Беляны назывались так потому, что они были некрашеные. Бель – это некрашеное дерево. Эти огромные высокие барки плыли по течению, управляясь длинными веслами. В нижнем безлесном районе Волги их разбирали на строительный материал. И строились беляны в верховьях Волги так, чтобы не портить бревна и доски.
Волга была наполнена звуками. Гудели, приветствуя друг друга, пароходы. Капитаны кричали в рупоры, иногда – просто чтобы передать новости. Грузчики пели.
Существовали специально волжские анекдоты, где главную роль играли голоса кричавших друг другу с больших расстояний людей, плохо и по-своему понимавших друг друга. Но были и детские байки, и звукоподражания. Помню такое «звукоподражание» перекликающимся друг с другом петухам. Первый петух кричит: «В Костроме был». Второй спрашивает: «Каково там?» Первый отвечает: «Побывай сам». Этот «диалог» довольно хорошо передавал по интонации петушиную перекличку.
А вот сцена, которую я сам наблюдал. Была она в духе Островского. Сел к нам на пароход богатый купец, не устававший хвастаться своим богатством. Встречающиеся плоты он приветствовал, приложив ко рту ладони рупором: «Чьи плоты-те?» С плотов ему непременно отвечали: «Панфилова». Тогда купчишка с гордостью оборачивался к стоявшей на палубе публике и с важностью говорил: «Плоты-те наши!»
Была и такая сцена. По Волге обычно плавал бывший борец Фосс. Был он огромного роста и необыкновенной толщины. Говорили, что он под рубашку подвязывал себе подушку, чтобы казаться еще толще. Хвастался он дружбой с кем-то из великих князей и поэтому считал себя вправе ни за что не платить. Во время обедов он съедал множество всего. Волжские пароходы славились тогда великолепной кухней, особенно рыбной (стерляди, осетрина, икра паюсная, зернистая, истычная и пр.).
Фосс сел к нам на пароход вечером в Нижнем. Пассажиры встревожились: будет скандал. А шутники пугали: «Съест все, и ресторан закроют». Капитан знал, однако, как бороться с Фоссом. Отказать Фоссу заказывать блюда было нельзя. Капитан шел на расход. Но когда Фосс отказался платить, ему предложили сойти с парохода. Фосс упрямился. Тогда собрали всех матросов, и они, подпирая Фосса с обоих боков, выдавили его. Мы с верхней палубы следили за тем, как выставляли Фосса. Он долго стоял на пристани и сыпал угрозами.