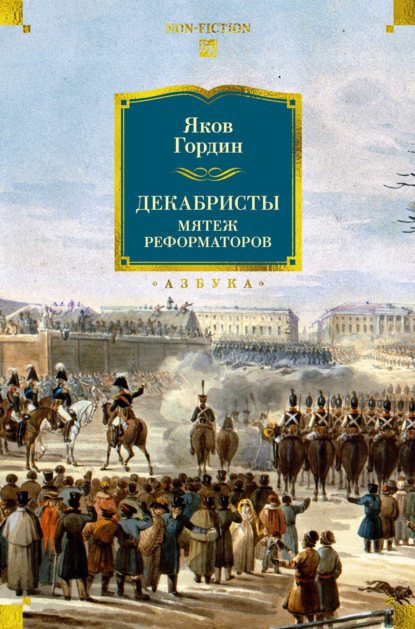Полная версия
Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки
К институтам, находившимся на Исаакиевской площади, мы еще вернемся. Возвращаясь же к правобережной части Большой Невы, отметим, что на Петербургской стороне, помимо улицы кинематографов – Большого проспекта и Народного дома со случайной, эпизодической творческой активностью, существовал Каменноостровский проспект с сетью ресторанов дурного вкуса, преимущественно для «фармацевтов» (так называли в «Собаке» богатых буржуазных посетителей): «Аквариум», «Вилла Эрнест», «Вилла Родэ» (последний – ресторан с цыганами на отрезке Каменноостровского уже в Новой Деревне). Все эти мелкие заведения только подчеркивали отсутствие на Петербургской стороне большой художественной жизни. Из немногих поздних интеллектуальных исключений на Петроградской стороне – это дом художника Михаила Матюшина и Елены Гуро на Песочной улице на левом берегу Малой Невы. Здесь бывали Филонов, Крученых, Бурлюки и многие другие. На Большой Пушкарской улице интерес представляло в начале 20-х гг. «Общество художников», помещавшееся в деревянном доме с выставочным помещением, где была, кстати, выставка П. Н. Филонова (среди произведений последнего помню знаменитую картину «Формула пролетариата»).
Представляется любопытным и следующий факт. А. А. Блок ни разу, по всем данным, в отличие от Л. Д. Блок, не бывал в «Бродячей собаке». Зато его любимыми прогулками, даже после переезда на Офицерскую, были по Большой Зелениной с мостом, ведшим на Крестовский остров (здесь, на Большой Зелениной улице, происходит действие его «Незнакомки» и, как утверждает Л. К. Долгополов, действие «Двенадцати»; см. факсимильное переиздание: Александр Блок. Двенадцать / Рисунки Ю. Анненкова. Петербург: Алконост, 1918. С. 5 и далее). Местом любимых прогулок Блока являлась Новая Деревня, Лесной, Парголово, Озерки, но не дальше устья Сестры-реки (о северном береге Финского залива – ниже). Блок не любил изысканно интеллектуальной публики.
Теперь перейдем к самому важному для литературоведов и искусствоведов факту. На левом берегу Невы на Исаакиевской площади располагались два центра интеллектуальной жизни Петербурга-Ленинграда: Институт истории искусств (в разговорном названии – «Зубовский институт») и через дом от него на углу Почтамтской улицы – дом Мятлевых. История и значение Института истории искусств достаточно хорошо известны и в данных заметках не нуждаются в освещении. Между тем не менее важен для интеллектуальной жизни города дом Мятлевых, история которого за первые годы советской власти известна литературоведам мало.
Вот некоторые факты. В доме Мятлевых в 1918 г. был организован Отдел народного просвещения, вошедший затем в состав Комиссариата народного просвещения до переезда советского правительства в Москву. Здесь бывал и А. В. Луначарский. Тогда же усилиями Н. И. Альтмана здесь был создан первый в мире Музей художественной культуры (открыт в 1919 г.). В экспозиции находились произведения Кандинского, Татлина, Малевича, Филонова, Петрова-Водкина. На базе музея по инициативе П. Н. Филонова здесь в 1922 г. были организованы исследовательские отделы музея. В следующем году отделы были преобразованы в Институт художественной культуры (директором был К. С. Малевич, живший в том же доме с входом с Почтамтской улицы; в его квартире собирались многие художники и поэты – бывал В. Хлебников, приходили М. Матюшин с Эндерами, поэты-обэриуты; заместителем К. С. Малевича был Н. Н. Пунин). В институте были отделы: живописной культуры (руководил К. С. Малевич), материальной культуры (руководил М. В. Матюшин), отдел общей идеологии (первоначально руководил П. Н. Филонов, которого сменил Н. Н. Пунин). Экспериментальным отделом руководил П. А. Мансуров. В 1923 г. в доме Мятлевых в годовщину смерти В. Хлебникова была поставлена Татлиным «Зангези» с «хлебниковской» выставкой П. В. Митурича. В 1925 г. этот институт, утвержденный Советом народных комиссаров, стал именоваться Государственным институтом художественной культуры ГИНХУК (не смешивать с московским ИНХУКом).
В 1926 г. в институте была организована последняя художественная выставка, на которую пришел некий критик Серый (Гингер) и, возмущенный недружелюбным приемом Татлина (последний, стоя в дверях, не пропустил Серого, явившегося на следующий день переодетым), выступил с грубой и несправедливой критикой в газете. В конце того же, 1926 г., институт был закрыт, Н. Н. Пунин передал материалы музея в Государственный Русский музей, а Н. М. Суетин, А. А. Лепорская, М. В. Матюшин, К. С. Малевич перешли в соседний Институт истории искусств и здесь организовали «Лабораторию изучения формы и цвета».
Из изложенного ясно, что правый и левый берег Большой Невы резко различались между собой в интеллектуальном отношении, настолько, что попытки Ф. Сологуба и А. Чеботаревской организовать на Петербургской стороне собственное артистическое кабаре не увенчались успехом с самого начала.
Впрочем, различие между правым и левым берегом Большой Невы не выходило за пределы ее устья. Правый и левый (южный) берега Финского залива резко расходились по своему значению. На южном (левом) берегу располагались дачные места, где в окружении исторических дворцов жили по преимуществу художники с ретроспективными устремлениями (вся семья Бенуа – Николай, Леонтий, Александр; семья Кавос; Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, А. Л. Обер, бывал С. Дягилев и другие). На северном (правом) берегу Финского залива располагались дачные места, где жила по преимуществу интеллигенция, склонная к творческому бунтарству. В Дюнах жил В. Б. Шкловский. В Куоккале были репинские «Пенаты», вокруг которых группировалась молодежь, жил К. И. Чуковский, были дачи семей Пэни и Анненковых (жили Анненковы на Средней дорожке и дружили с семьей сенатора Сергея Валентиновича Иванова, с которыми мы были общие друзья), жил Горький, жил Кульбин, один год жил А. Ремизов в пансионате около «Мельницы», на Сестре-реке. Взрослые и подростки устраивали празднества, спектакли, писали озорные стихи и пародии. В Териокском театре работали В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Сапунов, Л. Д. Блок (о Блоке в Териокском театре см.: Собр. соч. в 8 т. Т. 7. С. 151 и далее; Т. 8. С. 391 и далее). Нельзя и перечислить всего того, чем примечательны в интеллектуальной жизни России северные дачные места Финского залива.
Вернемся в Петроград.
В 1922 г. наметился частичный отход В. М. Жирмунского от Института истории искусств и сближение его с академическим направлением в науке о литературе. В. М. Жирмунский переезжает на Васильевский остров (в Горный институт) и начинает больше преподавать в университете на факультете общественных наук по романо-германской секции. Начались острые расхождения, отразившиеся в дискуссиях в зале училища Тенишевой на Моховой и в Институте истории искусств. На левом берегу Большой Невы В. М. Жирмунского обвиняли в «академизме».
На титульном листе своей «Мелодики русского лирического стиха», вышедшей весной 1922 г., Б. М. Эйхенбаум написал следующее дарственное стихотворение В. М. Жирмунскому:
Ты был свидетель скромной сей работы.Меж нами не было ни льдов, ни рек;Ах, Витя, милый друг! Пошто тыНа правый преселился брег?Б. Эйхенбаум2 марта 1922 г.Книга со стихами Б. М. Эйхенбаума хранится в семье Н. А. Жирмунской. Различие правого и левого берега Большой Невы ясно осознавалось в свое время.
Итак, в городах и пригородах существуют районы наибольшей творческой активности. Это не просто «места жительства» «представителей творческой интеллигенции», а нечто совсем другое. Адреса художников различных направлений, писателей, поэтов, актеров вовсе не группируются в некие «кусты». В определенные «кусты» собираются «места деятельности», куда тянет собираться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности (прошу извинения за это новое вводимое мной понятие), где можно было быть «без галстуха», быть во всех отношениях расторможенным и в своей среде.
Примечательно, что тяга к творческому новаторству возникает там, где появляется группа людей – потенциальных или действительных единомышленников. Как это ни парадоксально на первый взгляд может показаться, но новаторство требует коллективности, сближения и даже признания хотя бы в небольшом кружке людей близкого интеллектуального уровня. Хотя и принято считать, что новаторы по большей части люди, сумевшие подняться над общим мнением и традициями, это не совсем так. К этому стоит приглядеться.
Удивительна «связь времен». Знал ли я, садясь в конке на империал со своей нянькой, чтобы прокатиться в Коломну и обратно, что на остановке против Никольского собора на Екатерингофском я могу заглянуть прямо в окна квартиры Бенуа. Что я буду учиться в старшем приготовительном классе в гимназии Человеколюбивого общества, где первоначально учился и А. Н. Бенуа. Что потом я перейду в гимназию и реальное училище К. И. Мая на Васильевском острове, куда перед тем задолго до меня перешел и он. Что моим любимым местом в Петергофе будет площадка Монплезира со стороны моря, которую и А. Н. Бенуа считал красивейшим местом под Петербургом. Что затем я буду долго и упорно хлопотать об издании в серии «Литературные памятники» его воспоминаний, переписываться с его дочерью Анной Александровной.
И еще: А. Н. Бенуа жил в Лондоне в 1899 г. в «Boarding place» на «Montague street», очень вероятно – там же, где я останавливался в 1967 г. Если бы в 1967 г. я это знал, я бы совсем иначе отнесся к своей староанглийской гостинице с Библией, детективами на полочке над кроватью и камином, впрочем переделанным на газ. В этой же гостинице, по-видимому, останавливался и Владимир Соловьев, когда приезжал в Лондон работать в библиотеке Британского музея.
Все так близко и рядом. Даже в пространстве истории. Ведь А. Н. Бенуа видел в детстве маленького столетнего старичка – пажа Екатерины II, жившего в одном из служебных корпусов Петергофского дворца.
Связи небольшие, слабые, но они есть, и они удивительны.
До чего же привлекательны для детей обычаи, традиции! На вербную неделю в Петербург приезжали финны катать детей в своих крестьянских санках. И лошади были хуже великолепных петербургских извозчичьих лошадей, и санки были беднее, но дети их очень любили. Ведь только раз в году можно покататься на «вейке»! «Вейка» по-фински значит «брат», «братишка». Сперва это было обращение к финским извозчикам (кстати, им разрешалось приезжать на заработки только в Вербную неделю), а потом сделалось названием финского извозчика с его крестьянской упряжкой вообще.
Дети любили именно победнее, но с лентами и бубенцами – лишь бы «поигрушечнее».
Куоккала
Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалованья. Весной мы рано уезжали на дачу, отказываясь от квартиры и нанимая в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья экономила деньги.
Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция – преимущественно артистическая.
Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство, – о Куоккале (теперь Репино).
В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена о Куоккале сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом. от СПб.). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж.-д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж.-д. станции. Многие из них также заняты зимою. Имеется прав. церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция 1905 года. – Д. Л.) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) „фабрики бомб“ финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».
О Куоккале, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил (по телевидению в фильме о К. И. Чуковском «Огневой вы человек»). Здесь жила летом небогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков); на самом берегу против Куоккальской бухты была дача Пýни[3]. Владелец ее Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие – Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции (под именем Жан Пюни) и до конца жизни любил писать пляжи, напоминавшие ему о его счастливом детстве.
Уезжая во Францию, Мария Альбертовна оставила нам два гобелена (один с видом Венеции до сих пор цел у нас), Детскую энциклопедию, которую я чрезвычайно любил, миланский кофейник коричневого цвета с чашечками и еще что-то на память.
Была ранняя весна. Пуни заехали в Куоккалу к отцу, и именно тогда Репин подарил отцу Марии Альбертовны ее акварельный портрет в пляжном костюме, пририсовав на нем легкий контур Эйфелевой башни, под сенью которой ей предстояло жить.
Самые счастливые воспоминания детства связаны у меня с пляжем в Куоккале. Как вчерашние, я помню дни, с утра проведенные на пляже у своей будки. Эта будка была непременной принадлежностью сдаваемых дач. Дача сдавалась только целиком. По комнатам нанимать или сдавать дачу никому еще не приходило в голову. И вот весной, как только дачники переезжали на нанятую ими дачу, хозяин водворял будку на воз и вез ее на пляж, где вместе с моим отцом они выбирали место для «нашей» будки. Часто будок было так много, что их выстраивали в два ряда (естественно, что в менее удобном втором ряду ставились будки поздно переехавших на дачу).
В будке хранились шезлонги, купальные костюмы, игрушки. Я больше всего любил игрушечные яхты с килем и парусом. Недолго был у меня и «военный корабль». Его заводили, он отплывал, раздавался выстрел, и он поворачивал к берегу. Два-три раза эти пускания броненосца мне нравились, но уж очень он был «нереальным». Гораздо больше мне нравилось ставить парус и руль на игрушечной яхте и пускать ее плавать косо к ветру. Море было мелким, и идти за яхточкой можно было долго…
В 12 часов на пляже мы пили молоко, принесенное утром в бутылке и закопанное в прохладный сырой песок позади будки.
Счастьем было наблюдать артиллерийские учения на фортах. Ближе всего к Куоккале был форт «Тотлебен». Мимо него на канате буксир тянул белый щит, хорошо нам видный, по нему артиллеристы стреляли. Попадание нам не было видно, но звук выстрела мне нравился чрезвычайно. Он был несколько приглушен и растянут водой и вместе с гомоном купающихся создавал ту симфонию звуков, которая сливается для меня со звуковыми ассоциациями детства.
Позади будок мы с братом строили окопы и «сражались» друг с другом в обществе товарищей, кидая шишки, намачивая их водой или «приготовляя» их к киданию в сыром песке: чтобы они сложились и летели дальше.
А еще дальше рос прекрасный сосновый лес, над которым возвышался ветряк, не то вырабатывавший электричество, не то наполнявший водой из колодца водонапорную башню богатых соседей-дачевладельцев…
А еще мне нравилось делать из высохшего тростника, который прибивало ветром со стороны Петергофа, где он рос, разнообразные «гидропланчики» и пускать их, особенно тогда, когда ветер был со стороны берега. «Гидропланчики» уходили в море на большой скорости.
Папу из города встречаем всей семьей.
Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя, по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность – к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография – я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).
Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой «человечек»: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище – это котел. Большая голова – труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) – это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.
Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как пароходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста – изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны – синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны – первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Однажды в окне вагона мне показали барона Мейерхольда, он ехал дальше, в Териоки. Чудится, что я его запомнил, и запомнил именно как барона. Как барона его знали и средние дачники – инженеры, чиновники. Другие дачники и зимогоры были художниками: Пу́ни, Анненковы, Репины и другие. Почему-то они представлялись мне другой породы – итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротой ветра, а если пассажиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное – скорость.
Вечером, когда приезжал со службы из Петербурга отец, мы обедали, я бежал через Большую дорогу (теперь – Приморское шоссе) в ларек к его владелице, пожилой вдове, покупал у нее семечек и сосательных финских конфет, возвращался, и мы шли гулять по берегу. Семечки мы не лущили, а чистили ногтями (теперь так никто не делает), а отец задавал нам загадки. Одна из них была такая: он точно указывал, не смотря на Толбухин маяк, – когда маяк зажигался и когда гас. Сперва я думал, что он делает это по отражению в своем пенсне, но отец снимал пенсне и все же угадывал! Просто он отсчитывал время – знал периодичность его вспыхивания.
На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские «Пенаты». Около «Пенат» построил себе дачу К. И. Чуковский (помог ему в этом – и деньгами, и советами – И. Е. Репин). На мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин (он, кстати, лечил и меня), приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге – главной улице Куоккалы – и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор цитировавшегося мною выше путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому, укатанному волнами песку, либо по бетонной дорожке, которая шла к глубине пляжа около заборов выходивших к морю дач.
Куоккальские дачи имели заборы всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские возки: «молоко, метана, ливки» (финны не произносили двух согласных звуков в начале слова: только второй). Разносчики часто бывали ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять…» – и еще что-то третье, что – я уже забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.
Если погода безветренная, особенно утром – в предвестии жары, то, прислушавшись, на берегу можно было слышать как бы басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. И в определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакий.
Море становилось торжественным и значительным, когда через воду долетал еле слышный звук тяжкого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.
А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных при игре, но всегда приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и сейчас, и до сих пор я ее очень люблю. Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!
Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное время, принятое зимой, – в час. У каждой дачной семьи, как я уже сказал, была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостки были и частные, и общественные – за деньги. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это означало, что было благотворительное представление. Представления были и в куоккальском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть – начинал с «Ойры», любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили их записать – в какой день прийти играть танцы на дне рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи.
В дни рождения и именин детей обычно иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал не только фейерверки, но и просто костры без всякого повода. Он любил огонь.
Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач.
Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки – в пользу туберкулезных, во время Первой мировой войны – в пользу раненых).
Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, Кульбин, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу», матчиш. И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаще ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда (там жил как-то на даче А. Ремизов). «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила туда компаниями на велосипедах.
Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.
И какие только национальности не жили в Куоккале: русские, финны-крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры), петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни – с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот.
На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были и «серьезные» спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина знакомила с травами и травоедением.
Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающийся взлетал очень высоко – почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали. Общественным местом была церковь, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни – Штерн – управляющий его доходным домом (угол Большого проспекта и Гатчинской улицы). Он был немцем, но в начале Первой мировой войны переменил фамилию на Астров, принял православие. С Мишей Штерном я дружил.