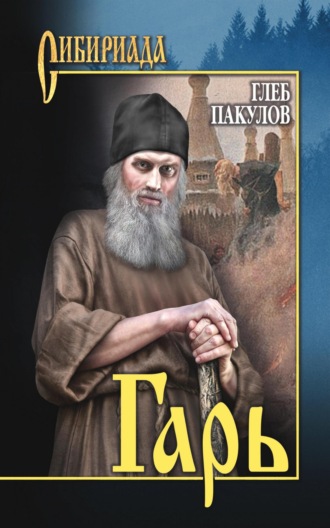
Полная версия
Гарь
– Каво это несёт? – Утирая мокрое в ря́бинах лицо, Даниил всматривался в плывущее наперерез им по течению Волги смутное пятно.
Всмотрелся и Аввакум из-под ладони. Пятно приближалось, выпрастываясь из ливневой завесы, проясняясь. Вблизи него кормщик круто вывернул руль, но страшное сооружение – плот с поставленной на нем виселицей – все же шоркнуло бревнами о борт лодии.
Опутанные по рукам и ногам веревками, на перекладине низкой виселицы болтались два удавленника, уже обклёванные вороньём. Кости держались на сухожилиях и, как живые, дергались от ударов волн в бревна плота. Ничуть не страшась живых людей, на белой ключице одного висельника сидел отяжелевший от дождя и жратвы огромный ворон, нагло вперив в Аввакума неподвижно-чёрные, осоловевшие бусины глаз.
– Страсть какая! – закрестились протопопы. – Боже, буди им, грешным!
О голые черепа повешенных плющился дождь, стекал в пустые занорыши глазниц и, переполнив их, выплескивался, будто скелеты зло оплакивали свою участь. Помраченными от ужаса глазами провожали уплывающих удавленников, у одного из которых при качке плота хлопала желтозубая челюсть.
– Ка-а-ар! – перепрыгнув с плеча на дощечку с надписью дегтем «ВОР», жутко попрощался ворон, и плот сгинул, как занавесился густой сетью ливня.
– Свете наш, Исусе, – шептал Аввакум, раскачиваясь на тюке. – Скорбь и теснота на душе человека, творящего зло. Как скряга, копит он на себя гнев на день гнева и суда Твоего. Каждому воздаешь Ты по делам его, ибо, любя, наказуешь…
Под парусом, притихшие после недоброй встречи, подплыли к Нижнему Новгороду, поддёрнули лодию на песчаный берег, с кормы опустили якорь. Вечерело, все еще, хоть и реденький, накрапывал дождь, кое-где по обрывам и овражкам стлался туман, расчёсанный на долгие неподвижные пряди, пофуркивая крыльями, суетливо – к вёдру – толклись в небе галки. Из-за стен города пучились померкшие купола, где-то там зазвонили спешно, будто пожарным сполохом, но тут же затихли.
Аввакуму надо было зайти в город, увидеть доброго слугу Божьего дьякона Федора, грамотку от московского знакомца передать, да и заночевать не грех. В тепле молебен за всех странствующих отслужить. Господа поблагодарить. Позвал с собой Даниила, тот отказался, да и кормщик отсоветовал – чуть забрезжит, снимутся: ветер попутный, а прозеваешь – на вёслах хлопать в день по версте. Это тебе не в Казань, по течению хоть в кадушке плыви.
Опять зазвонили бессмысленно и часто и смолкли.
– Уж не тебя ль за архиерея встречают? – севшим от пережитого голосом спросил Даниил, глядя на близкие ворота.
– Дрянью звонит, как на пожар, – отмахнулся Аввакум. – Пьяный небось… Благословимся, отче. Коли что, жди в Кострому.
Они перекрестили друг друга, крепко обнялись, и Аввакум, разъезжая ногами в глине косогора, потащился вверх к воротам. У малого входа стоял под навесом от непогоды страж, протопоп узнал его – Луконя – так звали доброго молодца в зеленом с красными прошвами кафтане с бердышом в руках и саблей на боку. В прежние наезды в Нижний Аввакум, бывало, служил службы в местном соборе, и этот стрелец, молодой и усердный прихожанин, исповедовался у него, трудился подпевчим в церковном хоре.
– Батюшко Аввакум! – обрадовался он, выскакивая в дождь из-под навеса. – Котомку-то, котомку изволь поднесть. Неладно ходить стало – полощет два дни уж. Землицу развозжало – ноги стрянут!
Аввакум уступил ему котомку с кое-какими радостями в ней детишкам-малолеткам Ивану с Прокопкой да доченьке Агриппине, да женушке Марковне.
Влево от ворот в неглубокой воронке торчала из земли стриженная клочьями голова. Скорбное место это прозывалось горожанами «колдофой», в приказных бумагах – лобным. Голов здесь не рубили, их ссекали на торгу, сюда приводили сажать в землю по шею за особо тяжкие грехи.
– За что его, бедного? – нахмурился Аввакум. – Давно смертку ждет?
– Это, батюшко, Ксения там прикопана. – Луконя наклонил серповидный бердыш в сторону ямы. – Другую ночь мается, да попустил Бог, все не помрёт. А как стонет, сто-онет!.. Теперь, вишь, не слыхать, может, и отошла.
Луконя вдруг вызверился, замахал бердышом на свору тощих собак, крадущихся вдоль крепостной стены к поживе.
– Чума-а на вас! – зарычал он и с бердышом и котомкой в руке метнулся к ощетинившейся своре.
Сжав зубы и бугря желваки на усохшем лице, Аввакум выструнился, всматриваясь в лицо страдалицы. Подбежал Луконя.
– Ее вечор бы еще сожрали! – Он ознобно передернул плечами, шмыгнул курносым носом. – Ладно, Ефрем стоял караульщиком, не попущал. И я не попущаю. Небось девка. Жалко. А уж какая ладная была сирота гулящая. Годков девятнадцати, не боле. Вишь ты – сына боярского пихнула, не угодил ей чем-то, а он возьми и улети, да об косяк головой, да и помре. Она, бают, из Юрьевца. В Нижнем недолго покрасовалась, вкопали вот…
Слушал его Аввакум, и плавила горючая боль сердце, будто кто жамкал его раскалённой ладонью. Да уж не та ли здесь Ксенушка, красоты пагубной, русалочьей, смертки ждет? Не она ли приходила к нему на исповедь, блудной болезнью полонённая, а он, треокаянный врач, глядючи на нее, сам разболелся, жгомый похотью. Грех ей отпустил наскоро, вытолкнул из церкви и, как помешанный, с темью в глазах, прилепил к налою три свечи, возложил на них правую руку. Уж и мясом горелым завоняло и желание окаянное отступило, а он все держал руку в пламени, пока не свалился замертво.
Аввакум зорко, по-воровски, огляделся, словно испугался – не вслух ли высказал тайную память, но никого, кроме Лукони, ни рядом, ни поодаль не было. Только стремительные стрижи кромсали крыльями низкие полотнища грязных туч да взъерошенные псы, отбежавшие недалече.
– Гляну! – решился Аввакум.
И подбежал к воронке. Навстречу ему омутами озёрными полыхнули безумные глаза Ксении. Боль и страх жили в огромных глазищах, а больше мольба на скорое разрешение от страданий.
Аввакум упал на колени и стал остервенело отгребать землю, выпрастывая деву и взлаивая по-собачьи от удушливых рыданий. Слаб был протопоп на чужую беду и горе.
– Батюшко, нелепое творишь! – подбежал и присел на корточки Луконя. – С меня спрос! Как отбоярюсь?
– А ты… им… лжу… можно! – задыхаясь, рычал Аввакум. – Бог простит тя, не бойсь!.. Псы, мол, вытянули и уперли. – Он сунулся рукой в напоясную кису, показал полтину. – Бери! Свечу ослопную поставь, Христа ради, во спасение Ксенушкино. Не поскупись, Он и тебя не оставит, оборонит.
Вложил в ладонь оторопелому Луконе нежданное богатство, выдернул из норы легонькое, уже натянувшее в себя могильного хлада девичье тельце, притиснул к груди.
– Ой, да куды ты с ней такой? – ошалело глядя на деньги, зашептал Луконя.
– Знаю куды, знаю, – тоже зашептал протопоп, обтирая от грязи лицо Ксении. – В жизнь ей надо, не в могилу, рабе Господней. Не дело человеков душу живу губить. Свете наш Исус на кресте разбойника простил, а уж какой был тать, а эта-то, заблудшенькая, не убивица в сердце своем, не воровала, себя отдавала злодеям за кус хлебушка. Магдалина тож блудницей была. Да кто без греха? Один Бог. А кто не грешил, тот Господу не моливался.
Вымазанный в глине Аввакум опять сторожко осмотрелся, легко поднялся на ноги, кивнул, прощаясь, Луконе. Тот никак не ответил, так и сидел пришибленно на корточках над опустевшей норой. Только когда протопоп, скользя и разъезжая ногами, стал спускаться к берегу, опомнился, догнал его и на ходу накинул на плечо котомку.
Даниил недоумевал – ребёнка большого или кого там несёт Аввакум, – и заторопился навстречу. Когда подбежал и разглядел – откачнулся, и руки, протянутые было поддержать, опустил: голова девки, обхватанная кое-как ножницами, втертая в сорочку глина, черничный, как у удавленника, рот объяснили ему, с какого такого места ухватил протопоп добычу. Молча шлепал за ним до лодии, там помог уместить девку под рогожку. Мрачно и тоже молча наблюдал за их вознёй кормщик.
– Отваливай, – тяжело дыша, попросил Аввакум, протягивая ему рубль. – Ночевать вам здесь негоже, а до темна далече уплывете. А мне в город надо, дело есть.
Глядя на захлюпанного грязью протопопа, кормщик сгреб с его ладони рубль, попробовал на зуб и сунул за щеку. Быстрыми перехватами веревки выдернул якорь. Протопопы навалились на нос лодии, натужились и кое-как спихнули ее – приваленную с наветренной стороны волновым песком – на воду. Хозяин проворно настраивал парус, ветер рвал из рук полотнище, путал растяжки. Даниил забрался на тюки, смотрел на Аввакума, выжидая, что еще накажет.
– В Костроме устрой ее к настоятельнице Меланье, – строго попросил Аввакум. – Она игуменья добрая, монастырь тихий.
Даниил закивал. Аввакум, прощаясь, отогнул рогожку, глянул на Ксению. В ее распахнутых глазах зарождалась живинка, она шевелила бледными теперь губами, еле отжала их от десен и прошелестела еще не вернувшимся в жизнь голосом:
– Прости, батюшка, душа у меня худа-то худа-а, всех-то жа-а-лко…
– Пошё-ёл! – не дослушав ее, поторопил Аввакум. Отталкивая лодию подальше от берега, он забрёл в воду по пояс и стоял в ней чёрной сваей, пока парус не уловил ветра, округлился, и лодия, клонясь набок, ходко пошла вверх по Волге.
Буровя коленями воду, Аввакум выбрел на песок, устало присел на плоский, как стол, камень и сидел под дождем и ветром, исподлобья поторапливал глазами лодию. И она отдалилась, холщовый парус, застиранный дождями, помелькал белым платочком на потемневшем раздолье Волги, и густеющая сутемь зачернила его, втянула в себя, упрятала.
Быстро темнело. Намокшая одежка облепила тело и на свежем ветру холодила, как жабья кожа, будто и не выбрался из воды, да так оно и было – дождь все еще густо сеял, но обнадёживая доброй погодой там, куда скатилось невидимое за день солнце, тоненьким лезвием прочеркнула тьму оранжевая полоска, но потешила не долго, скоро остыла, и черная полсть наглухо застегнулась по всему окоёму.
В створе ворот зажегся фонарь, бледной звездочкой маня к людям, теплу, но Аввакум не спешил к нему. С трудом стащил сапоги, вытряс из них воду с раскисшими стельками, отжал холщовые портянки. И все сидел, свесив с колен могучие руки, слушал сквозь шумок дождя вялое шевеление Волги, смертельно усталый, будто пловец с утопшего судна, обретший спасительный берег.
Деньги, с которыми так легко расстался, были не последними. Остался еще рубль с алтыном и двумя деньгами. Он пересчитал их, ссыпал в кису, упрятал за пазуху.
– Да никак Аввакум?! – окликнул знакомый голос. – Ты ли там пятнишь, отче?
– Да никак ты, Федор? – удивленно отозвался он в темноту.
Подошел дьякон Федор в накинутом на плечи пустом крапивном куле. Протопоп поднялся, стоял перед ним с портянками в руках, улыбался продрогшими губами.
– Как ты здесь? – Он качнулся к дьякону. – В темноте видишь?
Федор засмеялся, кивнул в сторону ворот.
– А ты, брат, храбё-ор, – рукавом смахнул с лица дождинки вместе с улыбкой. – Я тебя еще засветло там углядел. Всякий вечер обхожу сидельцев тюремных, их в подвалах битком, а тут особый случай – на Ксению глянуть, может, причастить тайно. Отказано ей приобщиться святых даров… Ловко ты управился. Жива?
– Успе-ел… Не осуждаешь?
– Сам откопал бы, ночи ждал.
Аввакум подхватил котомку:
– Грамотка тут для тебя.
– Это кто же вспомнил?
– Семен. Домашней церкви боярыни Федосьи Морозовой попец.
– А-а, родня дальняя. Добрый он человек. – Федор вызволил из рук Аввакума котомку. – Знаю и боярыню. Строгая молитвенница Федосья. Ну, тронем, не надобно тут зазря торчать.
Протопоп натянул сапоги на босу ногу, портянки сунул за пояс. Впритирку, плечом подпирая плечо, двинулись вверх по скользкому косогору.
– Кто там у вас дуром звонит? – дыша, как кузнечный мех, поинтересовался Аввакум.
– Да кто?.. Звонят кому не лень, а ноне сына боярского отпевали. Шибко он не люб был людишкам. Вот и звон дурной. Обыскали колокольню – никого. Тут вдругорядь сполох. Чудно-о!.. Постоим давай, отдышимся.
Постояли. Федор досказал:
– А народ доволен. Бесы, говорят, веселуются, душу родственную встречают. Срамной был человече. За кобеля этого Ксению-то…
– Бог ему судья, – сурово предрёк Аввакум.
Кроме тихого огонька в створах городских ворот суетился другой, у самой земли, то пропадая, то оживая. Доносились невнятные голоса. Один говорил громко, с острасткой, другой ответствовал глухо и виновато.
Подошли. В порхающем свете жестяного фонаря с оплавленной сальной свечой узнали сотника Ивана Елагина, сухопарого, с утиным носом и узкими татарскими глазами. Щурясь, он поджидал их с поднятым над головой фонарем.
– А-а, дьяче Фёдор, – вглядываясь из-под отечных век, удивился он и совсем сузил глаза. – Кого это ты привел? Неужто Аввакум-батюшка пожаловал? Давненько не видались. Сказывали, ты в Москве, да при царёвом дворе, а ты вот он. Ну, рад гостю.
За спиной сотника Луконя в красном с желтыми нашвами кафтане, с широким лезвием бердыша, по которому плавали багровые блики, казался страховидным стражем огненной преисподни. Он корчил рожи, отчаянно подмигивал Аввакуму, дескать, все устроил ладом, как договорились.
– Благодарствую на добром слове, Иван, – пряча улыбку, поклонился сотнику протопоп.
– Пошто вы в хлябь этакую да в нощи, аки тати? – Елагин опустил фонарь на землю, глядел на них темными прорезями глаз. – Теперь время стражи, в город пущать не велено, как не знаете? Это ж какие печали на долгих примчали?
– Припозднился, – добродушно прогудел Аввакум. – Домой охота, терпежу нет.
– Чудно-о! – Елагин повилял головой. – Ночью из Юрьевца тож в непогодь сбёг… Кто тебя водит в потемках? Не тот ли, с головой-ухватом?
– Тьфу на тебя! – фыркнул Аввакум. – Не заигрывай с ним, ночью его вражья стража, а не твоя. Ну-тко, окстись!
Елагин суетливо закрестился.
– Ты теперь в Нижнем начальствуешь, я верно укладываю? – спросил Аввакум. – А что в Юрьевце? К чему прибреду?
– Ворочайся с легкой душой, – успокоил сотник. – Там теперь новый воевода – Крюков. Знавал его? Он в охранном полку служил у царевен. Двор твой порушенный поправил, а обидчика твоего Ивана Родионыча в железах на Москву в Разбойный приказ отволок. Радый небось?
– Помилуй его, Господи. – Аввакум перекрестился. – Вот куда ведет гордыня. Жалко человека. В Разбойном не ладят, там на дыбе ломом каленым гладят. А ты, гляжу, не жалуешь его? Ведь правду молыть, дружбу с ним водил, а в ночь мою побеглую в хоромине его весело гостевал.
– То по службе было, – досадуя на себя за начатый разговор, чертыхнулся Елагин, передвигая глаза на Федора. – Ты пошто с ним, дьяче? Встречать ходил?
Федор надвинулся на сотника, вперился в него умными глазами.
– А позвали меня, – шепотом заговорил он. – Костромского купца причащать позвали. Плыл Волгой за барышом, да остался нагишом. Наши тати, новгородские, ограбили и пришибли. Дале поплыл упокойником. А батюшку Аввакума по дороге сюда встрел.
– И добро, что сошлись, а то одному-то бы мне смертка лютая, – вмешался протопоп. – Набрел на берегу на свору собачью, они там пропастинку каку-то делили – грызлись, а тут человек на них прет. Ох! И навалились. Оробел всяко, а тут Федор. Воистину – ангел спаситель.
Елагин поднял фонарь над головой, высветил их лица.
– Пропастинку? – Он недоверчиво прищурился. – Каку таку пропастинку?
– Да мало ли каку!.. Ты иди подступись к имя и глянь, – грубо посоветовал Федор. – Если не дожрали – сгадаешь, каку. Мы-то палками однимя обружились, от орды такой отсаживаясь, а у тя небось саблюха на брюхо навешана. Ею-то способней отмахиваться!
– Многовато их развелось в Нижнем! – Аввакум хмыкнул. – Чаю, вдосыть накормляешь их, Иван.
– Дык харчую поманеньку! – щурясь на протопопа, огрубил голос сотник. – Ну а далече отсель бились-то?
– Версты две, або три, – глядя через плечо в сторону смутно шевелящейся в темноте Волги, засомневался Аввакум. – По грязище такой как узнать? Ноги путами путает.
– Да уж. – Елагин почавкал сапогами. – Ужо утром схожу, гляну.
Он поправил в фонаре свечу, матюгнулся, поплевывая на укушенные огнём пальцы.
– Ну, отцы, делать неча, пошли ночевать. А ты-ы!! – Елагин поднес кулак к носу Луконе. – Не дрыхай, раззява!
Елагин двинулся к воротам. Проходя мимо Лукони, Аввакум, довольный, что так ловко да в лад с Федором втерли в уши сотнику опасную враку, шлепнул молодца по оттопыренному заду.
– Ой! – дёрнулся Луконя. – Ведьмедь ты, батюшко.
Свет фонаря сквозь слюдяные оконца мутным пятном елозил по лывам и грязи. Дождь уже перестал, но воздух, влажный и теплый от непогоды и близкой Волги, казалось, лип к лицу мокрой паутиной. Прошли воротами, и стало еще беспросветнее. Темь глухо упеленала город. Ни хором, ни домишек видно не было, но темнота не была нежилой, Аввакум осязал ее живой, шевелящейся в самой себе. Мнилось – протяни руку и ухватишь в ней мохнатое и жуткое.
«Чур меня, не блази!» – шевелил губами протопоп, хлюпая след в след за сотником, за оранжевым пятном, и, как заплутавший в лесу, обрадовался родному и спокойному свету из низкого оконца подызбицы. Он светил ровно, и желтый лафтак света лежал на луже золотою фольгой, пока Елагин не забухал по ней сапогами, раздробил на осколки и они выплеснулись на темный закрай и пропали.
Сотник скоро остановился, протянул фонарь.
– Берите, я дома.
– Уноси, – отказался Федор. – Мы и так доплывем.
– Ну, плывите! – Сотник хохотнул и захлюпал влево и вверх по улице, прижимаясь к заплотам.
– Объегорили службу, – шепнул дьяк. – Думаешь, поверил? Он и плут и в деле крут.
Аввакум надавил ручищей на плечо дьяка, похлопал.
– Мы душу живу спасли, чтоб Господа молила, вот что важно. Сказано – в смерти нет помятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя.
– Псалом девятый, – перекрестился Федор. – Аминь.
Довольные друг другом, толкнулись плечами и пошли к Федорову жилью.
Изба дьяка стояла в углу крепостной стены рядом с деревянной шатровой церковкой во имя Параскевы Пятницы. Изба встретила Аввакума холодным холостяцким сиротством: топчан у печи, стол со скамьёй да несколько икон с неугасимой лампадкой. Фёдор взял свечу, занял ею огоньку у лампадки, прилепил к припечку.
– Затопить бы, рухлядь просушить, да боязно, – пожаловался он, оглаживая настывшее чело печи. – Воевода накрепко запретил, горим часто. – Он повозился под топчаном, выдвинул плетенный из бересты короб. – Одежонка тут, какая ни есть, переоденемся.
Аввакум сволок с себя мокрое, кое-как облачился в Федоров азям. Дьякон сменил однорядку, мокрую одежку выкрутили, развешали где попало. Устроились за столом перед изрядной мисой холодной ухи.
Варилась она встояк – рыбка к рыбке головами вниз, по старой рыбацкой затее. Теперь, остывшая, она походила на студень. Ложками выуживали куски, клали всяк на свою дощечку.
– Важнецкая ушица из ершей, – похвалил Аввакум. – У меня на Кудме-реке ершей аухой прозывают. А уха из аухи не оттянешь и за ухи. Знатное ество, сытость до-олго держит.
– Сам неводю, – похвастал Фёдор, с улыбкой глядя на Аввакумовы ручища, по локоть выпроставшиеся из рукавов азяма.
– Весело тебе? – протопоп как мог обдернул рукава. – Ну, жмет маненько.
– Большой же ты! – покрутил головой Федор.
– Да не я большой, а ты махонькой! – гоготнул Аввакум. – Хлебай давай, помогай опрастывать.
Фёдор нехотя бродил в мисе ложкой, видно было – надоела ему рыба, пытал:
– В Москве небось едал ненашенское? Хлебец пшеничный, белый…
– Не хлебом единым, брат, – облизывая ложку, подмигнул ему Аввакум. – Но льстился, грешен. И куры рафленые пробовал, и осетры и стерляди.
– И медок стоялый боярский? – с легкой иронией наседал Федор. – Табачок турский, вина рейнские?
– С царского стола приходилось. – Протопоп отложил ложку, встал, перекрестился в угол, перевел строгие глаза на дьякона. – Рейнского не пробовал… медок пригублял, а табак… кто его курит, тот от себя Бога турит. С государем почасту беседовали, у царевен, у сестры его, Ирины Михайловны, в верху дворца службы правил. Много того было.
Ночевать хозяин постелил протопопу на полу, подкинул овчинный тулуп и подушку. Уместил бы гостя на топчане, да узок он и короток такому дядюшке.
Встали на молитву. Федор лег скоро, а протопоп долго еще шептал, метал поклоны на коленях. Тень его лохмато кидалась со стены на потолок. На поповском дворе лениво взлаивала собака, срываясь на тоскливый вой, откуда-то наяривал сверчок, потревоженный храпом Федора. Молился долго, как привык. Когда до заутрени осталось ночи с воробьиный скок, задул огарок и прикорнул под тулупом в лохматой теплыни. Какое-то время думалось о детишках, о Марковне, потом посетили мысли о Юрьевце – как там да что по церквам деется после горького его бегства? – и незаметно отошел в сон на последней думе.
И увидел себя в толпе обступивших мужиков и баб, все косматые, у многих рожки топорщатся, а страхолюдней всех поп Сила, пьяница и распута. У него рога долгие, чёрные и врастопырку, как ухват, рот красный, раззявлен и языком вихляет, а поп вертится юлой и хвостом своим бычачьим, ухватив его раздвоенным копытом, хлещет и хлещет Аввакума, визжит:
– Веселися, собор, прикатил наш сокол!
А баба его, Феклинья, вовсе и не баба, а кикимора: щёки вздула, плюет синими ошметьями, хохочет:
– Убить сучьего сына и под забор бросить!
– Убьем! – весело воет и гогочет жуткая орава. – Податями подвенечными уморил, а нам безвенчанно жить охота! Батогами его, шелепами!
Поп Сила сорвал копытом с головы Аввакума скуфью, пляшет, размахивая ею, а сам плачет дуром, расшлепывая по сторонам вонькие лепехи.
– В скуфейке бить нельзя, – рыдает он, – а без нее – ката-ай, крещёные-е!
Больно бьют, до смерти, вот-вот кончат, а у Аввакума страх в душе и смущение: кем крещёные? Что ни дом, то Содом, что ни двор, то Гомор. Сгинь, нечистые! Свят! Свят! Крестом ограждаюсь!
И проснулся в испарине с крестом в потном кулаке, сорванном с гайтана. Как пьяный, прокрался к бадье, ковшом зачерпнул воды и пил долго запекшимися губами. «От жажды сие привиделось. Рыбка воду любит», – успокоил себя и стал на молитву.
Проснулся Федор.
– Так и не ложился? – приподняв лохматую голову с кожаного подголовника, спросил он у неистово бьющего земные поклоны протопопа и спустил ноги на пол. Аввакум выпрямился, схватился руками за поясницу. Он, и на коленях стоя, возвышался над сидящим на топчане дьяконом.
– Хватит те спать того! – скосив на Фёдора воспаленные глаза, укорил протопоп. – К заутрене пора, а церковь ваша в немоте, поп в постеле нежится. Образумься хоть ты, дьякон, как сорома нет!
Федор босиком прошлёпал к бадье, окунул руки, встряхнул ими и огладил лицо и волосы – умылся. И снова залег.
– Прости, отче, – покашливая, просипел он. – Петух в горле засел, расхворался я, да все едино встащусь. Вот чуток оклемаюсь.
– Вот и встащись. Молитву Исусову грызи неустанно, так и хворать некогда станет, – распаляясь, выговаривал Аввакум. – А ты лентяй на ночное бдение. Так уж и ества не давай окаянной плоти в день такой. Брось играть душою! Она Божий подарок, а не игрушка, чтоб покоем плотским губить ее. Ежели горло болит и голоса нет, так в сердце своем, нутром от духа радей. Сколь тебе о том еще вякать?
Дьяк поднялся и рухнул на колени рядом с протопопом.
– Ох, прости, отче! – виновато попросил он. – Про одни дрожди не говорят трожди. Больше не огорчу.
– Вот и добро, вот и славно, – уловив ладонью ныряющую в поклонах голову дьякона и то ли поглаживая ее, то ли помогая пониже кланяться, помягчел Аввакум. – А то уж епитимью на тебя наложить хотел. Молодой ты, грамоте зело обучен, но с ленцой. Ну да мы с тобой несуразинку эту избудем. Принимаю тебя в сыны духовные… Да ты кидай поклоны, кидай, а я ворчать боле не стану, стану за тебя молитвы говорить.
Отбил положенное число поклонов Фёдор, взял руку Аввакума в свои, приложился к ней и затих. Прояснилась, а скоро и зарумянилась слюда в оконце. Аввакум начал собираться в дорогу. Фёдор завернул в холстинку куски холодной рыбы, большую горбушку хлеба, уложил и завязал котомку.
– Грамотку-то Семенову так и не прочел. – Протопоп кивнул на свиток, который еще с вечера положил на подоконце. – Может, важное что. Ну да прочтешь, как я уберусь. Сказывал тебе, нет ли, не упомню, а строгий указ государев за его рукой уже есть. По нему и трудись, правду Божью в церквах утверждай всяко. А то глянь – солнышко встает, утро какое бравое Господь посылает, только бы и славить Его, нашего Света, а тут сонь мертвая. Не токмо благовеста не слыхать, ботало коровье не брякнет. А ты отныне сын мой духовный, так уж старайся, милой, блюди неусыпно отеческое устроение.
Фёдор кивал, но какое-то сомнение морщило его лоб, спросил:
– Ты, отче, в сыны духовные меня принял, а я уж у нашего протопопа в сынах. Ладно ли эдак?




