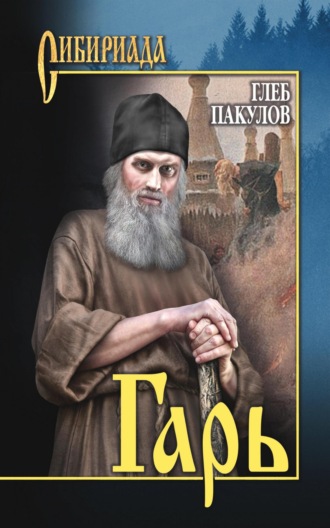
Полная версия
Гарь
– Уймись! – отмахнулся Никон. – Страшно с тобой. Как вепрь, озлился. Вона и щетину на загривке гребнем вздыбил. Не признаю тебя, а любил.
– И ты мне очужел, – глухо, нехотя признался Неронов. – Вот полаяли, насорили воз, а с чем пожаловал ко мне впоздне, я не утолок в голове своей дурной.
– Утолчешь. Всему свой срок.
Никон встал, навалился на посох, подперся им. Смотрел на протопопа, сжав зубы, с неприязнью, колко.
– По слюнке? – переспросил. – А уж и море?.. – И, не ожидая ответа, пригрозил: – Не баламуть людишек, протопоп, знай место. И к справщикам отныне – ни ногой. Сам усмотрю, или донесут, что хаживаешь – жди гнева царского. И моего, великого государя-патриарха, осуда крепкого. Аль запамятовал, как за гордыню твою и мысль высокую ссылали тя в Карельский монастырь? Ныне и пуще обестолковел, прешь супротив рожна.
Не благословил и руки не подал. Устало, осадисто протопал к двери, толкнул ее посохом. Дверь медленно отошла, и патриарх вышел в приёмную. Пусто было в ней: слышный ли отсюда громкий ор протопопа спугнул просителей, или усердный Зюзин выпер их на волю. Вот он стоит у выхода на крыльцо, пламенея в свете двух напольных поставцев лохматой своей головой.
«Рыжий да красный – человек опасный», – вспомнилось Никону, однако, проходя мимо, дружелюбно похлопал молодца по плечу.
Было утро, было почти светло. Туманная предрассветная издымь робко таилась кое-где в закоулках, но с востока алой горбиной выпирала сочная заря, предвещая благолепный день. Могучая взлобина Боровицкого холма, будто красным кушаком, обмотнулась кремлевской стеной. Из-за неё и там и тут бледно намалеванными ликами с фресок выглядывали купола и маковки многих церквей. Одна Ивановская колокольня выметнулась над ними. Чудилось – привстал на носки Иван Великий и, первым обмакнув в полымь солнечную державную главу свою, хвастливо сверкал-обсеивал Кремль и Москву златопыльным дождем.
На площади в рядах и лавках начинали копошиться купцы. Избыв ночную сторожкость, лениво и сонно перебрехивались псы. И вот, как спросонья, как бы зевая с протягом, восстонали колокольни. Патриарх различал их голоса, особенно любого ему «Ревуна, великопостного голодаря».
Он остановился и, жмурясь на солнечный сноп Ивана Великого, осенил себя троекратным знамением.
– Вот и заутрени пора, – обласканный добрым утром, звоном малиновым, унесшим ночное раздражение и страх, облегченно вздохнул он.
Пав на колени, Зюзин торопко и прилежно крестился, обронивая до земли яркую голову.
«Ишь какой, впрямь святоша, – улыбнулся Никон. – Токмо во святых рыжих нет, не припомню рыжих».
– Какого прихода ты, отрок? – ласково вопросил он. – Меня далее не провожай. Один пойду.
И пошел, оставя посреди Пожара озадаченного, но радостного вниманием патриарха Зюзина. И в спину владыке подьячий запоздало, шепотом прошелестел:
– Зачатьевского прихода я. У Анны, что на краю.
Чуткий на ухо патриарх расслышал, отмахнул посохом в сторону Китай-города.
– Так поспешай к заутрени! – приказал. – Нынче же позову.
Службу Никон отстоял как простой прихожанин в ближнем Чудовом монастыре у Фроловской башни. Ничего необычного в этом не было. Часто посещал церкви по всей Москве, иногда сам отслуживал обедни. Но в нынешнее утро стоял службу в Чудовом по другой причине: надобно стало повидать Иоакима. Однако архимандрита на заутрене не усмотрел. Отстоял службу до конца и поспешил к себе в патриаршие палаты.
Едва ступил в сени – навстречу Иоаким: сухокостное лицо со впадинами худобы на щеках вовсе заострилось топориком, бороду скосило набок, и, видно было, отняло язык. Он еле шоркал сапогами навстречь патриарху, пустоглазо уставясь на него, и рыбиной, выброшенной на песок, хлопал белогубым ртом. Никон, дивясь, бурил его встревоженным взглядом. Видя, как Иоаким, все более горбясь, наваливается на посох, виснет на нём то ли от страха под взором патриарха, то ли от непомерной устали и вот-вот свалится на пол черным вытряхнутым кулём, Никон подал ему руку.
Иоаким сцапал ее двумя ладонями, посох из-под него скользнул в сторону, брякнул об дубовые кирпичи настила сеней и заскользил по ним, качая отполированными рогами. Прильнув ртом к длани патриарха и отчаянно обжав ее своими холодными, как жабьи, руками архимандрит устоял. Скорченного его, подпихивая посохом и подпирая животом, Никон подтолкал к скамье, усадил и сел рядом.
Ныли ноги от стояния на заутрени, гудела голова, умаянная за ночь всякой всячиной. Посох архимандрита лежал у скамьи брошенной, ненужной палкой. Никон подтянул его ногой в красносафьяновом сапоге с высоким каблуком, натужно нагнулся, поднял, сунул Иоакиму. Архимандрит прижал двурогий посох к груди и, обретши его, поборол немоту и немочь.
– Пропал старец-то, – шепнул, поднимая на патриарха безумные, в синюшных впадинах глаза. – Пропал, как вылетел. Али ишшо как.
– Как «ещё как»? – Никон нагнул к нему ухо. – Истаял, или каво там?
Иоаким безмолвствовал. Патриарх с вывертом, как гусь, ущипнул его за бок.
– Ни лужицы! – ойкнув, выкрикнул архимандрит. – Я в келью к нему прибрел, думал в дорогу наладить, да едва дверку приотворил – хладом мя обдало, яко ветр над головой шумнул.
– Ну, обдало! – тормошил Никон. – Выдуло старца, ли чо ли?.. Да окстись ты, в себя вернись!
– Кстюсь, кстюсь! – Бледные пальцы Иоакима оплясывали грудь. – Не обрёлся старец в келье. Токмо Савва нежитью на скамье торчком сидит, яко до колен дровяной, одно лаптями шаволит и тако вякает: «Быти мору великому после гроз сухих». И глядит в меня бельмами, а в бельмах зрачки, как паучки, лохматятся. Отродясь у него их не видывал!
– Из ума вытряхнулся, или…
– Или, или, владыка, – вновь до шепота опал голосом архимандрит. – Весь он другой какой-то. Сменился.
Опустив веки, Никон думал о чем-то. Привалясь к его плечу вскруженной невидалью головой дышал, выстанывая, Иоаким.
– Говоришь, сменился? – приоткрыв один глаз, переспросил патриарх. – Это ништо-о. Вошь и та шкурку сменяет.
Встал, помог подняться архимандриту, свел его с крыльца.
– Ступай, Савву увози, – приказал.
И долго смотрел вслед Иоакиму, как тот, ссутулясь, с посохом под мышкой, черной мышью семенил через безлюдную еще Соборную площадь.
Проводил архимандрита, взошел по высокому крыльцу в сени Крестовой палаты, выстроенной еще патриархом Иосифом, постоял пред написанным на стене ликом Спаса «Недреманное око». Муть и смута душевная от встречи со старцем и долгим спором с Нероновым так и не покидали Никона. Тянуло прилечь, да знал – ни на волос не склеит сон очи: столько тревог надвинулось, не до сна стало. Вот и теперь, глядя в широкие вопрошающие глаза Спаса и мысленно обращаясь к нему с извечной просьбой: Христе Боже наш, помилуй мя, грешного, – он в то же время просчитывал в уме суетное: выкопаны ли рвы и сколько вбито свай, довольно ли привезено кирпичей на пустующее цареборисовское дворище, подаренное ему царем для большего простора и устроения на нем Патриаршего ведомства. А вбито пока пятьсот свай, да завезено сто сорок одна тысяча кирпичей, да тысяча бочек извести с тремя тысячами коробов песку. Мало сего.
Никон строил много. Будучи митрополитом Новгородским по денежке полнил не только казну московскую, патриаршую, но и свою. Многие подати, сборы, пошлины и вложения бояр и купцов сколотили ему хорошую деньгу. И все шло на каменное дело – постройку монастырей, храмов, богаделен, на пропитание нищих и убогих. Всякий день будний усаживал за стол брашный до трехсот нуждущих и дальних богомольцев. Он и в Москву прибыл небедным, а севши на место патриарха и унаследовав накопленное прижимистым Иосифом добро, удивился упавшему в руки великому богатству. Отсюда и задумка – расширить Патриарший двор с новою Крестовою палатой, возвести церковь во имя святого мученика Филиппа, считая его своим небесным покровителем.
Работы в Кремле шли быстрым ходом, а уж на реке Истре присмотрены и выкуплены у окольничего Боборыкина земли с деревнями. И уже забродило на них невиданное прежде на Руси людское радение в воздвижении Нового Иерусалима. Эта обетная Богу стройка удивила и напугала бояр. Они возроптали – мало ему старого патриаршего дворца? Захапал, считай, половину Кремля под новый, а все мало. Скоро всех турнёт за Китай-город! Сгонит мужичий патриарх древние роды с вотчинных прадедовских мест. Самые отчаянные в глаза попрекали Никона, но он грубил им, широко обводя рукой палату:
– Вот вы кто для меня! – И тыкал пальцем в скамьи и кресла. – Мебель подгузная!
Жаловались царю – урезонь грубияна, пошто вмешивается в мирские дела и дерзить охочь. Князья Воротынский и Одоевский всяк от себя подали челобитные. Доверенный государя, тож не любивший Никона, Радион Стрешнев передал их лично в руки Алексею Михайловичу. Царь, не читая, отдал челобитные шурину своему, Борису Ивановичу Морозову, тот прочитал и положил под сукно.
Когда Василий Петрович Шереметев, князь и боярин царских кровей, вступился за обиды лучших людей, помятуя о своих с царем родственных связях, то Алексей Михайлович мягко, чтоб не шибко обидеть большого боярина, урезонил:
– Хоть мы и одного корня – Федора Кошки, пятого сына Андрея Кобылы, боярина великого князя Симеона Гордого, но бармы царские у нас – Романовых. Так Богу угодно. И не тебе докучать нам, государю твоему и великому князю, вредоносными прошениями. Досадно это. Вижу – засиделся ты в Москве, Василий Петрович, обомшился, яко пень. Поезжай-ка, пожалуй, да повоеводь в Казани.
Никон знал об этой отповеди царской: сам Алексей Михайлович сказывал о ней. И теперь, войдя в Крестовую палату, выпроводил из нее всех ждущих его просителей и прошел далее – в Золотую с двумя четырёхсаженными столами, крытыми зеленым бархатом и такими же вокруг них скамьями, сел за малый столик в золоченое кресло.
Стены палаты, обитые смугло-коричневой кожей с золотным тиснением, поблескивали давленными узорами цветов и трав. Устланный персидскими коврами пол и толстенная кладка стен гасили всякие шорохи. В окнах весело перемаргивалась расписная слюда, вправленная в хитрокованные переплётины.
Покой и тишина умиротворили патриарха. Перед ним на округлой столешнице из витой карельской березы потаенно-матово светилась большая золотая миса. В ней, тоже золотая, высилась митра-корона, искрила драгими каменьями и окатным жемчугом.
Обеими руками Никон обережно приподнял её, тяжёлую, отставил в сторону и, лаская глазами, любовался золотой малой братиной в лазоревой финифти, а больше того свитком под царской печатью. Вся эта щедрая лепота была подарена ему государем ко дню Успения Пресвятой Богородицы.
Свиточек же, писанный рукой царской, стоил дороже всего злата-серебра, был оберегой Никону во всех делах и помыслах. Что в нём написано, помнил как «Отче наш», но перечитывал во всякий день, когда, притомленный многими делами, искал подкрепления порывистому уму. Одно касание к нему вливало уверенность неуступчивому в вопросах церкви и государства новому, беспокойному сердцем патриарху.
Молитвенно никня густо-серебряной головой пред всесильной «оберегой», извлёк ее из братины, развернул и вслух прочёл самое заветное:
– «…Нам же во всем его, Великого государя-патриарха, послушати и от бояр оборонять и волю его всенепременно исполнять».
Так обязывал себя помазанник Божий. А перечить царю – Богу перечить.
Прозвонил колоколец. В палату вошел аккуратный во всем, красавец и слуга верный, стряпчий патриарха – Дмитрий Мещерский. Никон кивнул ему:
– Сказывай.
– К тебе, владыка великий, князи навяливаются.
– Кто нонича? – нахмурился Никон, пряча в братину свиток.
– Сызнова Воротынский да с ним Долгоруков, что из Сыскного приказа в сенях преют, – язвительно доложил стряпчий. – Каво прикажешь содеять с имя?
Никон прищурился на услужливого Мещерского. Стряпчий никак не выносил такого вот взыскующего взгляда патриарха, смешался, хлопая белесыми ресницами, заалел лицом.
«И этот рыжеват, – будто впервые видя своего слугу, подумал Никон. – Да, пожалуй, совсем рыж».
Помучил стряпчего долгим неответом, приказал:
– Воротынского спровадь подобру-поздорову: много докучен брательничек государев, а Долгорукого, кнутобойцу, в сенях изрядно потоми. Научай гордецов ждать зова. Пообвыкли валить напролом к Иосифу-патриарху в обе Крестовые во всяк день и час. Вот и научай чинному обхождению. А учнут лаять да ворчать – ты мне их лаянья на грамотке подай.
Мещерский ужом увильнул за дверь, с осторожей притворил дубовые створы. Никон приподнял митру-корону, она заискрилась многоцветьем каменьев. Повертел в руках, благостно млея от их утешного плескания, от тихого свечения жемчужного навершного креста и прикрыл ею братину. Улыбаясь, поерзал в кресле, устроился поудобней, вытянул затекшие ноги.
Забыться на миг будким сном соловьиным не дал глухой, но уверенный перетоп. Патриарх подобрался в кресле, огладил бороду, приосанился. Так ходил по дворцовым покоям один человек – Алексей Михайлович.
Боковая узкая дверь, обитая кожей, неприметная в золоченой стене, хозяйски распахнулась. Царь, а за ним духовник его Стефан вошли в палату. Никон встал, осенил их, опахивая лица широким рукавом мантии. Они поясно склонились, целуя ему руки.
Алексей Михайлович распрямился, смутными глазами широко смотрел на патриарха. Чуя неустрой в душе государя, Никон взял его руку в обе свои, нежно поцеловал в ладонь.
– Чем опечален, сыне? – с участием, как должно заботливому пастырю, вопросил, лаская пальцами длань царскую.
Алексей Михайлович вежливо выпростал ладонь из рук патриарха.
– Отче святый, – виноватясь, начал он. – Так уж много шлют жалоб мне, государю, да все опять про нелады церковные. – Вздохнул, потупил глаза. – А пошто не тебе? Мне недосуг их честь, да и не патриарх я. Уж отпиши ты по градам и весям, вразуми паству.
Царь обернулся к Стефану. Протопоп держал под мышкой пухлую кипу листов, перевязанную тесёмкой. Никон встретился взглядом со Стефаном, повел глазами на столик. Вонифатьев молча положил связку на столешницу рядом с митрой.
– Писал я, писал в епархии, строго наказывал – впредь не слать жалоб государю, – мрачнея, заговорил Никон. – Ан все шлют! С какой гоньбой шлют, неведомо. Не иначе гонцами пешими. Велел же токмо в руки тамошних протопопов да епископов челобитные подавать, чтоб с казной пошлинной слали в приказ Патриарший. Помилуй, государь, поток сей запружу.
– Уж запрудь, батюшка, – бледно улыбнулся Алексей Михайлович. – Поблагодарствуй делом… А тут, утресь, отец Стефан еще дурной вестью удручил: поп Лазарь, что в помочь протопопу Муромскому послан бысть, – сбёг. Воевода отписал, мол, прилетел попец, крутнулся вихрем и – в град Романов. Там тож людишек взвихрил и, ополоумя, в Москву кинулся. Да и не один он. А под чье крыло? Огласи-ко, отче Стефан.
Вонифатьев, покашливая, промакнул ширинкой, обшитой по углам васильками, испарину на обескровленном лице.
– Лазарь в Казанской. У Неронова, – пряча платок, с досадой произнес он. – И Никита суздальский объявился. Тож и протопоп Симбирской Никифор.
– Тож у Неронова? – не дивясь, зная наперед ответ Стефана, закивал головой Никон. – Овечка да ярочка – одна парочка.
– Проповеди с паперти добре чтут, как встарь было.
– Ну-у… Знаю я их, пустосвятов, – ухмыльнулся патриарх. – Уж не отбрел ли от места своего и Логгин с Аввакумом?
– Сказывают, Логгин на крестце варваринском замечен, – удушливо, в кулак, подтвердил Стефан. – Принужден бысть от побоев сбечь. Аввакума ж на Москве не слыхать.
Никон поднес руку ко лбу, но тут же уронил плетью.
– И это «труба златокованая», твой Логгин? – спросил жестко. – Не ты ли так окрестил его, Стефан?.. Знать, непотребно трубил, коль убёг от пасомых, знать, самому мне ехать к разбредшему стаду гужи подтягивать, да на их места потребных пастырей ставить. Поутру отправлюсь по епархиям, государь, ежели изволишь.
– Изволяю, – кивнул Алексей Михайлович. – Поезжай благославясь. И меня осени, отче.
Никон благословил. Царь, озабоченный, с надутыми губами удалился в потаенную дверь.
– И тебе бы, Стефан, с Москвы на время в отчину свою съехать. – Патриарх жалостно глядел на протопопа. – В лесах-полях да по водным свежестям здоровьем надышишься. Хворь и отпятится.
Стефан то ли засмеялся, то ли закашлялся:
– Добре. Съеду. Хоть на заду, да к своему стаду.
Обнадежил Аввакум вдовицу, жёнку стрелецкую, вернуть в отчий дом скраденную бывшим воеводой дотчонку, да все недосуг было. Мотался первые дни с обыскной книгой по монастырям и церквам, сверяя податные долги в приказ Патриарший. А недоимок всяких накопилось многонько, да выжать их у люда было тягостно: городские пролазы и сельские простецы дружно хитрили, выпрашивая отсрочки за гольным безденежьем, однако в кабаки хаживали усерднее, чем в церкви Божии. Там, в угаре сивушном, чаду табачном пластали до пупа рубахи, а пропив и крест – выгудывали осиротевшую грудь кулаками, без страха понося протопопа:
– До лаптей оборвал, собака!
Одурев от хмеля – глаза поперек – куражились:
– А нам ништо-о! Самого облущим, да в ров с раската псам сбросим!
– Службами долгими уморил, когда и работать! Всё рай небесный сулит, а нам ба земного стало!
Зудили Крюкова-воеводу кабацкие бредни опасные. Наряжал в помощь Аввакуму стрельцов да бездельцев-пушкарей. Радел много, да и подоспевший указ государев строгий велел: «Всяко да расторопно вспомощенствовать протопопу нашему». Царь писал за собственной рукой, как всегда, длинно и украсно о карах за лень и пьянство, о игре в зернь, о праздных людишках, воровстве. В конце, по обыкновению, острастка: «Быть всем мытникам, лежебокам-отикам подручникам сатанинским под немилостивой кнутобойной сжогой».
Вот и рысил Аввакум по Юрьевцу и округе, сгонял ни свет ни заря с лавок и печей прихожан, долбил клюкой або посохом в ставни и двери, будил нерадивых к заутрене. Ослушников всякого рода и звания прищемлял строго, упрямцев сажал на цепь в подвалы и стену городскую в заноры. Не ел, не пил – высох до звона, лохматое лицо в себя провалилось, нос кокориной выкостился, одни глаза светились неистовостью. И добился своего упрямь-пастырь, наполнил заблудшими овцами церкви, оживил их дневными и всенощными бдениями. В очередь и внеочередь сам службы правил, чёл проповеди с папертей и на стогнах града и на людских торжищах. Поспевал всюду: венчал невенчанных, отпевал усопших, крестил неокрещенных. Строг был, но и милостив по надобности. И зажурчились серебряные чешуйки-денежки в надежную кису для казны патриаршей.
А тут и случай подоспел: с досадой на людей государевых служивых завернул протопоп ввечеру на двор Дениса Максимовича. Жаловал воевода Аввакума – обнял при встрече.
Народу на широком дворе было густо. Тут и стрельцы во всеоружии, подводы с припасом, челядь по кладовым воеводским снует – таскает до кучи всякий боевой доспех. И пушкари, прихмуренные бородачи, возле двух пушечек голландских колдуют, на дубовые лафеты прилаживают. Дивился Аввакум на суету.
– Никак, Денис, на Литву ополчаешься?
– Боже упаси, – отмахнулся Денис Максимович. – Тут свои вскрамолились, шалят. С понизовья от Астрахани черемисы да нагайцы с вольными людишками вверх по Волге гребут да грабят.
– Уж не лихо ли новое наваливается. Опять Русь воруют, – встревожился протопоп. – Сам-то как прикидываешь?
– Ништо-о! Лихо нонича мелкое, – зашевелил красой-бородой воевода и, выгордясь – грудь ободом, огладил ее, холя. – Тут пред твоим приездом пятерых лазутчиков, воровских мутил, на торжище повязали да на плотах на глаголы вздёрнув, пустили вниз по Волге острастки для.
– Видел я острастку ту. Ж-жуть. Милосердствуй, Денис Максимич.
– К ворью? – удивленно надломил брови воевода. – Их миловать – себе на шею веревку намыливать. Вот и сбираюсь со стрельцами да двумя пушчонками растолочь ту стервь в зародыше. Ишшо там и казачья шушера с Дону дурит и пагубничает. Но побаивается. Ворье-то мы в полон не берем: кому секир башка, кому картечь, а шибко гулявым да резвым – удавку. Оченно сволота сия пушек не любит. Вишь, снял со стены две? Боле и не надобно.
– А царь казакам благоволит, как не знаешь? – Аввакум заглянул в бесхитростные глаза воеводы. – Они ж в польскую самозванщину Михаила, царствие ему небесное, на трон подсадили. Я их ватагу посольскую в Москве видел. Все в бархате, при пистолях и саблях. Пред боярами шапок не ломят, свысока глядят. К государю с оружием вход разрешен. Во как жалует их царь. Не робеешь?
– Царю – жаловать, а нам, его псарям, не миловать! – тряхнул кулаком и отвел упрямые глаза воевода, но тут же прикрикнул на пушкарей:
– Пищалей затинных пошто не вижу? Снять сколь ни есть из бойниц! Неча ржаветь имя. Да свинцу и пороху вдосыть чтоб. Вдосы-ыть!
Протопоп наблюдал за всей суетой с любопытством. Впервые видел сбор войска на брань смертную. Подошел к пушкарям.
– Пушки палить не отвыкли? – потыкал пальцем в жерло. – Сто лет немотствовали. Небось в утробах их голуби птенцов парили.
– Что им станется, медным! Пробанили песочком да золой. – Воевода взял протопопа под руку, отвел к приказной избе. – Тут, батюшка, грамотка на тя обрелась, а пуще – донос.
Аввакум подобрался, глядел на запрокинутое к нему со смешинкой в глазах лицо воеводы, ждал, чего такого неладного поведует Денис Максимович. Крюков не стал томить любого ему протопопа.
– Ко мне Луконя, знакомец твой прибрёл. Стрелец из Нижнего. Помнишь? – улыбнулся, подтолкнул локтем. – Сотник Елагин с повинной на себя, а на тебя с доносом за спасение блудницы в Москву его наладил. Но хоть и страхом измучан отрок, однако неробок. Душа, сказал, велела ко мне, воеводе, явиться. Всю подноготную выложил. А она этакая: кто-то из тюремных сидельцев, пощады чая, донес Елагину, как ты деву из ямы вызволил как раз в Луконину стражу. Да как в лодию снёс, да как вверх по Волге с костромским Даниилом, рогожками укрыв, сплавил. Боязно стало за тебя. Ну, доносы я изодрал, а Луконю на мельнице упрятал. Он и рад, голубь. В муке извозился – мать не признает. Выходит, не стоять тебе на правеже у Долгорукова в Разбойном.
Слова воеводы устрашили Аввакума, но тут же и успокоили. Однако ноги помякли, не двинуть ими, как в колодках. Они помнили давние злые шелепуги во дворе Патриаршего приказа. Прикачнулся плечом к брёвнам избы, долгим выдохом опрастал грудь, сдавленную нежданной вестью, поклонился благодарно.
– Обмер я, – признался. – До самой смертыньки обмер… Ох уж мне те страсти пыточные. Спасай тебя Бог, воевода… Ух как меня помутило… А шел к тебе с другой печалью. Тут у приказчика дева обитает. Ее бывший воевода Иван Родионыч силком к себе взял и обрюхатил. Вернуть бы стало девку матушке. Убивается с горя вдовица.
– Девка тут. – Крюков показал на жилую половину челяди. – При дворне обитает.
– Так спровадь к матке.
– В шею гнал – ухом не повела. Ревмя ревела, да еще с брюхом горой. – Воевода округлил пред собою руки, поколыхал ими. – Выла, мол, дома в поле хлестаться заставят, а тут при муже-приказчике сытно и лодырно. Бароня!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.




