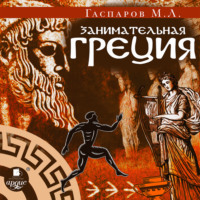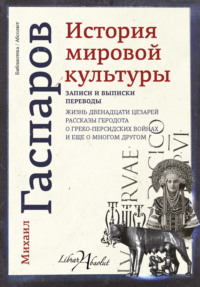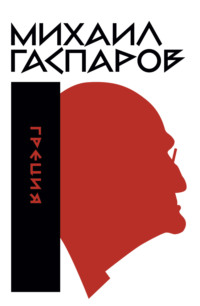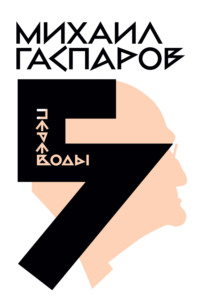Полная версия
Собрание сочинений в шести томах. Т. 3: Русская поэзия
О том, как от 4-ст. хорея с нерифмованными дактилическими окончаниями ответвился 4-ст. хорей с чередованием дактилических и мужских рифм (а от него – 4-ст. ямб с таким же чередованием), рассказано в главах 1, 2 этой книги.
5) Последний размер из группы восходящих к народным источникам своеобразен: его народный источник не русский, а румынский. Это 2-ст. анапест с мужским окончанием. Пушкин в Бессарабии услышал цыганскую песню на румынском языке[112]:
Арде-мэ, фридже-мэ,Ын фок вынэт пуни-мэ,Де м’эй фридже пе кэрбунеИбовнику ну-ць вой спуне…Размер песни – обычный восточноевропейский 4-ст. хорей, только начальная строка отличается усечением на цезуре (как у Ахматовой: «А у нас серых глаз Нет приказу подымать») и от этого звучит 2-ст. анапестом. В русской литературной практике того времени это не было принято, поэтому звучание начального анапеста запомнилось Пушкину куда больше, чем звучание всех последующих хореев; и когда он сделал свое переложение этой песни для поэмы «Цыганы», то он сделал его 2-ст. анапестами с мужскими окончаниями. Песня имела громкий успех у русского читателя, и подражания ей стали появляться «в русском стиле» без всякой оглядки на молдавскую экзотику:
Старый муж, грозный муж, Режь меня, жги меня: Я тверда: не боюсь Ни ножа, ни огня… (Пушкин);
Я любила его Жарче дня и огня, Как другим не любить Никогда, никогда… (Кольцов);
Путь широкий давно Предо мною лежит, Да нельзя мне по нем Ни летать, ни ходить… (он же.
И даже когда поэты стали в этом размере сдваивать строчки, чтобы получался 4-ст. анапест с мужскими окончаниями, они опирались на фольклорную семантику то в тематике – «Не гулял с кистенем я в дремучем лесу…» (где рассказ ведется от лица мужика), а то, еще тоньше, в стилистике – «Я за то глубоко презираю себя…» (где герой поначалу рисуется кающимся интеллигентом, а под конец вдруг хватается за нож):
Я за то глубоко презираю себя, Что живу – день за днем бесполезно губя; Что я, силы своей не пытав ни на чем, Осудил сам себя беспощадным судом… Что любить я хочу… что люблю я весь мир, А брожу дикарем – бесприютен и сир, И что злоба во мне и сильна и дика, А хватаюсь за нож – замирает рука! (Некрасов).
Б) Переходим от размеров народного происхождения к размерам западноевропейского происхождения[113].
6) Самый простой из этих размеров – это 3-ст. хорей. В европейской поэзии он начинается в средневековых латинских гимнах (Ave maris stella), потом превращается в размер легких песенок, в таком качестве встречается и у некоторых русских поэтов, от Тредиаковского до Сологуба. Но главная русская семантическая традиция этого размера пошла, как ни странно, от немецкого стихотворения, в котором 3-ст. хореем была написана только первая строчка, а дальше шел более вольный размер: Гете, «Ночная песня странника», «Über allen Gipfeln Ist Ruh…». Его переложил Лермонтов, выдержав размер этой первой строчки на протяжении всего стихотворения «Горные вершины…» (Х3жм). Отсюда пошла целая вереница пейзажных 3-ст. хореев; от этой семантической линии ответвились некоторые другие – смерть (от «отдохнешь и ты»), быт и т. д. – подробно об этом рассказано в главе 3.
Параллельно с этим Х3жм сперва в песнях (Сумарокова, Дельвига), а потом под влиянием «гейневского» 4-ст. хорея со сплошными женскими окончаниями (?) рядом с Х3жм развился Х3жж: «Нива моя, нива, Нива золотая, Зреешь ты на солнце, Колос наливая…» (Жадовская); «Дверь полуоткрыта. Веют липы сладко… На столе забыты Хлыстик и перчатка…» (Ахматова). Чтобы размер, не теряя простоты, приобрел пространность и стал удобен для эпических повествований, его стали сдваивать, образуя 6-ст. хорей с цезурой:
Перед воеводой молча он стоит; Голову потупил – сумрачно глядит… (Тургенев, «Баллада»);
У бурмистра Власа бабушка Ненила Починить избенку лесу попросила… (Некрасов, «Забытая деревня»);
Не сверчка-нахала, что трещит у печек, Я пою – герой мой полевой кузнечик… (Полонский, «Кузнечик-музыкант»).
История этих дериватов (и не только эпического, но и лирического, с игрой сдвигами цезур и наращениями) не исследована до сих пор: много ли они сохраняют семантической наследственности от своего источника?
Нет на свете мук сильнее муки слова… Холоден и жалок нищий наш язык… (Надсон);
После первой встречи, первых жадных взоров, После невидавшихся, незнакомых глаз… (В. Гофман);
С ничегонеделания, с никуданебеганья Портится цвет лица, делаешься бледная… (Кирсанов).
7) 4–3-ст. хорей со сплошными женскими окончаниями тоже берет начало от средневекового латинского размера (7д+бж), так называемого «вагантского стиха» – Meum est propositum in taberna mori, Ut sint vina propius morientis ori… Он пришел в Россию через Польшу и Украину, немного деформируясь под влиянием местных языковых особенностей и привычек. В украинской народной поэзии из этого получился силлабический (4+4+6) сложный коломыйковый стих: «Ой коби я за тим була, за ким я гадаю, Принесла би сім раз воды з тихого Дунаю»; потом им пользовался и Шевченко: «Посіяли гайдамаки На Вкраіні жито…». В России этот силлабический стих стал силлабо-тоническим: «Во саду ли, в огороде Девица гуляла…» – 4- и 3-ст. хореем со сплошными женскими окончаниями; и полностью сохранил песенные ассоциации, как бы добавившись к уже рассмотренным нами размерам русского происхождения с народно-песенной семантикой:
Чернобровый, черноглазый Молодец удалый Вложил мысли в мое сердце, Зажег ретивое… (Мерзляков, 1810-е годы);
Отпусти меня, родная, Отпусти не споря! Я не травка полевая, Я взросла у моря… (Некрасов, 1867);
Клейкой клятвой липнут почки, Вот звезда скатилась: Это мать сказала дочке, Чтоб не торопилась… (Мандельштам, 1937).
А у Багрицкого этот размер использован в «Думе про Опанаса», даже со сдвигами ударений, как в силлабическом стихе, чтобы подчеркнуть украинскую тематику: «Зашумело Гуляй-поле От страшного пляса, – Ходит гоголем по воле Скакун Опанаса…».
Следующая группа размеров восходит к тому же латинскому вагантскому стиху Meum est propositum in taberna mori…, но прошедшему не через украинское, силлабическое, а через германское, тоническое посредничество. В германских языках этот стих, во-первых, как бы надставился в начале, превратился из хорея в 4–3-ст. ямб, а во-вторых, под влиянием древнегерманского чисто тонического стиха расшатал междуударные промежутки, превратился из ямба в 4–3-ударный дольник. Такой дольник долго жил в немецких и английских народных балладах и песнях, а потом романтики привлекли его и в литературу: сперва осторожно, выправив его обратно в ямб, а потом смелее, в неровном дольниковом виде. Оба эти их подхода нашли подражание и в русском стихе.
8) 4–3-ст. ямб со сплошными мужскими окончаниями начался в русской поэзии переводами из немецких и английских романтиков:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
См.: Гаспаров М. Л. Воспоминания о С. П. Боброве // Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 385–394.
2
Поливанов М. К. Тайная свобода. М.: Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2006. С. 7.
3
«Мой взгляд на тартуско-московскую школу был со стороны, верней, из угла. Из стиховедческого» (Гаспаров М. Л. Семиотика: взгляд из угла // Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 330).
4
Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 74.
5
Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 317.
6
Кто захочет, может найти для этого настойчивого стремления Гаспарова биографическое обоснование. Процитируем здесь его афоризм, запомнившийся А. К. Жолковскому: «Только занимаясь второстепенными поэтами, мы смеем надеяться, что не забудут и нас, третьестепенных филологов» (Жолковский А. К. На фоне Пушкина // Жолковский А. К. Эросипед и другие виньетки. Томск: Водолей, 2003. С. 527).
7
Первое издание книги вышло под этим заглавием, регулярно исправлявшемся автором; в двух последующих изданиях (М.: Фортуна Лимитед, 2001; М.: Книжный дом «Университет», 2004) название было изменено на «Русский стих начала ХХ века в комментариях»; см.: Кормилов С. И. Научное и литературное наследие Михаила Леоновича Гаспарова // Михаил Леонович Гаспаров. 1935–2005 / Сост. Г. Г. Грачева, Ю. Б. Орлицкий, А. Б. Устинов. М.: Наука, 2012. С. 6–46 (с. 30–31).
8
«…В прозе никого не нахожу. В прозе мне нравятся наши культуртрегеры типа Михаила Гаспарова, Сергея Аверинцева» (Ерофеев Вен. «Умру, но никогда не пойму…» С писателем беседовал И. Болычев // Ерофеев Вен. Мой очень жизненный путь. М.: Вагриус, 2003. С. 520).
9
Ср. в «Записях и выписках»: «Точноведение: „В переводе, кроме точности, должно быть еще что-то“. Я занимаюсь точноведением, а чтотоведением занимайтесь вы» (Гаспаров М. Л. Записи и выписки. С. 177).
10
Заметим, что на эту удочку порою попадались не только простодушные читатели, но и вполне квалифицированные профессионалы. См., например, полную горьких укоризн в адрес Гаспарова, якобы неспособного «услышать музыку разбираемого им поэтического произведения», статью: Сарнов Б. М. Зачем считать дольники у Игоря Кобзева // Вопросы литературы. 2003. Май–июнь. С. 74–93.
11
Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 1993. С. 188–189, 207, 269. Эта остроумная мистификация была раскрыта еще при жизни Гаспарова. См.: Шапир М. И. Гаспаров-стиховед и Гаспаров-стихотворец. Комментарий к стиховедческому комментарию // Русский стих. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. В честь 60-летия М. Л. Гаспарова. М.: РГГУ, 1996. С. 298–300. По сведениям, которые были получены нами от покойного Н. А. Богомолова, в сочинении стихотворений второстепенного поэта принял большое участие сын Михаила Леоновича, Владимир Михайлович Гаспаров.
12
Гаспаров М. Л. Две готики и два Египта в поэзии О. Мандельштама // Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. IV. Лингвистика стиха. Анализы и интерпретации. М.: Языки славянской культуры, 2012. С. 548.
13
См.: Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Л. Гаспарова. М.; Харьков: АСТ; Фолио, 2001.
14
Ломоносов М. В. Избранные произведения / Под ред. А. А. Морозова. М.; Л., 1965. С. 486–494.
15
Гумилев Н. Сочинения: В 3 т. Т. III. М., 1991. C. 31–32.
16
Шенгели Г. Техника стиха. Практическое стиховедение. М., 1940. C. 24.
17
Там же. С. 24–25.
18
Цит. по: РГАЛИ, 2861. I. 76. Л. 94–95. Ср.: Постоутенко К. Ю. Г. А. Шенгели о семантике метра (К итогам русской нормативной поэтики) // Культура русского модернизма – Readings in Russian Modernism: to Honor V. F. Markov. M., 1993. С. 280–290.
19
Кац Б. Г. О программе, сочиняющей стихи // Автоматика и телемеханика. 1978. № 2. С. 151–156.
20
Томашевский Б. В. Стих и язык. М., 1959. С. 202–324.
21
Jakobson R. Selected Writings. Vol. 5. On Verse, Its Masters and Explorers. The Hague, etc., 1979. P. 465–466.
22
См.: Шапир М. И. «Семантический ореол метра»: термин и понятие // Литературное обозрение. 1991. № 12. С. 36–40 (с. 37).
23
Тарановский К. О взаимодействии стихотворного ритма и тематики // American Contributions to the 5th International Congress of Slavists. Vol. I. The Hague, 1963. P. 287–322.
24
Шапир М. И. «Семантический ореол метра»: термин и понятие.
25
Томашевский Б. В. Стих и язык. C. 20.
26
Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959. C. 28, без ссылки на источник.
27
Маллер Л. М. Экспрессивно-тематический ореол трехстопного амфибрахия // Тартуский гос. университет. Материалы XXV научной студенческой конференции: Литературоведение, лингвистика. Тарту, 1970. С. 55–59.
28
Гаспаров М. Л. Семантический ореол метра: к семантике русского трехстопного ямба // Лингвистика и поэтика. М., 1979. С. 282–308 (с. 284).
29
В. В. Мерлин (Семантические традиции трехстопного амфибрахия в творчестве А. Гребнева // Литература и фольклор Урала. Пермь, 1979. С. 65–71) – через психофизиологический «тонус организма» и (Грамматика метра: К семантике трехсложных размеров // Проблемы стихотворного стиля. Алма-Ата, 1987. С. 17–28) через образные понятия «энергетика» и «внутренний метр»; ср.: Маллер Л. М. Семантическая оппозиция «дактиль – анапест» в ранней поэзии А. Блока // Модели культуры. Межвузовский сборник научных трудов, посвященный 60-летию профессора В. С. Баевского. Смоленск, 1992. С. 65–79.
30
Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 37.
31
Русский современник. 1924. № 2. С. 298.
32
Гаспаров М. Л. Современный русский стих: Метрика и ритмика. М., 1974. С. 81–86; ср.: Рейсер С. А. Словарь трехстопного ямба поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» // Труды по знаковым системам. 1969. Т. 4. Тарту. С. 368–385 (с. 377).
33
Гаспаров М. Л. Русский былинный стих // Исследования по теории стиха. Л., 1978. С. 3–47; Bailey J. Three Russian Lyric Folk Song Meters. Columbus, 1993.
34
Гаспаров М. Л. Русский былинный стих.
35
Астахова А. Из истории и ритмики хорея // Поэтика. Временник отдела словесных искусств ГИИИ. Л., 1926. Вып. I. С. 54–66.; ср.: Brik O. M. Two Essays on Poetic Language. Ann Arbor, 1964. (Michigan Slavic Materials, 5). P. 79.
36
Подшивалов В. Краткая русская просодия, или Правила, как писать русские стихи. М., 1798. С. 33.
37
Розанов И. Н. Лермонтов в истории русского стиха // Литературное наследство. 1941. № 43/44. С. 425–468 (с. 456–457).
38
Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984.
39
Ср.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы, кино. М., 1977. С. 18–27; Гаспаров М. Л. Тынянов и проблемы семантики метра // Тыняновский сборник: I Тыняновские чтения. Рига, 1984. С. 105–112.
40
Марков В. О свободе в поэзии. СПб., 1994. С. 287.
41
Литературное наследство. 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 271, с примечанием: «…В это время Ахматова очень любила стихи Брюсова». На это суждение обратил наше внимание Р. Д. Тименчик.
42
Кушнер А. С. Мандельштам и Ходасевич // Столетие Мандельштама: материалы симпозиума / Ред. – сост. Р. Айзелвуд и Д. Майерс. Тенафлай, 1994. С. 44–55 (с. 52).
43
Гаспаров М. Л. Метр и смысл: к сематике русского 3-ст. хорея // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1976. № 4. С. 357–366.
44
Гайнуллина Ф. А. Хореические трехстопники Ивана Бунина // Проблемы стиховедения и поэтики. Алма-Ата, 1990. С. 129–131.
45
О влиянии этого размера в стихах Есенина на смежные см.: Бельская Л. Л. Об эволюции есенинских хореических 3-стопников // Композиция и стиль художественного произведения. Алма-Ата, 1978. С. 60–69.
46
Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. М., 1993.
47
Подробнее об этом см.: Гаспаров М. Л. Ритмический словарь и ритмико-синтаксические клише // Проблемы структурной лингвистики – 1982. М., 1984. С. 169–185; Он же. Ритмико-синтаксическая формульность в русском 4-ст. ямбе // Проблемы структурной лингвистики – 1983. М., 1986. С. 181–199.
48
См. в большой серии БП: Огарев, 153, 267; Плещеев, 141, 214, 223, 224, 280, 311, 327; Никитин, 47, 54, 110, 136, 285; Суриков и поэты-суриковцы, 62, 68, 90, 97, 101, 113, 163, 234, 427; Дрожжин, «Стихотв.», 3-е изд. (1907), 102, 220, 234, 243, 246, 313, 386, 414, 472, 482, 487; «Поэзия труда и горя» (1901), 5; «Новые стихотв.» (1904), 28, «Песни старого пахара» (1913), 38, 44, 64, 67, 115, 125.
49
Гаспаров М. Л. Ритм и синтаксис: Происхождение «лесенки» Маяковского // Проблемы структурной лингвистики – 1979. М., 1981. С. 148–168 (с. 150–152).
50
Vickery W. On the question of the syntactic structure of the Gavriiliada and Boris Godunov // American Contributions to the 6th International Congress of Slavists. Vol. 2: Literature. The Hague, 1968. Р. 355–367; и особенно Дозорец Ж. А. Синтаксическая структура строки и ее членение на синтагмы // Актуальные вопросы грамматики и лексики русского языка. М., 1978. С. 79–96.
51
Ср. иное мнение: Seeman K. D. Die Nibelungenzeite in der russichen Ballade // Zeitschrift für slavische Philologie. 1993. Bd. 53. S. 319–348.
52
Гаспаров М. Л. Современный русский стих. С. 352–372.
53
Рейсер С. А. Строфа в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» // Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969. С. 192–206.
54
Тренин В. В «мастерской стиха» Маяковского. М., 1937. С. 80–82.
55
Seeman K. D. Die Nibelungenzeite in der russichen Ballade. S. 319–348.
56
Кацис Л. Ф. «…Но слово мчится, подтянув подпруги» (Полемические заметки о Владимире Маяковском и его исследователях) // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1992. Т. 51. № 4. С. 52–61.
57
См.: Руднев В. П. Трехстопный ямб Д. Самойлова // Сборник трудов СНО филологического факультета (ТГУ): Русская филология. 5. Тарту, 1977. С. 109–118; Дж. Смит указал нам, что таким же зачином открывается «У вод Мононгахилы» И. Елагина.
58
Hollander J. The metrical emblem // Style and Language / Ed. by Th.A. Sebeok. Cambr. (Mass.), 1960. Р. 191–192.
59
Маллер Л. М. Экспрессивно-тематический ореол трехстопного амфибрахия; Мерлин В. В. Семантические традиции трехстопного амфибрахия в творчестве А. Гребнева.
60
Тынянов Ю. Н. Поэтика. С. 20.
61
День поэзии. Л., 1983.
62
Мерлин В. В. Семантические традиции трехстопного амфибрахия в творчестве А. Гребнева.
63
Харджиев Н. И., Тренин В. В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 287–289.
64
Томашевский Б. В. Стих и язык. С. 279–280.
65
Тынянов Ю. Н. Поэтика. С. 21.
66
Вейдле В. О поэтах и поэзии. Париж, 1973. С. 104.
67
Томашевский Б. В. Стих и язык. С. 39.
68
Автор приносит глубокую благодарность Л. М. Маллер, работавшей над тем же материалом и поделившейся указаниями на некоторые тексты и интересными наблюдениями.
69
Розанов И. Н. Лермонтов в истории русского стиха. С. 458.
70
Чуковский К. От Чехова до наших дней. СПб., 1908. С. 140.
71
Розанов И. Н. Отзвуки Лермонтова // Венок Лермонтову. М.; Пг., 1914. С. 237–289.
72
М., 1979. С. 274.
73
Гаспаров М. Л. Современный русский стих; он же. Очерк истории русского стиха.
74
Чудовский В. Несколько утверждений о русском стихе // Аполлон. 1917. № 4–5. С. 58–69 (с. 63–65).
75
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972, 167–168.
76
Русское стихосложение XIX века: Материалы по метрике и строфике русских поэтов / Под ред. М. Л. Гаспарова, М. М. Гиршмана, Л. И. Тимофеева. М., 1979.
77
См.: Seeman K. D. Del’vig, Vjazemskij und Puschkin, oder: Aspekte der Parodie // Zeitschrift für Slawistik. 1987. Bd. 32. S. 60–64 (с. 61–64).
78
Лотман М. Ю. Русский стих: Семантика стихотворного метра в русской поэзии второй половины XIX века (А. А. Фет и Н. А. Некрасов) // Slowianska metryka porównawcza, III: Semantyka form wierszowych. Wroclaw, etc., 1988. S. 105–144.
79
Такой же попыткой выдернуть из метрической ткани Блока несколько нитей – разные размеры ямба II книги – является статья: Федотов О. И. К вопросу о семантике метра в лирике А. Блока (становление идейно-тематических ореолов ямба в циклах II книги) // Метод, стиль, поэтика русской литературы XX века. Вып. 11. Владимир, 1977. С. 100–130.
80
Альтман И. В. Традиционная семантика метра в поэзии В. Хлебникова: 4-стопный хорей // Язык русской поэзии XX века. М., 1989. С. 158–165.
81
Пяст В. Современное стиховедение. Л., 1931. С. 250.
82
СПб., 1912.
83
Воспоминания К. Званцева // Русская старина. 1888. Т. 59. С. 373–377.
84
В предисловии к Пастернаку в «Малой Библиотеке поэта», 1976. С. 29.
85
М., 1957. С. 39.
86
Тарановский К. О взаимодействии стихотворного ритма и тематики.
87
Jakobson R. Selected Writings. P. 465–466.
88
Тарановский К. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953. C. 273–298; Он же. О взаимодействии стихотворного ритма и тематики.
89
Там же. С. 297
90
Анализ этот может быть углублен еще далее, см.: Menge R., Peters J. Aleksandr Bloks Gericht «Osennjaja volja» auf dem Kulturellen Hintergrund zweier Gedichte von Lermontov und Tjuttschev // Colloquium Slavicum Basiliense; Gedenkschrift für Hildegard Schroeder. Bern, etc., 1981. S. 459–472 – о взаимодействии мотивов в стихотворениях Блока, Лермонтова и Тютчева.
91
Подробнее всего см.: Вишневский К. Д. Экспрессивный ореол пятистопного хорея // Русское стихосложение: Традиции и проблемы развития. М., 1985. С. 94–113.
92
Тарановский К. О взаимодействии стихотворного ритма и тематики. С. 297–298.