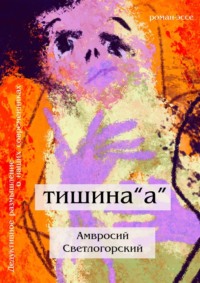Полная версия
Кошка под такси. Для чтения и кино

Кошка под такси
Для чтения и кино
Амвросий Светлогорский
Дизайнер обложки Полина Живаго
© Амвросий Светлогорский, 2023
© Полина Живаго, дизайн обложки, 2023
ISBN 978-5-0059-6120-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Кошка под такси
для чтения и кино
Ч А С Т Ь П Е Р В А Я
И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут.
Евангелие от Луки, гл.12, 48.Сцена театра марионеток. В глубине сцены – городской пейзаж.
Кукла-марионетка Пьеро объясняется в любви Балерине – безостановочно танцующей кукле-марионетке; но та настолько увлечена танцем, что даже не замечает влюбленного Пьеро.
Тогда Пьеро перерезает ниточки, заставляющие Балерину танцевать. Балерина замирает. Пьеро взваливает её на себя и убегает.
Около застывшей без движений любимой Пьеро пусто и никчемно. Пьеро в порыве отчаяния разрывает одну за другой свои ниточки, постепенно угасая с каждой разорванной нитью.
Мастерская Художника – большое помещение с высоким подиумом в углу, на котором устроена жилая комнатка. Вдоль самой длинной стены, напротив окон, искусно соединённых в один огромный витраж, развешаны и расставлены работы Художника, образуя своеобразную галерею. В центре мастерской из начатых, но ещё не законченных, и из уже готовых картин образован почти настоящий лабиринт с обманными ходами, секретами и тупиками. Сквозь застеклённый потолок, на котором нарисованы часы, всегда показывающие половину четвёртого, видны звёзды и отблески огней большого города.
Половина четвёртого ночи, за окном темно. Самым ярким световым пятном в художнической мастерской являлся фосфоресцирующий нимб Спасителя, запечатлённый Художником на последнем холсте, стоящем около окна в одном из тупиков искусственного лабиринта. Свет лился от нимба к Художнику, вторгаясь в сон, пробуждая. Но вот Он вздрогнул и открыл глаза; испуганный, взъерошенный, дрожащий – ещё во власти мучительных сновидений, Он смотрел на окружавшие его предметы, как будто видел их впервые – так испуганно и беззащитно порой смотрят новорожденные младенцы при появлении на свет Божий, будто они знают что-то такое, что уже недоступно взрослым.
– Что за навязчивый сон, на секунду закроешь глаза, как он тут же набрасывается на тебя и втягивает в свою страшную колею, – почти беззвучно прошептал Он, мало-помалу приходя в себя и успокаиваясь.
Когда Она заснула, Он не заметил. И сколько спал Он сам тоже не мог разобраться, вероятно, минуту – две, от силы. Прямо под ухом жалобно пищал телефон. Он снял трубку, недоумевая: кто бы мог звонить среди ночи. Но как только услышал равнодушное: «Ваша машина №708, выходите!» – окончательно проснулся.
– Надо же! Две минуты, а как вечность прошла!
Мне каждый день, что прожит неумелов ленивой суете ненужных фраз,и в маете ненужного знакомства,и в пустоте напыщенных бесед,ложится грузом тяжким, неподъёмным,заковывает сердце в кандалы, – вспомнил Он давно забытые стихи и попытался ими подбодрить себя; инертность ему была несвойственна, но рядом с ним в сладком сне пребывала Она, и невидимые нити от ее сновидений окутывали его и расслабляли.
На секунду задумался: «А надо ли? Надо ли вставать среди ночи, лететь в другой город? Оставлять милую твоему сердцу женщину одну даже на несколько дней… Ради чего? Ради каких-то денег!»
Но тут же мягким рывком встал с дивана и, влекомый светом, исходившим от лика Спасителя, вошёл в лабиринт из своих картин, где каждое полотно было его детищем, и каждое по-своему: либо переливом красок, либо едва уловимым шёпотом персонажей, либо насмешливым ироничным взором приветствовало своего создателя, шедшего мимо. Проходя, Он скользил взглядом по картинам, погружаясь в ирреальные образы запечатлённых на холстах и уже пережитых и забытых им самим чувств, которые, нахлынув с картин, с прежней силой воскресали в его душе, обнажая нервы на старых ранах, бередя раны, пробуждая боль, стихнувшую, уснувшую и почти забытую под воздействием лечебного бальзама времени.
– Пропала кошечка, – послышалось с одной картины, Он вздрогнул, как будто от болезненного укола, но не останавливаясь прошёл дальше.
– Смотрите, смотрите на своего Бога! Бога-самоубийцу, – вдруг зло раздалось с соседнего полотна, и будто кто-то плеснул на него водой.
Около следующей картины лицо его сморщилось в брезгливой гримасе от какофонии звуков странного оркестра; но это продолжалось мгновение; и раздался Глас:
– Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Послышался небесный хорал, и его лицо озарилось светлой радостью и покоем. Остановившись у лика Спасителя, Он перекрестился.
Подошёл к окну, вгляделся в ночную темень улицы. Шёл крупный снег.
– Шёл крупный снег и медленно кружа…
ложился на асфальт и тут же таял,
как будто бы посланник рая,
зашедший не за тем и не туда…
Прямо против подъезда на дворовой площадке Он увидел двух танцующих. Это была какая-то мистика! Он не поверил своим глазам: Пьеро и Балерина – его куклы, только не маленькие, а в человеческий рост, – выделывали различные «па».
Он был в оцепенении, когда автомобильные фары резко осветили всю площадку, и фигуры Пьеро и Балерины исчезли, будто растворились в воздухе; через двор, где они только что танцевали, пробежала то ли кошка, то ли ещё совсем маленький котёнок, а потом проехала «Волга».
В растерянности Он отвернулся от окна и заметил на противоположной окну стене подвешенные на гвоздиках фигурки Пьеро и Балерины. Сообразив, что предшествовавшее наваждение было ничем иным, как отражением этих фигурок в оконном стекле, Он бросил прощальный взгляд на её спокойное безмятежное лицо, улыбнулся, вышел в коридор и осторожно, боясь разбудить спящую, прикрыл дверь.
Еле заметный воздушный поток пронёсся по мастерской, касаясь картин, поднялся вверх и, долетев до Пьеро, качнул кукольную фигурку, которая, соскочив со стены, упала, потревожив женщину.
Она тут же проснулась, встала и, бегло окинув комнату взглядом, подошла к двери. Довольно странно выглядела эта «немая сцена»: Он стоял неподвижно с одной стороны двери, а Она – с другой. И оба чувствовали присутствие друг друга, но оба чего-то выжидали, мысленно разговаривая между собой. То, что расставание для них было чем-то уж очень болезненным – чувствовалось в каждом жесте, движении, интонации. И внезапно даже дверь перестала служить для них помехой – словно распахнулась настежь или исчезла вовсе, а вернее из непроницаемой дверь вдруг превратилась в стеклянную – настолько они не мыслили существование друг без друга. Так они и вели прощальный диалог сквозь прозрачную стеклянную дверь.
– Я должен идти… Пора. Ты же понимаешь, что с каждой минутой мне всё труднее вырваться от тебя.
Она замирает, и в её интонациях слышны оттенки растерянности, испуга и безнадёжности:
– Никто никого никогда не в силах удержать. Значит ты сам не хочешь уходить.
– Да я просто не могу не уйти. Чем-то я должен пожертвовать…
– Мною?
– Этой минутой, – ради…
– …творчества?
Он согласно качает головой:
– Мне надо уединение.
– Ради творчества? – тихо вскрикивает Она, едва сдерживая гнев, или даже уже не сдерживая. – Ради тво-р-чест-ва! Уходи, уходи… Жертвенник. Теперь-то я поняла – ты меня и не любил. Жертвовал творчеством ради меня. Усмирял свою плоть. Свою похоть, – но у неё нет сил на ругань. Она изнемогает при мысли о расставании. – А теперь тебе надо уединение. Уединение… Со мной у тебя не может быть уединения!.. А обо мне ты подумал? Хочешь, я буду собачкой у твоих ног? Рабыней?.. Буду омывать тебе ноги и вытирать своими волосами. Ты же любишь мои волосы. Ты же любишь меня. Ты же сам мне только что говорил, что любишь. И вот уходишь! Значит врал, значит жалился надо мной… А ведь я без тебя не смогу… Тебе надо уединение, а мне нужен ты. Парадокс жизни. Ты у меня отнял всё… Всё, что я могла полюбить и к чему привязаться, всё вытеснил ты… Даже ребёночка не оставил.
– Перестань. Ты отлично знаешь, что я всегда… хотел.
– Не-е-т! Ты не хотел! Если бы ты хотел, ты бы ни на шаг не отпускал меня, ни на шаг от себя. Ты же, как специально, бросал двусмысленные фразы, уезжал в экспедиции, и я одна тащила этот воз, думала только о тебе и о себе. Дура! Ду-у-ра… Правы те женщины, которые мужиков к себе детьми привязывают. А так – я тебе не нужна!
– Дурочка. Ну что ты такое говоришь…
– Если я тебе не нужна, то уж себе и подавно. А ведь я теперь, что без тебя… Ведь я на себя руки наложу. Я знаю, как это сделать быстро и безболезненно, как римские философы, не от яда, или меча, а с помощью тёплой ванны и бритвы – чисто и быстро.
– Послушай меня, не перебивай. Последнее время мне постоянно снится один и тот же сон чрезмерно назойливо и во всевозможных вариациях. Мне снится будто я – кукла-марионетка; будто я влюбляюсь в тебя, а ты – тоже кукла-марионетка… И чтобы нам вечно быть вместе, надо освободиться от ниточек, дёргая за которые, кто-то ловко управляет нами… И ты представляешь, – конец всегда трагичен. И я не знаю: это – сон, или – видение?..
– Да, да надо освободиться от ниточек. Кто-то дёргает – я чувствую. Кто-то подчиняет нас своей воле. Надо освободиться от ниточек…
И в тот момент, когда Она уже потянулась рукой к замку, а Он, подавшись назад, взялся за дверную ручку, вдруг неистово запищал телефон, и разорвалась тонкая невидимая нить, только что связывавшая двоих любящих людей. Этот писк вывел их из мистической задумчивости. Дверь из прозрачной стеклянной сделалась вновь непроницаемой и массивной. Он пошёл по лестнице вниз.
Она – к телефону. Услышав напоминание диспетчера, вздрогнула и, отбросив трубку, побежала к окну, стремясь как можно быстрее преодолеть чрезвычайно запутанный, но вместе с тем такой родной лабиринт из его картин.
Но в лабиринте время текло по своим законам – иным и непредсказуемым. Строгая ритмичность трёхмерного пространства разламывалась наличием иных измерений. Слышались странные потусторонние звуки. И, казалось, остановись Она на мгновение, как тут же будет вовлечена в череду сменяющих друг друга событий, запечатлённых на картинах. Обрывки фраз и диалогов доносились до неё с полотен, мимо которых Она проходила:
– Эти кошки… вечно под колеса прыгают! Самоубийцы.
– Знал, да ничего не предпринял, чтобы предотвратить…
– Мы – одно целое; ты и я – один вычурный айсберг – глыба льда, отколовшаяся от холодного материка непонимания и повседневности и теперь смиренно увлекаемая течением к убийственным для неё, палящим лучам экватора.
– Да, да, да, именно, айсберг! И я – его жалкая надводная часть, а ты – мощная, скрытая от глаз, потаённая, неведанная никому, даже ему самому.
– Ну он-то знал и ведал – это точно!..
Отдёрнув штору, неправдоподобно торчащую на одной из картин, и припав к спрятанному за этой шторой окну-стене, Она успела увидеть закрывающуюся дверцу такси. И всё!
Дверца захлопнулась, и в ту же секунду машина поехала. И как только фары перестали освещать площадку перед подъездом, из темноты в белых одеяниях выскочили Пьеро и Балерина и закружились в диком танце; их фигуры вырастали прямо у неё на глазах, становясь тонкими, длинными и угловатыми. А через несколько секунд они уже заглядывали к ней в окно на третий этаж.
Она в ужасе отшатнулась от окна, в глазах играло безумие.
Оглянувшись на стену, где висели фигурки кукол, Она заметила лежащего на полу Пьеро и, подойдя, прошептала, поднимая его:
– Придёт прежде отступление, и откроется человек греха…
Салон такси. Машина ехала под аркой дома, а Он рассказывал водителю тему своей будущей работы. В зеркале отражался прикреплённый к плащу художника значок, представляющий собой миниатюрную фигурку Пьеро.
– Придёт прежде отступление, и откроется человек греха, сын погибели… Это из второго послания Апостола Павла к Фессалоникийцам.
Таксист ошалело-заинтересованно переспросил:
– Какого, говоришь, Павла? К каким васса-ла-ни …?
– К Фессалоникийцам. Это жители Фессалоник, где Павел проповедовал Евангелие. Апостол Павел считается второй величиной в христианстве после Христа. Нам, русским, следует почитать заслуги Апостола Андрея Первозванного и Апостола Павла, так как благодаря их усилиям христианство распространилось по миру и на Руси, то бишь среди наших предков. Примечательный образ, сначала – ревностный гонитель христиан Савл, потом – Апостол Павел.
– А почему Апостолов называют Апостолами?
– Посланники Божьи, то есть посланные проповедовать Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия.
Вдруг в лучах света фар метнулась кошка. Водитель резко нажал на тормоз, но полностью остановиться машина уже не могла, и послышался гулкий удар по днищу.
Он вздрогнул, посмотрел назад – на тёмном асфальте, в слабом отблеске уличного фонаря, металось раненое существо. Довольно равнодушно таксист констатировал:
– Пропала кошечка…
Кошка крутилась волчком, подпрыгивала, судорожно выгибалась в воздухе, падала и, едва коснувшись асфальта, вновь подпрыгивала и крутилась в агонии с непонятно откуда берущейся энергией, крутилась, не переставая. Он был в оцепенении, как под гипнозом, не в силах оторвать взгляда от умирающего животного, не в силах пошевелиться, не в силах вздохнуть. И Он, вероятно, задохнулся бы, но водитель резко отпустил сцепление, и машина так резво рванулась вперёд, что его почти что вдавило в кресло. Гипнотическая нить, связывавшая его с кошкой и сковывавшая его движения, оборвалась. Он закрыл глаза и, опустив голову, зажал уши, но казалось, что всё ещё слышит этот беспомощный плач, напоминающий надрывные всхлипы ребёнка. Сердце предательски сжималось и покалывало, как будто предчувствовало беду. Он никак не мог прийти в себя:
– Может выживет?
– Вряд ли… Хотя, кто его знает, возможно и выживет. Эти кошки… вечно под колеса прыгают! Самоубийцы. Я за свою жизнь столько их передавил…
Только сейчас Он обратил внимание на водителя, человека скорее тучного, нежели полного, с искрой азарта в заплывших маленьких живых глазках и изредка возникающей грубой ухмылкой на выпуклых потрескавшихся губах. Его толстые, короткие пальцы так крепко держали руль, что казалось никогда не разгибались, словно были неотъемлемой частью этого руля; и весь он давно уже врос в автомобиль, слившись с ним в одно целое. И это целое, трансформируясь, создавало реальный образ современного кентавра – автокентавра.
Из салона машины, быстро набравшей скорость, Он наблюдал за жизнью ночного города. Монотонно мелькающие огни рекламы, застывшие пролёты мостов и нескончаемая вереница домов нереально, потусторонне-мистически отражались в стёклах машины, будоража воображение и оживляя фантазию.
Уходящие в темноту пустынные улицы города чудились ему гадкими ядовитыми змеями, расползающимися в разные стороны из-под колёс мчавшегося такси, как из-под плуга мифического героя, извиваясь и злобно шипя; дома – головами гигантских чудищ, разевающих пасти, высовывающих длинные языки и извергающих столбы пламени.
Таксист, видя, что пассажир попался неболтливый, взял нить разговора в свои руки и щебетал без умолку.
– Наша жизнь – цейтнот, как в шахматах, знаешь?.. но не надо самому сбрасывать красный флажок… и даже, если он уже повис – всё равно, не надо! Вот в Китае, в монастыре Шаньлинь, что ли… говорят, что старцы живут до 800 лет. У них теория, что каждому человеку дается полный стакан эликсира жизни, и как донышко покажется – человек умирает. И вот старцы девять десятых этого эликсира выпивают, как все обыкновенные люди, а одну десятую часть, едва закрывающую донышко, удерживают на одном и том же уровне долгие, долгие годы. Вот ты в это веришь? Веришь? Думаешь, что мистика? А тем не менее это – факт, и я в него верю.
– Мы часто за факты принимаем информацию, вырванную из газет или услышанную по центральному ящику, а то что происходит с нами и с нашими ближними считаем выдумкой. Абсурд! Мне интересней разглядывать себя в зеркало, интересней изучать свой прыщик, чем разглядывать и обсуждать гнойник соседа.
– Да нет! Какие газеты, какое телевидение. Это я подвозил одного китайца, а может он и не китаец, но рассказывал убедительно, что по 800 лет живут!
– Так что же они не живут дольше восьмисот? – рассеяно заметил Он.
– Что, что, что?
– Почему дольше восьмисот лет не живут?
– Ну… наступает момент, когда старец говорит, что… себе говорит, что он готов к смерти – и выпивает оставшуюся часть.
– Ну так, а почему больше восьмисот лет-то не живут?
– Так ведь это же не важно – больше, меньше… Главное другое – идея!
– Какая идея… идея самоубийства?
– Ну, самоубийство, не самоубийство, а ты попробуй-ка восемьсот лет-то проживи, а! Попробуй!
– Так ведь скучно. (После паузы.) Самоубийство от скуки… хм…
Разговаривая с таксистом, Он мысленно рисовал его портрет, расщепляя, трансформируя и преломляя в различных плоскостях возникший образ автокентавра, стремясь добиться наибольшего психологического сходства.
– Ну, если все восемьсот лет баранку крутить, то может и полезешь в петлю, но только не от скуки – здесь скучать не дают. Вот прямо перед тобой типчика одного вёз, так он полдороги смирно сидел – перебрал малёк, и вдруг, когда проезжали около Исаакия, взъерепенился и стал кричать, что Христос – это первый самоубийца. Я, конечно, вступился за Боженьку, а тот на попятную, да так струхнул, что значок свой подарил, вот этот.
Он посмотрел на грудь таксиста и перекрестился: большая сионистская звезда висела у него на груди.
– Ничего. Даже Апостол Павел не сразу стал Апостолом.
– Как, как?..
Поливальная машина, поравнявшись с такси, обдала сильным потоком горячей воды. Хлынул дождь.
В мастерской художника Она внимательно разглядывала его картины, держа в одной руке опасную бритву, в задумчивости машинально то раскрывая, то убирая лезвие, а в другой – стакан с водой.
Рассмотрев картину «Трансформация в Автокентавра», Она выплеснула прямо в Автокентавра остатки воды из стакана и перевела взгляд на незаконченное живописное полотно на сюжет Евангелия.
Вся композиция планово и по содержанию разбивалась на три части; в первой – наш современник, попав в старинный храм, стоял в оцепенении, поражённый величественностью и красотой собора; во второй – его взор упирался в плафон-фреску, расписанный несколько веков назад неизвестным мастером. Трещины, расползавшиеся по всей фреске и разрушающие её, воздействовали на смотрящего почти физически, усиливая то впечатление, которое производила третья, основная часть композиции, раскрывающая земной подвиг и страдания Христа в том виде, как это было явлено будущему Апостолу Павлу.
В основу фрески лёг сюжет из Евангелия, запечатлевший момент Обращения Апостола Павла. Момент ослепления, когда ему ниспослано было увидеть внутренним взором и пережить сердцем своим и душой всю боль и страдания Христа на земле, чтобы он очистился, прозрел и исполнился Святаго Духа…
Каждая деталь, на которой Она задерживала взгляд, заставляла сопереживать, наполняла её сердце неизмеримой печалью и непомерным страданием:
плеть, застывшая в воздухе над телом Христа,
терновый венок,
капли крови, спадающие по светлому лику Спасителя,
и ЕГО взгляд – спокойный, любящий, кроткий – исполняющий ослеплённого Павла святым Апостольским подвигом.
Вдруг она явно услышала Глас:
– Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Ей показалось, что фигуры, изображённые на холсте, начали оживать, обретая плоть, несмотря на то, что некоторые из них ещё не были полностью дописаны. И в этом было что-то мистически притягательное, роковое…
Такси мчалось по ночному городу.
– И в один знаменательный для всех христиан день произошло чудо. На пути следования Павла в Дамаск, куда он был послан истреблять учеников Господа, внезапно осиял его свет с неба; он упал на землю и услышал Глас, говорящий ему: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» И тотчас Павел ослеп. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. И в эти три дня видения Страстей Господних прошли пред ним, и Господь избрал его пострадать за имя Своё. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и исполнился Святаго Духа.
– А кто такой Савл? – в очередной раз переспросил таксист.
– Это имя Павла до обращения, – напомнил художник.
Неожиданно раздался резкий звонок, и из темноты, прямо перед ними, вынырнул залитый иллюминацией трамвай и, полностью перегородив им дорогу, остановился.
Разом в трамвае открылись все окна и двери, и пассажиры с невообразимым шумом и гиканьем высыпали на мостовую. Он уже видел раньше этих странных людей, одетых в не менее странные одежды. Они перешёптывались между собой, а взглядами и жестами показывали в его сторону и медленно приближались, неотвратимо и угрожающе, как смерч в степи. Он перелез на водительское место, которое почему-то оказалось свободным, что его совсем и не удивило, включил заднюю передачу и хотел было поехать назад, как заметил, что и позади машины поперёк дороги стоит трамвай, из которого высыпают на улицу чудно одетые пассажиры. Всё тот же трамвай, странным образом оказавшийся позади, казалось был и справа, и слева от него, как будто кто-то, желая потешиться над ним, окружил его зеркалами, создав иллюзию замкнутого пространства.
Искажённые злобой, изъеденные чудовищными страстями ехидные рожи со всех сторон медленно приближались к машине.
Он вгляделся в лица тех, которые были совсем рядом. Они как будто даже и не замечали его, и продолжали гудеть, словно обезумевшая толпа фанатов на стадионе, ждущая зрелища, как наркоман очередной дозы дурманящего зелья.
Гнусавый юноша с кривыми гнилыми зубами, с фурункулами на лице, суетливо бегающий от одной группы людей к другой, кричал срывающимся фальцетом:
– Смотрите, смотрите на своего Бога! Бога – самоубийцу, – и вдруг, подбежав вплотную к машине, прошептал прямо в салон. – Ведь если это – Бог, то ОН наверно знал, что ЕГО казнят! Знал, знал наверно! Знал, да ничего не предпринял, чтобы предотвратить казнь. Значит не хотел предотвращать, сознательно шёл на своё убийство! Так и получается, что сам ОН пошёл на своё убийство, значит сам ОН – самоубийца. Вот так-то…
На месте уличных фонарей возникли столбы, увенчанные колёсами после мучительной казни колесованьем, с останками человеческих тел, покрытых стаями воронов. Некоторые взбирались на эти столбы, чтобы лучше видеть происходящее на Лобном месте, окружённом плотным кольцом людей, алчущих крови и зрелища, обезумевших, утративших свой человеческий облик.
Ему же всё было очень хорошо видно и отсюда: машина стояла прямо в эпицентре событий, напротив Лобного места.
Гул толпы перекрывали размеренные, хлёсткие удары плети…
Плеть полосовала тело Христа…
Тщась остановить экзекуцию, он рванулся из машины, но дьявольская сила управляющая толпой, бросила людской поток к бортам машины, не давая даже приоткрыть дверь. Попробовал опустить стекло – ручка осталась у него в руках.
Плеть полосовала тело Христа…
Он вспоминал Евангелие и шептал, как молитву, отрывки из святого писания:
– И били Его по голове тростью, и плевали на Него и, становясь на колени, кланялись Ему.
Толпа, нёсшая крест, окружила машину. Влезли на капот, ходили по крыше. Гулкие удары раздавались сверху. С каждым ударом крыша заметно прогибалась и, наконец, прорвалась под тяжестью креста, который, проломив руль, воткнулся перед ним. В кровь обдираясь об осколки, Он вырвался наружу сквозь разлетевшееся лобовое стекло, устремился к плети, жаждая заслонить собою Христа, но не добежал, оступился, упал, уткнувшись лицом в землю. С трудом приподнялся и прокричал что есть силы:
– Очнитесь, люди, что вы делаете! Он жизнь вам дал!.. примите Его! примите Его… Остановитесь!..
С неба сошло ослепительное сияние… Всё замерло…