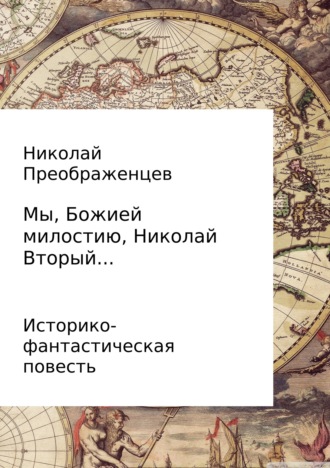 полная версия
полная версияМы, Божией милостию, Николай Вторый…
Число осуждённых по политическим статьям точно не указывалось, но было видно, что общее их количество было незначительным. Однако, министерство ходатайствовало об сокращении содержания политических ссыльных с 12 до 8 рублей в месяц, поскольку многие из них «ведут за счёт этих денег праздный образ жизни, пьянствуют и разлагающе действуют на местное население». Сообщалось также о драках между различными партиями ссыльных, последовавших за диспутами на политические темы. Крестьянские бунты и рабочие волнения были, как я понял, в последние годы редкостью. В то же время доклад отмечал умелые и решительные действия Херсонского, а затем Харьковского губернатора князя Оболенского, который путём широко применения розог и других телесных наказаний сбил волну крестьянских выступлений в этом Новороссийском крае. Порки были прилюдными и «весьма охладили горячие головы бунтующих». – Сначала Голицын на Кавказе, теперь вот Оболенский в Новороссии, – подумал я. – Вспомнилась прославляющая тоску по белому движению песня, которую мы часто пели под гитару. А ведь эти вымышленные корнет и поручик, которые должны были «не падать духом и надеть ордена», могли быть в реальности сыновьями этих губернаторов и наместников. Не пришлось ли им «над Доном угрюмым» расплачиваться за то, что натворили их родители? – В горле у меня запершило, со дна желудка поднялось нечто горячее и жгучее. – Может быть я ем сейчас не то, к чему я привык? Да при чём здесь привычки, когда и тело-то моё стало совсем другим.
Я закрыл доклад и отложил его в сторону. Мне захотелось прочесть что-нибудь коротенькое, и из стопки бумаг я выудил довольно тонкую, страниц на 15 записку посла в Константинополе Нелидова. Записка была посвящена – я не поверил своим глазам – проекту захвата Северного Босфора у Турции. Нелидов красочно описывал нестабильное состояние современной Турции, деспотическую власть султана, боящегося, как огня, либо военного переворота, либо народного восстания. Нелидов призывал воспользоваться сложившейся ситуацией и под предлогом то ли защиты армян от погромов, то ли помощи султану в борьбе с оппозицией, быстро захватить Босфор и Константинополь силами черноморского флота и 35-тысячного десанта. При этом Нелидов утверждал, что проект полностью поддерживают морской министр Чихачёв и начальник генерального штаба Обручев. Военный министр Ванновский П.С. – не тот ли самый Пётр Сергеевич, что едет с нами? - лишь только сомневается, хватит ли транспортных судов для перевозки пехоты и кавалерии. На что Нелидов отвечает, что часть десанта можно будет перевезти на плотах (во как!), поскольку летом вода в Чёрном море тёплая, а погода спокойная. После быстрого захвата Босфора Нелидов предлагал перекрыть пролив тремя рядами морских мин и на южном берегу поставить тяжёлые орудия, которые уже давно лежат в «особом запасе» в Одессе и ждут своего часа. Главным обоснованием срочности всей операции Нелидов указывал то, что английский флот уже подходит к проливу Дарданеллы к югу от Мраморного моря, и что надо, де, во что бы то ни стало англичан опередить. Про мнение министра иностранных дел Лобанова-Ростовского и министра финансов Витте в записке не говорилось ничего. – Ну вот опять, та же идея: маленькая победоносная война… - Я снова снял трубку и через секунду вновь услышал стариковский голос Воронцова-Дашкова. – Иван Илларионович, ещё одна просьба: возьмите у меня, пожалуйста, записку Нелидова и передайте её Витте для ознакомления, и скажите ему пусть соберёт совещание по этому вопросу. – Министр двора уже, видимо привык к своей новой роли и поэтому сказал: Слушаюсь! – более чётко и уверенно.
Дядя Сергей
Уже было около 5-ти часов вечера, но майский день ещё не начал клониться к закату. Я отложил бумаги в сторону, поднялся и стал смотреть в окна вагона. Срединная Россия, плоская и бескрайняя, расстилалась до самого горизонта по обе стороны узкой и прямой нитки железнодорожного полотна. Поля, поля, чуть кудрявые перелески, болота и пустоши… Человеческого жилья почти не было видно. Мне на секунду показалось, что я не в поезде, а в море на маленьком, как каравелла, корабле, и эта земля, как зелёная вода, мягко покачивает и меня, и письменный стол и тиснённый кожаный диван напротив. Но вот уже показались постройки и пакгаузы, и поезд на всём скаку влетел на украшенный цветами, лентами и электрическими лампочками вокзал. Эта была Тверь. Перрон был заполнен народом, по преимуществу женщинами в пышных разноцветных платьях с лентами, кружевами и другими архитектурными излишествами. Дамы были с огромными букетами таких же пышных цветов, они суетились и толкали друг друга широкими полями своих замысловатых шляп. Наконец показались мужчины в чёрных сюртуках или фраках и в таких же чёрных цилиндрах. Аликс пришла ко мне в опочивальню, мы вместе с ней прошли в салон-вагон и помахали толпе из окна. Послышался сначала гул, а потом взрыв восторга. Несколько дам упало в обморок. Мужчины тоже засуетились и потянулись к двери салона. – Депутация дворянского собрания Тверской губернии, – объявил появившийся в дверях Воронцов-Дашков. Депутаты, похожие на чёрных галок с серыми головами столпились в конце салона, и тогда самый седовласый и седоусый из них зачёл торжественный адрес, держа перед собой тяжёлую папку в красно-коричневом переплёте. В адресе были очень правильные слова о всеподданнейшей радости, которая переполняет, и о глубоком народном чувстве, которое возвышает. Затем старец во фраке, несколько узковатом для его массивной фигуры, с глубоким поклоном передал мне папку с адресом. Потом было ещё несколько депутаций: от купечества и промышленников, от мещан и ремесленников и ещё Бог знает от кого. Мы с Аликс почти всё время стояли и держались стойко, мы понимали, что это – генеральная репетиция перед коронационными торжествами. После приёма депутаций полицейские и жандармы в форме и штатском оттеснили толпу немного в сторону, и поезд, вздыхая и словно жалуясь на свою нелёгкую судьбу, тронулся и набрал скорость.
Не прошло и часа, как он вновь остановился на неказистой и совершенно очищенной от народа станции, с кривоватой надписью Клинъ на белом здании вокзала. От небольшой группы военных и штатских отделился высокий и прямой человек в гвардейском мундире и держащая голову вниз прелестная женщина в нежно-голубом, почти белом платье. Погода явно испортилась, начал накрапывать дождь, и двое гвардейских офицеров высоко держали над головами этой пары чёрные зонты до тех пор, пока они не поднялись по откинутой лесенке в двери салона. Великий князь Сергей Александрович и его жена Елизавета Фёдоровна полностью соответствовали описанию Аликс, которое она поведала мне в первый же день нашей встречи. Он – прямой и негнущийся, держащий голову неестественно высоко, что неизбежно создавало впечатление высокомерия и неоправданного превосходства, и она – в невесомом платье из бело-голубых кружев с тонким одухотворённым лицом, живым и печальным одновременно. Несмотря на то, что дядя интересовал меня больше всего, я не мог оторвать взгляда от тёти-кузины Эллы. Нечто завораживающее, прекрасное и трагичное было во всём её облике, казалось, у этой женщины нет тела, а есть только нежная, ранимая и благородная внутренняя сила, которая, как из зазеркалья, сверкала ясным и чистым светом в её глазах. Сёстры (а я не забыл, что Элла – родная старшая сестра Аликс) обнялись и поцеловались. Дядя Сергей подал мне руку и посмотрел на меня сверху вниз, близоруко щурясь. – Да, только лорнета ему не хватает, – подумал я, – или монокля на худой конец. – Мы сели с Сергеем Александровичем на один диван, а сёстры на другой. Аликс моментально отбросила свой холодный и неприступный вид и живо и весело начала что-то рассказывать Элле. Сергей Александрович прочистил горло и покровительственно спросил меня: – Ну что мой любимый племянник, mon cher ami, как ты себя чувствуешь накануне этого великого события? – Говоря по-русски, он сильно и несколько нарочито грассировал, общаясь ко мне не иначе как «любезный дг’уг», и называя свою жену «моё дитя». – Я ответил нечто неопределённое. – А твой ушиб, – он кивнул в сторону моей головы, – тебя не беспокоит? – Нет, нет всё уже прошло, – быстро сказал я и перевёл разговор на тему, которая меня действительно очень интересовала. – А … скажите, ведь после коронации намечаются народные гуляния и раздача подарков на Ходынском поле? – Да, через два дня в субботу, это славная тг’адиция, славная… Так происходит после всех коронаций. Но в этот раз народу ожидается больше, чем после ког’онации твоего батюшки, и подготовлено 400 тысяч подаг’очных кульков(146). Они такие милые, я лично контг’олировал содег’жание. Одна памятная кг’ужка с вашими вензелями чего стоит! Да там ещё сайка от Филиппова, и сладости, и полфунта колбасы, да ещё ситцевый платок от Пг’охог’овской мануфактуг’ы с вашими, твоим и Аликс, портретами. Пг’елестно! Пг’остой наг’од будет в востог’ге! А ещё будет бесплатное угощение пивом и мёдом, и никакой водки, заметь. – Да, это всё очень мило, – продолжал я, – а всё ли там продумано с точки зрения безопасности? – Там по краю поля постг’оены, вг’еменные конечно, и театг’ы, и лавки, и ларьки для г’аздачи гостинцев. Твоё выступление будет на центг’альной эстг’аде, там же поместится и великолепный ог’кестг’, котог’ый сыграет гимн в вашу с Аликс честь. И не беспокойся, ты будешь всё время окг’ужён подобающей охг’аной. – Я не за себя беспокоюсь… всё-таки огромное скопление людей, может быть полмиллиона придёт народу, а может и больше. Как бы не возникло паники, и они бы не подавили друг друга. – А-а-а, ты об этом? – несколько разочаровано протянул дядя Сергей. – Говог’ю тебе: не беспокойся, обег’-полимейстег’ Власовский знает своё дело. И ему для охг’аны Ходынского поля выделено, не помню точно, несколько сотен полицейских чинов. – Что такое несколько сотен против полумиллиона? Всё может случиться, не дай Бог, паника возникнет, побегут и подавят друг друга. – Ну, хорошо увеличим число полицейских. Казаков, может быть, подошлём. Не волнуйся. – Могу ли считать, дорогой дядя, что вы лично отвечаете за порядок и безопасность во время гуляния? – Я не понимаю, о чём ты говог’ишь, Ники? – возмутился дядя Сергей, на секунду потеряв весь свой апломб, – Что это за личная ответственность? Ты что, меня в тюг’ьму посадишь, если не дай Бог, что случится, меня, твоего дядю? И потом этот тон… Что с тобой происходит? Тебя словно подменили, ты как будто с ума стг’онулся после этого твоего Umfall (несчастного случая). – Сергей Александрович раскраснелся, вечная спесь его куда-то улетучилась, и он от волнения заговорил по-немецки. Аликс и Элла прервали свою беседу и удивлённо уставились на нас. – Разреши откланяться, дорогой племянник, – ледяным тоном и держа голову ещё выше, чем обычно, произнёс Московский генерал-губернатор. – Пойдём, дитя моё, – обратился он к своей жене. И они быстро проследовали к двери, ведущей в великокняжеский вагон. – Ники, -озадаченно проговорила Аликс, – я слышала ваш разговор; такого ещё никогда не было. Ты никогда ничего не требовал от Сергея… Я понимаю, он не самый приятный человек на свете, но ты ведь знаешь, что все великие князья неподсудны, и отвечают всегда и за всё их подчинённые…. Ники, Ники, что ты затеял, – и Аликс с сожалением посмотрела на меня.
Калейдоскоп
Время продолжало ускоряться. Оно уже не летело, а неслось вскачь с непостижимой силой и скоростью. Не успел я вернуться в опочивальню и сесть за бумаги, как в окне вагона показались предместья Москвы, ещё более бедные и обшарпанные, чем в Санкт-Петербурге. Поезд сбавил ход, миновал несколько стрелок и развилок и наконец остановился не на Ленинградском (как я думал), а на каком-то другом вокзале. Не понимая толком, где мы находимся, я вышел с Аликс, мамА и многочисленной свитой на перрон и только тут прочитал надпись на здании: Смоленскiй Вокзалъ. – Так это же Белорусский! – догадался я наконец. – А почему сюда? – Спрашивать было некогда и не у кого. К нам подошла целая толпа мужчин в сияющих золотом мундирах и дам в роскошных туалетах. В их лицах было что-то неуловимо одинаковое. – А ведь это всё Романовская семья, – догадался я. – Все эти люди мои родственники. Сколько же их тут 30, 40 или больше? – Начались бесконечные пожимания рук дядям и племянникам и поцелуи тётям и племянницам. Я никого не успел толком запомнить, за исключением уже известного мне любителя балета, который с важностью сообщил мне, что принял на себя командование коронационным «отрядом», состоящим из немыслимого количества пехотных батальонов и казачьих сотен. Под охраной кавалергардов мы вышли на площадь со знакомым мостом, который перегораживала Триумфальная арка, как будто перенесённая с Кутузовского проспекта. Несмотря на поздний час площадь была запружена народом, сдерживаемым тонкой линией полицейских, которые, как и все присутствующие, восторженно смотрели на нас и улыбались, но не кричали. Под мощный гул толпы мы с Аликс и мамА сели в закрытую карету, которая тут же резво тронулась, въехала на мост и покатила по обсаженному липами шоссе прочь из города. Никаких высоких домов на Ленинградском проспекте (или как он тогда назывался?) я не заметил, двухэтажные деревянные дома изредка проглядывали из-за светло-зелёной или чуть желтоватой молодой листвы. Только с правой стороны показалось довольно высокое здание с надписью на крыше Яръ. Дорога была тряской и пыльной, и мы очень обрадовались, когда экипаж въехал в ворота невысокой, почти игрушечной кирпичной крепостной стены с красно-белыми ажурными башенками и наконец остановился у такого же кирпичного, но казавшегося удивительно лёгким, дворцового строения с белыми маленькими колоннами. – Так это же Академия Жуковского, – осенило меня. В этот момент Воронцов-Дашков, оказавшийся здесь раньше нас, провозгласил: – Добро пожаловать в Петровский путевой дворец! – На широком плацу был уже выставлен почётный караул каких-то кавалеристов – то ли уланов, то ли драгунов, кто их там разберёт. Уланы-драгуны громко гаркнули приветствие и над невесомым, похожим на сказочный замок дворцом взвилась стая галок или ворон, казавшихся иссиня-чёрными на фоне вечереющего неба. Мы прошли во дворец и встретились с зарубежными родственниками, из которых я смог запомнить только родного брата Аликс Эрнста-Людвига, которого все называли Эрни, женатого на Виктории-Мелите, которую все называли Дакки, хотя в ее облике и не было ничего утиного. Ужинали вчетвером, без мамА и Михаила, а наутро начались непрерывные приёмы зарубежных монархов, послов и многочисленных депутаций и делегаций. Из всего этого мелькания лиц, мундиров и фраков мне запомнилось только витьеватое приветствие эмира Бухарского и Хана Хивинского – двух верных, но, видимо, не бескорыстных вассалов России, а также приезд Ли Хунчжана во всём великолепии китайской пышности. На второй день ноги у меня уже начали подкашиваться, но вечером удалось присесть, когда прямо в Петровском парке хор из 1200 певцов пел нам с Аликс так называемую торжественную серенаду. Слушая их мощное пение, которое, казалось, можно было услышать не только в самой Москве, но и в Санкт-Петербурге, я напряженно думал о том, есть ли смысл в том, что я затеял. Россия стала мощной державой, которую явно уважали во всём мире. А её народ, хотя по большинству неграмотный и живущий от урожая до урожая, казалось, был вполне удовлетворён своим положением и выражал, практически непрерывно, радость и даже восторг от того, что им будет править новый самодержец. – Зачем тогда это всё – свободы, конституции, парламенты, – думал я, – если и так все довольны? – И с трудом отогнал эти мысли. – Я же знаю, чем всё это кончится. А любовь и ненависть народа переменчива как «ветер мая», а сейчас этот май как раз и есть. Похоже, я хорошо держусь пока, и Аликс и никто другой не делают мне замечаний, что я не так сел или не так встал. – Я посмотрел на свою жену: она сидела с непроницаемым лицом, чуть-чуть улыбаясь уголками губ и глубоко погрузившись свои мысли, которые в отличие от моих были по-видимому не такими уж тягостными. А хор пел всё мощнее и мощнее, звуки обволакивали меня и нашёптывали: всё будет хорошо, всё будет хорошо!
Наутро, 9 мая был торжественный въезд в Москву, обставленный с уже начинающей приедаться пышностью. Я заранее предупредил Воронцова-Дашкова, что в связи с моим болезненным состоянием я не смогу въехать в город, как положено, на белом коне. И бедному министру пришлось вносить срочные коррективы: за жандармами, гвардейцами и кавалергардами, а также личным императорским конвоем из донских казаков, ехала карета со мной и Аликс, далее экипаж Марии Фёдоровны, а уж затем нескончаемая вереница карет с великими князьями, сановниками и иностранцами. Тверская улица, по которой мы проезжали, выглядела провинциальной: узкой и низенькой – я не заметил домов выше 3-х этажей, но все эти дома были красочно украшены цветами, лентами и флагами, фасады – это было заметно – были заново покрашены. – И в этом ничего, как видно, не меняется, – подумал я, – а отойдёшь чуть в сторону, а заглянешь за эти фасады, что там тебе откроется? – В глазах рябило от висящих почти из каждого окна бело-лазорево-алых флагов. По бокам улицы стояли сплошные ряды военных и полицейских, люди выглядывали из-за их спин, кричали и махали цветами нашей карете. Солнце ярко светило прямо нам в глаза, заставляло щурится и прислонять ладони ко лбу. В состоянии эйфории, которую испытывает человек, когда он всем нравится, мы подъехали к тёмно-красным, почти бурым стенам Кремля. Он показался мне ещё более монументальным, чем 100 лет спустя, наверное, из-за того, что вокруг него не было высоких зданий, за исключением белой громады храма Христа-Спасителя. Двуглавые орлы на башнях очень подходили к окружающему пейзажу, состоявшему из белых дворянских и зелёных купеческих домов, брусчатых мостовых и лугов Замоскворечья. Мы подъехали к главному входу в Большой кремлёвский дворец и, войдя внутрь, сразу оказались на парадной лестнице, ведущей на второй этаж. Она выглядела не столь роскошной, чем лестница Зимнего, и тем не менее светло-коричневый мрамор стен и колонн и потолок, уходящий в небеса, производили сильное впечатление. Я потрогал рукой тёплую стену цвета варёной сгущёнки. – Ревельский камень, – услужливо шепнул мне на ухо Воронцов-Дашков. – Да, велика Российская империя, поэтому и камень можно из Ревеля привозить, это ведь где-то в Прибалтике, по-моему. – Я поймал себя на мысли, что, в отличие от Эрмитажа, я ни разу в жизни не был в этом дворце. Ещё бы, резиденция президента, сюда просто так не пускают. Я усмехнулся. С лестницы мы прошли в маленький зальчик. На его светло-зеленых стенах не было ничего, кроме огромной картины, изображающей битву русских витязей с очередными бусурманами. Зальчик показался скромным, но то, что открылось за ним, было настолько грандиозным и впечатляющим, что я еле удержался, чтобы не охнуть: соседний зал с белыми витыми колоннами, мраморными скульптурами и огромными люстрами, казалось, уходил в бесконечность, узорный, натёртый до блеска паркет слепил глаза. Но это было только начало: следующие три зала были сверху до низу отделаны золотом, всё сверкало и сияло, и не давало перевести дух. В убранстве этих залов, как и всего дворца, чувствовалась какая-то эклектика, причудливая смесь европейского великолепия с азиатской пышностью. Было невероятно, что среди низкого и слегка провинциального города могло таится такое богатство.
Я обрадовался, когда нас увели со второго этажа на первый, в заново отремонтированные императорские покои, которые тоже показались мне жилищем азиатского богдыхана. Мы умылись и прилегли отдохнуть, но не прошло и получаса, как праздничная круговерть верноподданнейших приветствий, делегаций, свит, пышных платьев и мундиров, русских и иностранных депутаций вновь закружила нас. Среди всего этого маскарада времени для государственных дел почти не оставалось. Запомнился доклад военного министра Ванновского, представителя старой гвардии «дорогого батюшки». Из его долгой речи я понял лишь одно: хотя русская армия за последние 20 лет не принимала участия ни в одном сражении, за исключением победы над афганскими племенами и их английскими инструкторами под Кушкой в Туркестане, дела в этой армии обстояли в целом не плохо. Ванновский жаловался на неграмотность и дремучесть деревенских призывников, на худобу и истощённость многих из них. По его словам, 40% этих крестьянских парней только в армии пробовали мясо, в первый раз в своей жизни. Об офицерах и унтер-офицерах Ванновский отзывался сдержанно-одобрительно: попивают, конечно, не без того, но службу свою знают, и приходил в необычайное воодушевление, рассказывая о технических новшествах. Особенно он гордился принятой на вооружение два года назад винтовкой конструкции штабс-капитана Мосина и заявил, что дал указания закупить «на пробу» 5 пулемётов Максим, переработанных английской фирмой Виккерс специально под патрон от мосинской винтовки. Степенный и неторопливый, с аккуратной седой бородой и стальными глазами, умно смотревшими на собеседника через стёкла «интеллигентских» очков, генерал Ванновский производил на собеседника впечатление спокойствия и силы. – Пожалуй, его можно оставить пока в министрах, – решил я.
Полицейский Дон Кихот
В эти же дни до коронации, в моём Кремлёвском кабинете, производящем поистине монументальное впечатление своим огромным, тёмного дуба письменным столом и такими же дубовыми панелями на стенах, произошла у меня ещё одна интересная встреча – с недавно назначенным начальником Московского охранного отделения Сергеем Васильевичем Зубатовым, познакомиться с которым мне рекомендовал Секеринский. Когда я спросил о Зубатове у Горемыкина, тот почему-то замялся, и бакенбарды его неуверенно затряслись. – Не простой человек этот Зубатов, Ваше Величество, – осторожно начал престарелый министр. – В молодости он сам был связан с революционэрами. Женился выгодно на владелице московской частной библиотеки, не помню её фамилии, так вот… он из этой библиотеки выдавал этих всяким нигилистам запрещённую литературу. Был арестован, тут-то его бывший начальник московского охранного отделения Бердяев – царство ему небесное, вечный покой, широкой души был человек – и завербовал. – Завербовал? – Именно. Служил Зубатов тайным агентом два года и, кажется, больших успехов добился: многих, многих народовольцев разоблачил. Но те, которых ещё арестовать не успели, Зубатова раскрыли, и пришлось его перевести в Охранное отделение официально. Он там у Бердяева всеми тайными сотрудниками руководил, и немудрено: всю эту провокаторскую работу он знает не понаслышке. – В голосе Горемыкина мне вдруг почудились нотки презрения. – А когда Бердяев на покой собрался уходить, он его, Зубатова на своё место рекомендовал. Ну а Сергей Александрович и утвердил. А сейчас Сергей Васильевич другое дело затеял – тоже, сдаётся мне, очень рискованное – собрался создать меж рабочих то ли трейд унионы, то ли какие-то феррейны. – Это ещё что такое? – А вот он за дверью стоит, он сам вам всё и расскажет. – Ну, хорошо, зовите.
На зов Горемыкина дверь осторожно раскрылась, и в неё вошёл совсем не такой по наружности человек, какого я ожидал увидеть. Сергей Васильевич Зубатов всем своим видом меньше всего походил на провокатора и агента охранки. Одетый в штатское, в сшитый по фигуре и весьма элегантный сюртук с галстуком в клеточку, он был высок, строен и худощав, на его чисто выбритом тонком лице, которое можно было назвать красивым, прочно сидел длинный прямой нос, под ним топорщились небольшие и аккуратные чёрные усы, а карие глаза смотрели прямо: открыто и честно. Ни тебе бегающих масляных глазок, ни потеющих рук, ни суетливых движений – полное разочарование. Говорил он без подобострастия, чётко и складно и вообще своим обликом и манерами напоминал какого-нибудь писателя или учёного, а никак не маститого провокатора. На мою просьбу рассказать о своём плане, он сразу перешёл к сути дела. – Я, Ваше Величество, по долгу службы много общался с революционерами и должен вам сказать, что многие из них, в особенности рабочие, никогда бы и не пошли в революцию, если бы у них была возможность открыто и легально защищать свои права и улаживать свои экономические споры с хозяевами. Вот совсем недавно, с месяц назад мы ликвидировали в Москве социал-демократическую организацию Московский рабочий союз, я беседовал почти со всеми его бывшими членами и многое выяснил. При этом я бы разделил всех арестованных на две категории: идейных интеллигентов-революционеров и простых рабочих. Так вот: интеллигенты, те прекрасно понимали, за что привлечены к ответственности, тогда как рабочие никак не могли взять в толк, в чём состоит их вина. – Мы же просто, – говорили они, – хотели своих товарищей от несправедливости защитить, от увольнений ни за что, от придирок мастеров, от снижения расценок, да и хоть копейку к заработку прибавить – чего ж, мол, в нашем союзе такого плохого, а тем более политического? – Так вот я и говорю: раз нет для таких рабочих легальной возможности объединиться, то и идут такие люди на поводу революционеров всех мастей, которые внушают им, что нет, мол, у них другого пути для улучшения своего положения, кроме как стачки, демонстрации или прямой бунт против правительства. – Да, русский бунт… бессмысленный, – пробормотал я. – И тогда, – не расслышав, продолжал Зубатов, слегка встряхивая своими интеллигентскими кудрями, – мне пришла в голову мысль: а что если дать им такую возможность, организовать нам самим для них профессиональные союзы. Есть же в конце концов в Англии тред-унионы и ничего, живёт себе страна прекрасно, только богатеет. – При слове тред-унионы Горемыкин энергично закивал головой, словно подсказывая мне: Ну что я вам говорил? – А надо вам честно признаться, Ваше Величество, наши русские фабриканты за редкими исключениями – люди очень жадные, за копейку удавятся. Чтобы рабочим лишнего не платить, систему штрафов за малейшую провинность придумали, по поводу и без повода; так эти штрафы на некоторых фабриках достигают до половины от заработка. Да и оставшуюся половину рабочие не знают, когда получат: то ли на Рождество, то ли на Пасху. – А разве хозяева не обязаны платить рабочим хотя бы раз в месяц? – задал я наивный вопрос. – Нет, не обязаны, нет такого закона. У нас в России вообще трудового законодательства нет, как такового. Вот есть указание от правительства ограничить рабочий день 12-тью часами, так это рекомендация, а не обязательство, и на многих фабриках работают по 14, а то и по 16 часов. А некоторые хозяева вообще своим рабочим не платят. – Как это? – А так: на счёт записывают и заставляют покупать товары в своих лавках, а там цены в три раза выше, чем в городе. Заканчивается сезон, и хозяин говорит рабочему: – Так… за проживание у меня в бараке я с тебя вычел, за продукты вычел, за одёжу тоже, штрафы за нерадивость опять же, и знаешь, что я тебе скажу, дружок, ты мне ещё и должен остался. – Вы прямо какие-то социалистические речи тут держите, – не выдержал Горемыкин, и его бакенбарды осуждающе затряслись. – Я правду говорю, то, что есть на самом деле. – Зубатов и самом деле держался несколько вызывающе и говорил без всякого пиетета, без страха и сомнений. – Просто Дон Кихот из полицейского управления, – подумал я. А Зубатов вновь обратился ко мне: – Государь, количество фабрично-заводских у нас в России удваивается каждые 10 лет, не успеем мы опомниться, и они превратятся в такую мощную силу, с которой очень будет трудно справиться, даже с помощью казаков и нагаек. Поэтому, пока не поздно надо их энергию, их недовольство направить в надлежащее русло. Пусть они, рабочие с одной стороны, а хозяева с другой, научатся договариваться друг с другом, а государство в лице полицейского управления, кого же ещё, будет над ними судьёй и арбитром. – Горемыкин начал глухо бурчать, как давно потухший вулкан, из которого вот-вот должна извергнуться лава. Я упреждающе поднял руку: – Много вы сегодня наговорили, Сергей Васильевич, э-э-э интересного. Всё это надо обдумать и обсудить. Прошу вас в короткие сроки подготовить докладную записку со своим предложениями, и мы на Госсовете обсудим. – Зубатов, весьма польщённый, поклонился и чуть ли не крыльях вылетел за дверь. Горемыкин в то же время продолжал неодобрительно качать головой. – Я чувствую, Иван Логгинович, – решил я подтроллить старого министра, – что все эти идеи Зубатова вам не по душе. – Да уж, – ответил министр, промакивая пот на лбу большим узорчатым платком, – совсем не по душе. Завиральные идеи эти, скажу вам прямо Ваше Величество, Бог знают куда нас могут завести. Никогда в России такого не было, чтобы хозяева и работники на равных в переговоры вступали. Хозяин есть хозяин, он царь и Бог для своих работников. Они его слушаться должны, а не разговоры разговаривать, а тем более бунтовать. А эти мастеровые… пролетариат, так называемый… они действительно опасные люди, дашь им палец – откусят всю руку. Нет, спуску им давать нельзя, никак нельзя. – И, продолжая качать головой, старый и верный служака вышел наконец из моего кабинета.

