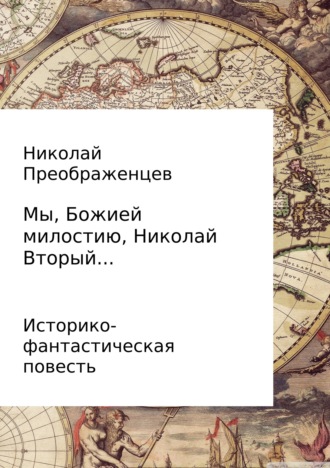 полная версия
полная версияМы, Божией милостию, Николай Вторый…
Выступавший первым министр иностранных дел Лобанов-Ростовский выглядел гораздо старше, чем я предполагал. – Да ему лет 70, а то и больше. Посмотреть вокруг, так половина всех этих вельмож старики, а другая половина – глубокие старики. Геронтология какая-то. – Один из этих старцев выглядел не так, как другие: его абсолютно гладкий мундир без эполетов и прочей золотой мишуры был застёгнут на все пуговицы вплоть до подбородка, так что казалось, что у человека нет шеи, на груди висел лишь один металлический крест на голубой подвязке. Человек сидел абсолютно спокойно, скрестив костлявые пальцы рук и, ни на кого не обращая внимания, смотрел прямо перед собой вдаль, в вечность. – Вот это тип! – подумал я, – похож на летучую мышь, которая перевернулась и села вверх головой, спрятав за спиной свои перепонки. – А Лобанов-Ростовский между тем продолжал вещать витьеватым слогом о прелестях русско-французской дружбы. Из его красочных фраз я понял, что осенний визит во Францию – дело решённое, и что во время него состоится закладка уникального однопролётного моста через Сену, который будет назван в честь Александра III, а в ответ французы – может быть – построят постоянный Троицкий мост через Неву. С Запада министр переместился на Восток и обрадовал всех присутствующих, что оба договора – с Китаем о строительстве Маньчжурской дороги и сдерживании Японии, и с Японией о совместных действиях в Корее и сдерживании Китая – уже согласованы и готовы к подписанию. Услышав имя Ли Хунчжан, я посмотрел на Витте, который сидел тут же, рядом. Витте заёрзал в кресле и, как мне показалось, даже слегка покраснел. – А уж не в доле ли он с этим китайцем, – осенило меня. – Сколько из этого полумиллиона, откатит китаёза назад кому надо? Нет, не может быть, Мария Фёдоровна же сказал, что Витте – честный человек. Может, просто это ему не приятно – отдавать такие деньги неизвестно кому и неизвестно за что? Могу ли я вообще понять этих людей, которые меня теперь окружают?
Перешли ко второму вопросу. Наместник в Финляндии произносил свою речь с сильным финским акцентом, напоминающим анекдоты про горячих эстонских парней и про черепашек, которые «так и мельтешат» перед глазами. Из его доклада выходило, что в Гельсингфорсе всё спокойно, и единственно чего не хватает Финляндии, так это собственной валюты. Зал встретил его речь с заметным неодобрением, старцы начали о чём-то активно переговариваться, и председательствующему пришлось даже позвонить в колокольчик. Он кивнул Плеве, тот поднялся и начал говорить горячо и довольно бестолково о земствах, которые много себе позволяют. – В Воронеже, – поднял палец вверх полу-русский, полу-немецкий Государственный секретарь, – потребовалось распустить всё земское собрание, чтобы прекратить самоуправства. – Да, насолили они тамошнему губернатору, – произнёс дядя Михаил почти шёпотом, но я всё равно его услышал. Брат же Михаил во время всех докладов не произнёс ни единого слова, он рассматривал лепнину на потолке и явно скучал. Плеве закончил своё выступление обещанием представить на высочайшее имя предложения по дальнейшему упорядочению земских прав и обязанностей. Я милостиво кивнул головою, и заседание закончилось.
Как только я встал, ко мне со всех сторон не подошли, а прямо-таки сбежались все или почти все присутствующие. Вся эта тёмно-синяя толпа с золотыми орденами и лентами, проявив неожиданное проворство, повскакала со своих мест и окружила меня плотным кольцом. Передо мной выстроился ряд блестящих лысин, седых шевелюр и не менее седых бород и усов. Слышались пожелания здоровья и скорейшего выздоровления. – Благодарю вас, господа, – сказал я негромко и беспомощно оглянулся. Вся эта череда блестящих, как будто отлакированных старцев опять стала кружиться у меня перед глазами. На помощь мне неожиданно пришёл Витте. Он взял меня под локоть и с присущей ему стремительностью отвёл в сторону. – Я вижу вам значительно лучше государь, – сказал он, склоняясь к моему уху. – Не совсем ещё, – сказал я из предосторожности. – Вы выглядите… – он сделал небольшую паузу, – как обычно, и я рад. Мы с вами совсем коротко переговорили вчера, но есть много безотлагательных дел, которые надобно обсудить. Я знаю, что день у вас сегодня занят. Но дозвольте завтра к вам приехать? Я понимаю, воскресенье – но, может быть, после службы? – Да, да, приезжайте. – Весьма благодарен. Да… сейчас у вас обед с Победоносцевым в Зимнем. Хотелось бы вас предостеречь: опять он начнёт свои идеи развивать о закрытии всего и вся. Очень большая просьба, государь, прежде чем одобрять его прожекты, посоветуйтесь со мной. – Ах вот она в чём причина твоей торопливости, – подумал я. – Хорошо, Сергей… э-э Юльевич. У меня тоже к вам небольшое дело. Вчера у меня был, начальник охранки, то есть Охранного отделения Секеринский. – А-а-а, этот, – протянул Витте довольно презрительно. – И сказал, что в Москве при коронации готовится покушение. Я понимаю, что коронацию отменить невозможно, и всё же. Соберите соответствующих министров, Горемыкина там, ещё кого-нибудь – сами решите – и обсудите, насколько всё это серьёзно. – Слушаюсь, – Витте склонил голову. – Да, и… проводите меня.
Увидя, что Витте уверенно ведёт меня по коридору, Плеве и все остальные как-то поотстали. Я уже привычно сел в экипаж, который быстро покатил в сторону Невы. Площадь перед Зимним дворцом открылась внезапно и мощно, во всём своём великолепии. Меня поразило, что она выглядела совершенно такой же, как на туристических открытках сто с лишним лет спустя. Гранитный столп с ангелом наверху всё так же твёрдо стоял в центре огромного пространства, зелёный барочный фасад Зимнего дворца с белыми колоннами обрамлял её слева и терялся вдали, а справа по-прежнему закрывало перспективу здание Генерального штаба с высокой аркой, перегороженной ажурной решёткой с двуглавым орлом посередине. – Когда же это будут лезть на неё революционные матросы? – прикинул я, – да всего-то лет через 20. – Если не считать нескольких фигур то ли гвардейцев, то ли городовых по углам, площадь была совершенно пуста. Мы въехали через дворцовые ворота во двор и остановились у большого, видимо, парадного крыльца. Я был в Эрмитаже несколько раз, всё казалось очень знакомым, именно отсюда мы, туристы и входили во дворец, отстояв здесь, в этом дворике огромную очередь. Уродливое кафе-стекляшка справа конечно отсутствовала, и от этого я почувствовал даже странное облегчение. Меня встретил молодой, лет 30-ти, офицер явно кавказской наружности и, вытянувшись в струнку, взял под козырёк. – Вольно, вольно, – сказал я милостиво и пожал ему руку. – Ратиев, Иван Дмитриевич, комендант, – отрекомендовался он приятным высоким голосом без какого-либо акцента. – Откуда будете? – Из Орловской губернии, – с достоинством ответил он и, увидя мой удивлённый взгляд, добавил: – Мои предки князья Ратишвили. – Ратиев-Ратишвили повёл меня к парадной беломраморной лестнице, и мы то ли поднялись, то ли невесомо взлетели по ней на второй этаж среди сияния огромных зеркал и золотых канделябров.
Обед с Победоносцевым
Из окон второго этажа открылась панорама Невы с множеством лодок и пароходиков, дымивших невысокими трубами, и далёким силуэтом Петропавловки в лёгкой дымке майского погожего дня. Из большой залы мы свернули налево и оказались в небольшой по масштабам дворца комнате с белыми стенами. На них висели громадные вытканные картины, – как они там называются, гобелены что ли – или нет, шпалеры, вот! – со сценами охоты и изящными дамами, родом явно не из 19-го века. В центре был белый стол, уже сервированный к обеду, в углу и у стены – два лёгких буфета с хрустальными бокалами, и такая же хрустальная люстра свешивалась с потолка. У выходившего во внутренний дворик окна стоял совершенно лысый человек в гладком, тёмно-синем и, как мне показалось, слишком длинном мундире. Он повернулся ко мне лицом, и я сразу узнал старца-бэтмена, которого я видел на заседании Госсовета. Победоносцев, а это был именно он, тщательно застёгнутый на все пуговицы, слегка и безо всякого подобострастия поклонился и что-то пробормотал. Я не расслышал и решил не переспрашивать. Сели за стол, и неслышные лакеи стали накладывать нам на тарелки какие-то непонятные закуски и наливать напитки в хрустальные бокалы. – Спасибо, что нашли время встретиться со мной, государь, – начал Победоносцев очень тихим голосом. – Вы не могли бы говорить чуть погромче, Константин Петрович, – вспомнил я его имя-отчество и опять обрадовался, – я знаете ли недавно ушибся… очень сильно… головой… и теперь плохо слышу. Да и память ко мне по-прежнему не вернулась. – Я в курсе, – ответил Победоносцев без малейшего пиетета и пробормотал полагающиеся слова о скорейшем выздоровлении. – Я, государь, пользуясь случаем, – сказал он вдруг ясно и чётко, – хотел бы предложить вашему вниманию свою книгу, только что вышла из печати. Назвал я её Московский сборник, итог всей жизни, так сказать. – Бесшумный лакей внёс на подносе довольно объёмистый том в красном переплёте. – С моей личной надписью и посвящением вам, дорогой мой ученик. – Победоносцев вскинул глаза на лакея, и тот поднёс книгу к мои глазам. – Привык командовать, – подумал я. На второй странице наискось было написано ужасным почерком целое послание. Я вежливо кивнул в знак благодарности, и фолиант тотчас исчез. – А поскольку вам, как я знаю, читать сейчас будет недосуг, – продолжал бэтмен, – позвольте изложить вам некоторые основные положения. – Да, прошу вас, – сказал я и принялся за еду. – Может, это и невежливо, – подумал я, – но есть хочется смертельно. – Победоносцев говорил негромким, но твёрдым и размеренным голосом, оттеняя интонациями главные мысли и делая несколько картинные паузы. Так повествует, наверное, старый профессор о предмете, который он знает досконально, будучи в полной уверенности, что никто лучше него знать этот предмет явно не может. Он говорил цельными фразами, словно цитируя самого себя, округло и правильно без слов-паразитов, но с каким-то стародавним акцентом, произнося вместо «што» – «что» и ставя иногда ударения в неожиданных местах. Осторожно посасывая из ложки необычайно вкусный суп, похожий на итальянский минестроне, я продолжал разглядывать главного идеолога Российской империи. Проповедуя, Победоносцев сидел совершенно неподвижно и почти ничего не ел. Время от времени он скрещивал пальцы рук перед собой (видимо, любимая его поза) и тогда становились видны красно-золотые манжеты, которые, казалось, выезжали из рукавов его совершенно гладкого синего мундира. – Не с него ли писал Чехов своего человека в футляре, - подумал я. – Нет, тот был слишком мелок и трусоват, а этот – мыслитель. Ишь, как заливается. Кого же мне он напоминает? Каренина, вот! Мужа Анны, как его там звали? Так он, должно быть, и выглядел по замыслу Толстого. – Глаза Победоносцева ничего не выражали, он смотрел не на собеседника, а вглубь себя. На лице полностью отсутствовала мимика, оно словно окаменело. Его худой овал обрамляли непропорционально огромные уши, что еще больше усиливало сходство с летучей мышью или нетопырем. – Хватит его разглядывать, – приказал я себе, – надо в конце концов понять, что он хочет сказать. – И я поспешил вникнуть в его правильную и красивую речь, как будто включив телевизор и оказавшись прямо в середине выступления популярного телеведущего.
– Поэтому я и утверждаю, – размеренно говорил Победоносцев, – что парламентаризм – величайшая ложь нашего времени. Посмотрите на этих кривляк из австрийского парламента – разве можно доверить таким управление страной? И потом – они же временщики, их избирают на четыре, может быть, на пять лет, и главная их цель – урвать что-либо для себя, да побольше, и прославиться. – Почему же так происходит? – решил я вставить слово. – Да оттого, государь, что при выборах всегда побеждают не умные, честные и порядочные, а самые пронырливые и нахальные. Порядочному человеку стыдно и неловко расхваливать себя, он познаётся в делах, а не в словах. И у прозорливого и мудрого государя всегда достанет времени и терпения, чтобы выбрать истинно лучших и честных, и доверить им дела государственные. – Да, именно такие, лучшие из лучших и угощают всех коньячком во время заседаний, – устало подумал я. – Да и что такое демократия, – продолжал постаревший Каренин, – как не торжество большинства над меньшинством, тогда как самые разумные идеи и начинания всегда, во все века исходили из просветлённого меньшинства. Там, где парламентская машина издавна действует, ослабевает вера в неё; ещё славит ее либеральная интеллигенция, но народ стонет под игом этой машины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождёмся мы, но дети наши и внуки несомненно дождутся свержения этого идола, которому наши либералы продолжают еще в самообольщении поклоняться. А взять нашу печать или свободную прессу – какое право имеют они называть себя общественным мнением? Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав чужие деньги, основать любую газету, привлечь туда какие угодно таланты, и они для него напишут, что угодно. Да мало ли было легкомысленных и бессовестных журналистов, по милости которых подготовлялись революции, закипало раздражение до ненависти между сословиями и народами, переходившее в опустошительную войну? Иной монарх за действия этого рода потерял бы престол свой; министр подвергся бы позору, уголовному преследованию и суду; но журналист выходит сухим из воды, выходит, улыбаясь, и бодро принимается снова за свою разрушительную работу. – Мрачную картину вы рисуете, Константин Петрович. – Да уж какая есть. А всё идёт от заложенной в русском человеке неуёмной жажды преобразований. Вот есть что-то в стране хорошее, работает прекрасно, так нет: надо это изменить под соусом улучшения. А лучшее, государь, оно всегда враг хорошего. – Так в чём же выход тогда? – В постепенности и стабильности, государь. В единстве самодержавия, православия и народности. Это Уваровым было правильно сказано. Я тоже был либералом в юности, а кто им не был? Писал памфлеты, а Герцен их печатал в Колоколе. Но ведь излечился же я от этой заразы! Просвещение нужно, но только терпеливое и постепенное. А не так, как сейчас – насадят в школы невежд и те проповедуют детям всякую ерунду вроде учения этого.. Дарвина. Нужен большой духовный авторитет для общества, каковым был любезный друг мой Фёдор Михайлович. – Достоевский, – пробормотал я. – А вот нет его, – продолжал Победоносцев, – и некому сказать молодёжи об опасности революционных мечтаний. Поверьте, Ваше Величество, если произойдёт революция в России, то все ужасы французской смуты покажутся детскими игрушками. Мир содрогнётся. – Говоря всё это, Победоносцев продолжал сидеть совершенно спокойно, упираясь в тарелку скрещенными костлявыми пальцами. – Я также подготовил вам, государь, предложения по усилению роли и укреплению престижа православия, ибо только верой можно скрепить наше распадающееся общество. – Что же присылайте, я почитаю. – Победоносцев встал, так ничего и не съев и не выпив. – Необходимы срочные меры государь, – сказал он уже в дверях и удалился. Из раскрытой двери пахнуло свежим ветром, и я расстегнул верхнюю пуговицу. В дверях уже стоял потомок грузинских князей. – Позвольте проводить вас в апартаменты, государь. – И я последовал за ним.
Зимний дворец
Малая столовая, в которой мы разговаривали с Победоносцевым, показалась мне удивительно знакомой. Да, точно, именно ее показывал нам гид во время прогулки галопом по Эрмитажу. Что в ней было, что же в ней такого случилось? Так и не ответив себе на этот вопрос, я вышел за комендантом ещё в одну белую, но только огромную столовую с колоннами, потом мы повернули направо в не менее внушительную круглую комнату с куполом и окном наверху, и, не успел я рассмотреть портреты императоров на стенах, опять свернули направо в отделанную деревом в готическом стиле двухэтажную библиотеку с огромным камином. – Супруга ваша телефонировала и просила передать, что плохо себя чувствует и в театр приехать не сможет. – Спасибо, князь. – При этих словах Ратиев-Ратишвили сильно сконфузился и даже слегка покраснел. – Побудете здесь, или проводить вас в кабинет? – спросил он. – Давайте присядем, – предложил я. – Если вы не торопитесь. – Грузинский потомок опять слегка покраснел. Мы уселись за большой резной стол в центре библиотеки. – Мы с вами раньше вот так разговаривали? – спросил я. – Нет, никогда, – ответил совсем уже стушевавшийся князь. – Ну вот и хорошо. До начала спектакля ещё времени много, побеседуем. Вы ведь наслышаны, что со мной произошло третьего дня? – Никак нет. – Я сильно ударился головой и потерял память… на время. Расскажите мне о дворце. – Не знаю, что и рассказывать… Ремонт ваших апартаментов: и ваших комнат, и покоев государыни – недавно закончен. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна принимала в оформлении живейшее участие. Сначала хотели сделать две спальни, но государыня настояла, чтобы была одна, общая. – А вам нравятся новые интерьеры? – Мне? Очень! – казалось, комендант расслабился и совсем успокоился. – Стиль модерн, такая новизна. Но всем такие нововведения по вкусу. И матушка ваша, осмелюсь сказать, не очень одобрила. Предпочла в Гатчине остаться. Вы ведь зимой переехали, а две недели назад опять решили отбыть в Царское село, на свежий воздух, как вы сказали. Тем более, что государыня была в отъезде. – Понятно, – сказал я, потому что действительно понял, насколько непростыми были отношения между свекровью и невесткой. – А что сегодня дают в Мариинском? – Спящую красавицу, ваше любимое представление. – Музыка Чайковского, постановка Петипа, – совершенно автоматически проговорил я. – И в главной партии, принцессы Авроры – Кшесинская 2-ая, – подхватил комендант и тут же пресёкся, сильно сконфузившись. – Почему вторая, – подумал я, – надо бы узнать.
В эту секунду в открытую дверь библиотеки как всегда стремительно ворвался вихрь под названием Витте. Комендант сразу всё понял, щёлкнул каблуками и затворил за собой дверь. – Ваше Величество, – Витте тотчас же опустился на место ушедшего, – я провёл совещание по телефонному аппарату с Сергей Александровичем и Иваном Логгиновичем, они оба в Москве. С той стороны присутствовал Зубатов, Сергей Васильевич… – Начальник Московского охранного отделения, я помню, – вставил я удовлетворённо. – Да, и с моей стороны присутствовал господин Добржинский, начальник департамента полиции. Мы обсудили сведения о подготовке террористических актов во время коронации. – И? – продолжил я. – Витте взял паузу и откашлялся. – У меня сложилось впечатление, – продолжал он осторожно, – что, как бы это сказать… что сведения получены из не совсем надёжных источников. Когда я стал допытываться, кто конкретно и что конкретно про сие сообщил, ответы господ полицейских были очень уклончивы. Я вообще рискну предположить, что этой, с позволения сказать, информации, возможно, вообще не существует. – Как так? – Видите ли, Ваше Величество, органы защиты правопорядка занимают в нашем государственном устройстве положение весьма… особенное. Всё сконцентрировано у нас в одном месте – в Министерстве внутренних дел, а точнее в Департаменте полиции, которому подчиняются и охранные отделения в двух столицах. Есть ещё военная контрразведка, но она не в счёт, эти иностранных шпионов должны ловить. А за внутренних смутьянов отвечает Горемыкинское министерство, и никто больше. И где эти смутьяны, что они там затевают и есть ли они вообще – только им и известно. Я вам больше скажу: Иван Логгинович мне как-то признавался, что у них есть план внедрить в круги революционэров своих людей и контролировать процесс изнутри. То есть наши люди будут одной рукой готовить террористические акты, а другой – их же разоблачать. Опасная игра, на мой взгляд. Можно играть, играть, да и заиграться. – Да неужели эти… органы никто не контролирует? – Витте посмотрел на меня, как будто я спросил о чём-то неприличном: – Вот вы, Ваше Величество и контролируете. Так уж повелось, а ваш батюшка их вот где держал, – и Витте показал свой жилистый кулак. – Хорошо, а если создать альтернативные службы, чтобы они друг за другом следили и сами себя контролировали? – Отличная мысль, государь, – подтвердил Витте, и на губах его мелькнула тонкая усмешка. Я сделал вид, что ничего не заметил: – Вы, кажется ко мне собирались в воскресенье прийти, после обеда. Вот тогда и обсудим. – Слушаю, государь. – Витте весь подобрался, даже как-то нахохлился, как большая и сильная птица, и выпорхнул вон из библиотеки. Поднятый им ветер донёс до меня запах его, несомненно дорогого и французского, одеколона.
Наконец-то появилось время осмотреться, библиотека действительно производила внушительное впечатление: оба её этажа были заставлены книгами на как минимум трёх европейских языках, виднелись и латинские книги и древнегреческие фолианты. – Неужели всё это можно прочесть? Даже найти то, что нужно, и то – проблема. – Я поймал себя на мысли, что в присутствии Витте я смотрел только на него и никуда более, его серые глаза словно притягивали собеседника и не отпускали ни на минуту. – Несомненно выдающаяся личность, – подумал я. – Как там матушка-императрица говорила: способный человек? Матушка? Или я окончательно сошёл с ума или окончательно вошёл в свою новую роль. Мне опять вспомнилась моя мама, как она любила сидеть и читать в глубоком кресле, а когда я приходил домой она вскидывала на меня глаза, которые светились неподдельной радостью. И любовью. А здесь я один, я никому, даже своей жене не могу раскрыться до конца. Что же мне так и жить всю жизнь, как Штирлицу? – Мои невесёлые раздумья прервал князь или не совсем князь Ратиев. – Дозвольте проводить в ваши апартаменты, господин Чемодуров уже ждёт вас. – Мы вновь пошли по бесконечным коридорам. Мимоходом проскочили приёмную и кабинет, обставленные добротной мебелью, словно перенесённой сюда из романов Диккенса, и остановились у большой тяжёлой двери. Ратиев щёлкнул каблуками и удалился. Я вошёл внутрь и увидел спальню, интерьер которой представлял собой причудливую смесь викторианского, как я себе его представлял, и псевдо-русского стиля. На стенах, покрытых типично английскими обоями, висели такие же британские по духу картины псовой охоты и портреты родителей – Романовых и Гессен-Дармштадских. В центре стояла большая двуспальная кровать, а справа от неё высокая, совершенно русская по стилю ширма, увешенная снизу до верху образами и иконами, возле которых задумчиво горели негасимые лампады. Я обомлел, такого количество икон не в церкви, а в спальне я не видел нигде и ни у кого. Рядом с гардеробом слева уже стоял верный Чемодуров. – А-а-а, ты уже здесь? – Так точно, Ваше Величество, вы никому другому себя переодевать не разрешаете. – Ну, давай, что там у тебя? – Мундир лейб-гвардии гусарского полка, вы в нём часто в театр изволите ездить. – Я всю жизнь только переодевался, – вертелось в голове, – откуда это? - Чемодуров распахнул дверцы гардероба и вынул оттуда нечто красно-голубое. Я протиснулся в расшитые золотом узкие голубые рейтузы, натянул короткую красную куртку с двумя лентами, золотой и голубой, через плечо, а Чемодуров в это время возился у меня за спиной, пристёгивая к левому плечу нечто белое с коричневой меховой опушкой. – Ментик, Ваше Величество, – сказал он, встретившись со мной взглядом, – на тот случай, если в доломане, – он показал на куртку, – холодно будет. Однако в рукава никто не носит, заворачиваются только. – Помню, – угрюмо сказал я. И перед глазами немедленно возникла актриса Голубкина. – Ваш батюшка, – продолжал бурчать Чемодуров, – всё генеральские мундиры надевал, а вы только полковничьи. – Одевшись и довольно оглядев себя в зеркало, я взял из рук камердинера высокую шапку с золотым козырьком, из шапки сверху что-то торчало, то ли кисть, то ли перо. Разбираться было некогда, и я бодрым шагом пошёл за неизменным Ратиевым к мраморной парадной лестнице, спустился по ней, как падший ангел с небес, в полумрак коридора и вышел на уже знакомое мне крыльцо. Часы напротив показывали начало восьмого, на улице уже начинало смеркаться. – Когда, интересно, начинается спектакль, – подумал я, – а впрочем, какая разница, без меня не начнут.
Мариинский театр
Доехали мы удивительно быстро, минут за 25. – Ленинград – город небольшой, – опять пронеслось в голове нечто знакомое и такое ненужное. – Мариинский театр, светло-зелёный с белыми колоннами, показался мне вовсе не монументальным, как Большой театр в Москве, а приземистым и уютным. Народу перед театром было предостаточно, но рота гвардейцев или, как их там, кавалергардов оттеснила толпу вправо и влево, сделав проход прямо до центрального подъезда. – Да, теперь я понимаю, почему в Питере говорят вместо «подъезд» «парадное» – именно оно, парадное бывает у дворцов и театров, а в Москве, конечно, одни подъезды. - Когда я вышел из кареты, раздался рёв, от которого я невольно вздрогнул. – Надо срочно привыкать к выражениям народной любви, теперь это будет всегда, при любом моём появлении. Только вот всегда ли? – Не сопровождаемый никем, кроме безмолвных и рослых, под метр девяносто, гвардейцев, я вошёл в бесшумно растворившиеся парадные двери и поднялся по лестнице в просторное фойе с очень высоким потолком, на котором висели, блистая электрическими огнями огромные хрустальные люстры. Стены фойе ещё более бледно-зелёного цвета, чем фасад театра, были отделаны белой лепниной и орнаментами. Всё это вместе с начищенным до блеска паркетом, на котором играли световые зайчики от люстр и канделябров, и с огромными окнами, задрапированными белыми, кружевными и воздушными портьерами, создавало ощущение воздуха, простора, радости и ожидания чего-то необычайного. – Как же называется этот архитектурный стиль? Ничего-то я не знаю, ничего-то я не помню… – Навстречу мне по паркету, на котором, казалось, можно было поскользнуться, приблизился человек невысокого роста, седоволосый с необыкновенно высоким лбом и, как обычно, с бородкой и усами. Человек был одет в великолепно сшитый фрак с белым галстуком, осторожно ступая, он немного вывёртывал ноги носками в стороны. Почтительно поклонившись, он сказал с по-русски с явно выраженным французским акцентом: – Рады вас снова видеть у нас, Ваше Величество! – Вы, Мариус, – начал я, внутренне холодея от возможной ошибки. – Иванович, – подхватил он, и у меня, как говорится, отлегло. – Давно ли вы живёте в России? – зачем-то спросил я. – Да вот уже почти 50 лет, – ответил он, слегка удивившись. – Два года назад с вашего соизволения получил российское подданство. Пожалуйте! – и Петипа простёр руку, указывая на высокую центральную дверь с затейливой лепниной, и мы прошли, как я потом понял, в императорскую ложу.

