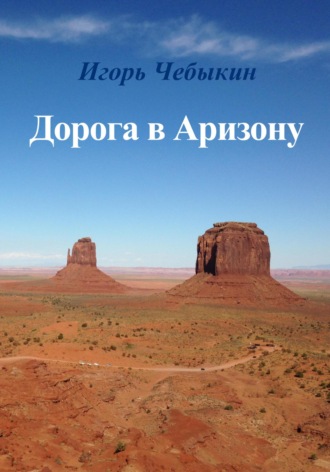
Полная версия
Дорога в Аризону
Глава 11
Когда он возвратился домой, там был только дед, с которым они делили одну комнату на двоих. В прошлом главный хирург местной больницы дед и после выхода на пенсию не собирался смирять свою кипучую энергию: он постоянно консультировал бывших коллег-врачей и, кроме того, возглавлял городской совет ветеранов войны. Под грамотным руководством товарища Яснорецкого (фамилия Толикова деда) совет вел активную и неустанную работу – организовывал выступления ветеранов в школах и на предприятиях, ухаживал за братским кладбищем, доставал для ветеранов путевки на юг, корпел над летописью боевой славы города. Из проживавших в городе ветеранов на заседаниях совета не присутствовал только Валерьяныч: дед Толика не любил Валерьяныча и называл его забулдыгой. Хотя до войны они были если не друзьями, то хорошими знакомыми. Помимо категорического неприятия председателем совета ветеранов нынешнего расхристанного образа жизни Валерьяныча, у этой неприязни была и еще одна причина, о которой председатель ни словом никому не обмолвился. В 41-м, когда они прорывались из окружения под Смоленском, Валерьяныч вынес с поля боя Яснорецкого, у которого осколком разворотило левое предплечье, и сутки тащил его на себе. Все эти сутки раненый Яснорецкий, то проваливаясь в желанное забытье, то вновь приходя в себя, стонал и плакал взахлеб, как ребенок, причитал от мучительной боли под монотонное бормотание Валерьяныча: "Потерпи, землячок, потерпи…". Именно воспоминание о той постыдной слабости, осознание того, что своей жизнью он, полковник в отставке, член партии, заслуженный врач, пользующийся уважением всего города, обязан этому юродивому сторожу из парка, который своими религиозными бреднями и полунищенским обликом позорит ветеранов войны, и возбуждали в Яснорецком раздражение и презрение к Валерьянычу.
Бывают люди, которые всем сердцем любят тех, кто их спас, тех, кому они обязаны жизнью, любят горячо и преданно и сами, в свою очередь, готовы отдать за них жизнь, если потребуется. Но бывают и те, кого назойливые мысли об этом неоплатном, навеки обременяющем их долге, тяготят и даже вызывают у спасенных ненависть к своим спасителям. Нельзя сказать, что Яснорецкий ненавидел сторожа, но о теплых чувствах к нему со стороны председателя совета ветеранов говорить тоже не приходилось. Видя, как Валерьяныч 9 мая выпивает у обелиска с бывшими однополчанами, Яснорецкий брезгливо морщился и просил коллег: "Уведите отсюда этого блаженного. Чего он на глазах у всех пьет?! Люди будут думать, что герои войны – это алкаши и дворники".
Сам же Яснорецкий если и выпивал, то чисто символически, да и вообще следил за собой и не позволял себе распускаться. Вставал он в 6 утра. В хорошую погоду совершал пробежки в близлежащем сквере, куда время от времени вытаскивал и ноющего полусонного внука. В дождь – делал зарядку перед открытой дверью балкона, где шансов спастись у внука было еще меньше. Зимой ходил на лыжах, постоянно разминал искалеченную на войне руку, мастерски готовил плов и знал наизусть едва ли не всего Чехова, которого особо почитал за его принадлежность к медицинскому цеху. Толик любил своего деда и гордился им. В общении с внуком дед умел подпустить строгача, когда это было необходимо, но, по большому счету, они были настоящими друзьями, и свои мальчишеские проблемы Толик всегда предпочитал обсуждать с дедом, потому что был уверен: он не станет посвящать в эти проблемы родителей Толика.
Их с дедом кровати в комнате стояли буквой "Г", смыкаясь в изголовьях. Дед нередко работал допоздна, писал что-то под интимным светом ночника с лиловым абажуром, который бесплотным двойником отражался в ореховой стенке радиолы. Радиола бодрствовала так же долго, как и дед. Иногда, когда дед ложился спать и гасил ночник, недремлющий Толик упрашивал его не выключать радиолу еще какое-то время. Ему нравилось . – засыпать, покачиваясь поплавком на мягких радиоволнах, нравился загадочный свет шкалы с волшебными надписями "Берлин, Будапешт, Рим, Хельсинки, Стокгольм, Афины, Прага…", нравился низкий бархатный голос с безупречной дикцией, размеренно выговаривающий: "Московское время 22 часа 35 минут. На "Маяке" легкая оркестровая музыка…". И вообще Толику нравился их камерный и уютный, на двоих с дедом мирок. Дед никогда не жаловался на тесноту, наоборот, считал, что это правильно, когда все поколения семьи – старшее, среднее и юное – живут под одной крышей.
Вернувшись из парка, Толик еще с порога услышал, что дед говорит с кем-то по телефону. Увидев внука, дед сказал: "Нет, Краснослав Степанович, я убежден: без гастроскопии здесь не обойтись", сделал большие глаза и приветственно приподнял раненую длань. Внук отсалютовал в ответ, прислонил дипломат к тумбочке и начал стаскивать с себя форму. "Как прошел первый учебный день?", – спросил дед, положив трубку. "Как и следовало ожидать – сумбурно. И долго, очень долго тянулся. Просто какой-то бесконечный день". – "Это потому, что ты молодой. В молодости время медленно идет, конца края ему не видно. Это в старости оно летит, как лайнер Ту-154". – "Да? Я думал, как раз для стариков время тащится еле-еле, душа в теле. Я говорю – для стариков, а не для такой молодой кипучей натуры, как ты, дед!.. Не, ну правда: старикам делать-то ведь нечего, на работу ходить не надо, знай себе дреми на солнышке. Все мысли только о том, как время убить. Вот оно и тащится, неубиенное, в час по чайной ложке. Разве нет?". – "Нет, – ответил дед и снял пиджак со спинки стула. – Все ровно наоборот". – "Отчего так, дед?". – "Оттого, что природа человека имеет те же законы, что и природа вообще. А в природе как: летом дни длинные, а зимой короткие. То же и с человеческим организмом. Потому что молодость человека – это лето, а старость – зима. Ущучил?". – "Ущучил. Но не совсем. Бывает ведь и молодость, как зима. Это называется "трудная молодость". А бывает и старость прекрасная, как лето. Это называется "пенсионер союзного значения". – "Не напоминай мне про пенсию. Это слово меня удручает". – "Так я ж говорю: ты – пенсионер только с формальной точки зрения, де-юре, так сказать. А де-факто ты у нас – ого-го!.. Ну, сам знаешь, чего я тебе буду рассказывать". – "Ладно, ладно, не подлизывайся, – дед никак не мог попасть второй рукой в рукав пиджака и был похож на кота, пытающегося поймать собственный хвост. – Как одноклассники встретили?". – "Фанфарами, цветами, подарками и сюрпризами". – "Ну, и где же подарки?". – "Отправил голодным детям Африки". Дед укротил, наконец, непокорный рукав и рассмеялся. "Толик, мне надо идти. Ты хоть и не дитя Африки, но тоже, полагаю, проголодался. Обед в холодильнике – суп, жаркое в кастрюле мать оставила. Сам разогреешь, поешь?". – "Конечно, дед! Сам разогрею и сам же, заметь, поем". – "Вот и славно. До вечера! Сообщи родителям, что я буду часов в 8". – "Сообщу!".
Ничего разогревать Толик, разумеется, не стал: холодное жаркое из кастрюли было гораздо вкуснее. Суп же совершенно не хотелось есть. Но и перспектива получить нагоняй от матери тоже не прельщала. Он взял кастрюлю и вылил немного супа в унитаз: вечером скажет матери, что съел.
Мать в последнее время стала какой-то раздражительной, то и дело погружаясь в странную мрачную рассеянность. Толик не сразу сообразил, что виной тому был отец. Глава семейства Топчиных занимал высокий пост начальника участка на режимном оборонном заводе, который работал, как перпетуум мобиле, – беспрерывно. Сквозь глухие железные ворота, увенчанные терновым венцом колючей проволоки, в утробу завода днем и ночью втягивались и исторгались обратно железнодорожные составы. На платформах покоились напоминающие динозавров орудия с торчащими из-под брезента массивными стволами и колесами. Завод был для них больницей, где в пропахших запахом машинного масла и раскаленного металла операционных искусные мастера возвращали орудия к жизни и отправляли их полными смертоносной мощи к месту несения службы, на защиту Родины.
Работа у отца была важная и ответственная, поэтому родные давно уже привыкли к тому, что Топчин-старший, как правило, приходит домой поздно и нередко работает по выходным. Тем не менее, регулярный отдых с семьей всегда был для отца священной заповедью семейной жизни, которую он ревностно соблюдал. По выходным родители, Толик и его старшая сестра – тогда еще школьница – ездили на природу в окрестные леса или высаживались дружным веселым десантом в Москве, где ходили в театры и в цирк, бродили по бульварам, запивали густым молочным коктейлем горячие пончики на Пятницкой, скользили на речном трамвайчике по Москва-реке мимо исполненных космического спокойствия и величия соборов и башен Кремля. Еще больше Толик любил их чисто мужские, на пару с отцом, вылазки в столицу – на хоккей, в Парк имени Горького или планетарий, где в уютной тьме звездного зала было так замечательно слушать древнегреческие мифы, и фосфоресцирующий циферблат отцовских часов светился, как кусочек звездного неба.
И вот с какого-то момента эти совместные выезды стали более редкими, потом совсем редкими, а потом и вовсе прекратились. Отец все чаще возвращался домой около полуночи, все чаще уходил из дома на выходные, объясняя свои отлучки внезапно свалившейся работой, все чаще мать ложилась спать, не дождавшись его, оставляя на плите для отца сковородку с ужином, который все чаще оставался нетронутым. Все чаще, услышав пронзительную трель телефона, они с матерью, молча, смотрели друг на друга, после чего отец все чаще отводил глаза и, играя желваками, снимал трубку.
Ни деду, ни, конечно, детям, мать никогда не рассказывала о том, как однажды, после работы, выпроставшись из дверей гастронома с пудовыми сумками, она случайно напоролась взглядом на отца, который на углу двух улиц помогал какой-то девушке со стройными ногами, обтянутыми пурпурными импортными сапогами с модной подошвой на "манной каше", сесть в какую-то машину. Лица обладательницы стройных ног, стремительно исчезнувшей в дверном проеме машины, мать рассмотреть не успела: оно было закрыто шалью каштановых локонов. Да и смотрела мать, главным образом, не на незнакомку, а на отца. Щелкнув дверцей, как мышеловкой, довольный отец проворно вскочил на переднее сиденье рядом с водителем, и машина тронулась с места, послав застывшей на тротуаре супруге воздушный поцелуй сизой струйкой выхлопных газов.
Домой в тот вечер отец пришел поздно. "Работы много было сегодня?", – спросила мать, оглушенная стуком собственного сердца. "Прорва работы просто, – шумно выдохнув, ответил отец и устало покачал головой. – С одной зениткой особенно долго пришлось повозиться". После этого мать окрестила для себя любовницу отца "зениткой". Но не сказала отцу, что видела, как он грузил эту "зенитку" в машину на углу у гастронома. Не могла собраться с духом и сказать. Да и что тут можно было сказать? Отца поразила типичная для 40-летних мужчин болезнь, столь же типичная для его возраста, как и простатит. Болезнь заключалось в жажде новых романов с юными девушками. В 40 лет у мужчины зачастую открывается второе дыхание и второе лицо, разительно несовпадающее с первым, которым дозволено любоваться ничего не подозревающим членам семьи и сослуживцам. Ощущая себя (иногда, увы, ошибочно) на пике интеллектуальной и физической формы, нормальный, настоящий, так сказать, мужчина к 40 годам имеет в наличии все то, в чем испытывал острую нужду в бытность студентом или голозадым аспирантом, – деньги, власть, ум, опыт, хладнокровие, уважение окружающих, что еще?.. Ах да, сарказм, загадочность и обаяние взрослого человека, познавшего жизнь, вы понимаете меня, дорогуша? И на что же еще в преддверии скорого неминуемого заката, спрашивается, такой мужчина должен потратить все это несметное богатство как не на новые пылкие ощущения, которые ему не может дать его увядающая подруга? Таков уж неумолимый закон природы: юных мальчиков тянет к взрослым женщинам, а взрослых мужчин – к юным девушкам. И кто после этого будет говорить, что непостоянны и непоследовательны женщины, а не мужчины?.. С физической формой у 40-летних мужчин дела, правда, обстоят, не так лучезарно… Но и поговорку о крепнущем с годами вине тоже, знаете ли, не дураки придумали.
Мать все это понимала. Понимала и то, что не сможет с этим смириться и делать вид, что ничего не замечает. Однако и вскрывать душевный нарыв боялась. Боялась за детей, по которым ударная волна семейной катастрофы шарахнула бы сильнее всего. Боялась за сына, который вступил в самый трудный возраст и самую ответственную пору своей школьной жизни. Боялась за дочь, которой нужно было нормально закончить институт. Боялась, в конце концов, потерять любимого мужа, чье предательство вызвало в ней не мстительную ярость, а лишь горестное уныние. Работая терапевтом в городской поликлинике, мать всегда назидательно внушала своим пациентам, что боль нельзя терпеть, уповая на то, что все само пройдет. Чем раньше выявишь недуг и начнешь лечение, тем больше шансов на успешный итог. И вот теперь она сама терпела самую сильную из болей – душевную боль, которая, не находя выхода, зрела и разрасталась в ее груди.
Самое страшное заключалось в другом: отец догадался, что мать все знает. Догадался по ее взглядам, гнетущему молчанию, переменившемуся поведению. Однако осознание того, что он раскрыт, не заставило его из осторожности и чувства самосохранения притушить, хотя бы на время, костер своей новой страсти. Он продолжал с наслаждением греться у его жаркого греховного огня, и каждый вечер, возвращаясь домой, до судорог боялся, что именно сегодня ему предъявят обвинение в совершенном преступлении и начнут инквизиторский допрос. Но мать молчала. Испытывая трусливое облегчение, молчал и отец. Они продолжали жить и молчать, одинаково боясь того неминуемого разговора, который грозил разнести вдребезги аквариум их налаженного семейного жития.
Дед, захваченный своей бурной общественной деятельностью, ничего не замечал. Толик же, в конце концов, сообразил, что между родителями произошла какая-то серьезная размолвка. Однако думать об этом ему было некогда. Он варился в котле своей страсти, и мысли его были заняты сейчас лишь одним: как завоевать Нику и отбить ее у Перса?
Глава 12
Короткое и жесткое слово "отбить" само по себе неизбежно наводило на мысль о драке. Драться Толику, честно говоря, не хотелось. До этого момента они с Персом дрались два раза. Первая схватка произошла еще в начальной школе. Яблоком раздора стали крышечки от импортного пива, они же – чахонки, главное достояние мальчишек в младших классах, их собственная валюта, фишки в их мальчишеском казино. Добытые у отцов и прочих старших родственников и знакомых мужского пола кругляши с картинками в виде зубчатых башен, раблезианских бочек, зеленых роботов, с загадочными и от этого еще более звучными и восхитительными названиями Saris, Okosim, Staropramen, Prazdroj, Radeberger имели собственную табель о рангах, на дне которой бултыхались незнамо как затесавшиеся в бравую пивную компанию "байкал", пепси-кола и осененный орлиными крыльями кисловодский нарзан. От долгого использования крышечек изображения на них со временем становились все более туманными и стертыми, как лики на старых иконах и картинах, что лишь повышало ценность пивного антиквариата в глазах пацанов. Пацаны с набитыми чахонками карманами бренчали, как цыганки – монистом, и нередко становились жертвами грабительских налетов недремлющих учителей. Фальшивомонетчики и контрабандисты всех стран и континентов вряд ли преследовались более варварски и беспощадно, нежели мальчишки, имеющие за душой горсть чахонок. Застигнутых врасплох мальчишек обыскивали в классных комнатах, а то и прямо в коридоре при всем честном народе, потрошили их сумки и, наткнувшись на залежи жестяных пиастров, изымали их, невзирая на слезные мольбы и клятвенные обещания больше не приносить крышечки в школу.
Играли в крышечки двумя способами. Один из них требовал наличия вырытой в земле лунки, в которую надо было непременно прежде соперника попасть собственной крышечкой, а затем, загнав туда же чужую чахонку, завладеть ей в качестве боевого трофея. Плацдармом для другого, не зависящего от погодных условий и мелких объективных факторов вроде торчащих из земли корешков и иных изъянов почвы и потому более распространенного среди мальчишек варианта древней и мудрой игры в крышечки служили парта или подоконник. На их угодливо гладкую поверхность крышечки с загнутыми и расплющенными молотком волнистыми краями бросали, как игральные кости. Бросал тот, чья чахонка стояла в табели о рангах выше неприятельской. Именно этот философский спор – о старшинстве крышечки – и стал причиной драки Толика и Перса. Можно было установить истину мирным способом, обратившись к мнению других пацанов, однако оппоненты не стали тратить на это время и сцепились в школьном коридоре, как две собачонки, не поделившие колбасную шкурку и соседскую болонку. Драка продолжалась недолго по причине как всегда несвоевременного, с точки зрения пацанов, появления директрисы. Аккуратно взяв участников пивного путча за шкирки сильными женскими руками, директриса в секунду отделила драчунов друг от друга, крепко встряхнув, придала их мыслям более пацифистское направление, после чего конфисковала чахонки и зачитала их бывшим владельцам приговор: "Чтобы завтра же родители обоих были у меня в кабинете".
Отец Перса, товарищ Перстнев-старший, из-за своей непомерной занятости и важности порученной ему партией работы появлялся в школе реже, чем чешское пиво в местных магазинах. Родительские полномочия в подобных ситуациях он делегировал жене, к чему директриса и классная руководительница Перса быстро привыкли. Мать Перса в сыне души не чаяла, смотря сквозь пальцы с земляничного цвета маникюром на все его проказы. Поэтому та малолетняя драка не имела для персидского наследника серьезных последствий. Чего нельзя сказать о Толике, который получил от родителей неслабый нагоняй и бесчеловечный запрет гулять во дворе в течение двух недель.
Второй раунд их с Персом противостояния состоялся в шестом классе и был значительно кровопролитнее. К тому времени их взаимная, годами накапливаемая антипатия друг к другу достигла своего апогея, и требовался лишь повод, чтобы дать ей выход естественным для мальчишеских взаимоотношений образом. Повод дал Перс, атаковавший Веньку Ушатова во время перемены после урока геометрии. Заблудившийся на геометрии в равнобедренных и равносторонних треугольниках, как в трех соснах, Венька выбрался из этого лабиринта, схлопотав в дневник заслуженную "пару". На перемене, предавшись безотрадным раздумьям и не видя никого вокруг, он умножил собственные несчастья, случайно налетев на стоящего у доски Перса и отдавив ему ногу всем своим многокилограммовым весом. Перс вспыхнул и богатырским ударом имени опричника Кирибеевича – в грудь – вернул простофилю к реальности. "Смотри, куда прешь, жирный! – гаркнул Перс. – Соплежуй! Гной подкожный! Одно слово – Винни! Винни Пух ты и есть – только жир и опилки в башке!". Венька оторопело захлопал глазами. Толик знал, что ответа не будет: добродушный и флегматичный Ушатов покорно сносил самые обидные насмешки и обзывательства, которые отскакивали от его толстой шкуры, как жеваные шарики из промокашки. Терпение его истощалось лишь в тот момент, когда противник переходил от оскорблений словесных к оскорблениям физическим. В этих случаях Винни, страшный в своей слоновьей ярости, обрушивал на обидчика всю мощь увесистых кулаков, способных даже крепкого паренька превратить в котлету по рецепту столь любимых Венькой свиных отбивных. От этой печальной участи недальновидного супротивника спасало только оперативное вмешательство секундантов.
Однако на сей раз была не та ситуация. Во-первых, судя по растерянному Венькиному лицу, он и впрямь чувствовал свою вину за то, едва не превратил Персову ногу в ласту. А во-вторых, устраивать драку с Персом было безумием более опасным, чем буйная шизофрения. Все в классе это знали. Знал и Толик, сказавший, тем не менее, громко и чеканно: "Если он – Винни Пух, то ты – персенок Пятачок". Все находившиеся в классной комнате замерли. В повисшей тишине было слышно, как в животе у Веньки тревожно заурчало. Кто-то из девчонок хихикнул, но робко и приглушенно. Все смотрели на Перса. Тот, расставив руки в локтях, как штангист Жаботинский на помосте, подошел к Тэтэ и уточнил: "Что ты сказал?". "Персенок, – повторил Тэтэ. – Или даже нет – ослик. Осел. Иа-Иа". Перс несколько секунд рыскающим взглядом изучал лицо Толика, а затем вежливо поинтересовался: "Давно не получал, Тото?". (Тэтэ гордился своим прозвищем, дарованным ему пацанами в честь знаменитого пистолета ТТ. Обезьяньей кличкой "Тото" его называли лишь в тех случаях, когда провоцировали на конфликт). "Смотря, что ты подразумеваешь под словом "получал", – ответил Толик. – Если – титю, то последний раз – в полтора года. А если "пятерку", то позавчера – на зоологии". – "А в морду давно не получал?". – "Вообще ни разу, потому что у меня не морда, а лицо. Говорю это тебе, как специалист по зоологии". – "Получишь по тому, что есть. Махаемся сегодня после уроков. Или очко играет?". – "Очко играет только в картах, Перс. Играет и выигрывает". – "Ты махаться будешь или как?" – "Буду".
К следующей перемене о грядущем махаче Толика и Перса знали все в классе. "Толян, ты чего, не надо", – запоздало бубнил Венька, заглядывая другу в глаза. "Не волнуйся, Венька. Я не только за тебя подписался: сам давно уже хотел этой скотине рожу отшлифовать". – "А если он тебе… отшлифует?..". – "Тогда хоть умру по-геройски. Не ссы в компот, там повар ноги моет!.. Все нормально будет".
В отличие от сиюминутных стычек, вспыхивающих, где придется, серьезные драки школьников проводились на территории расположенного по соседству детского сада. Туда Толик и Перс в сопровождении всех пацанов класса и отправились выяснять отношения. Дожидаться конца уроков не пришлось: физичка неожиданно захворала, замену ей найти не успели, и в распоряжении класса оказался почти час свободного времени, который в отсутствии физики и решено было посвятить активным физическим упражнениям на свежем воздухе. Среди жаждущей крови и зрелищ публики было и несколько девчонок, в том числе – тогдашняя пассия Тэтэ Маринка Ставрухина, смотревшая на своего героя со смесью трепета и восхищения. Место для поединка нашли быстро – в дальнем углу детсадовского выгона, предусмотрительно задрапированном зарослями сирени и чубушника. Помешать противникам никто не мог: малолетние обитатели детского сада, переваривая запеченную рыбу и картофельное пюре, наслаждались тихим часом, как и их утомленные воспитатели.
Толик и Перс скинули пиджаки, сняли пионерские галстуки. Публика заняла места в "партере", на низенькой лавочке беспечно желтого цвета, и на "балконе", облепив горбатую лесенку и составленного из стальных обручей жирафа. "Ну, что, погнали наши городских!", – сказал Перс и, размахнувшись, двинул Тэтэ в челюсть. Предматчевые опасения Веньки сбылись в полной мере: шансов на более-менее достойный исход боя у его друга не было никаких. Имея солидное преимущество в мышечной силе, карающий Перс принялся избивать соперника с садистской методичностью, размашисто работая руками и ногами. Однако с последним решающим ударом, призванным пригвоздить Тэтэ к столбу позора и отбить у него впредь охоту не только драться с ним, Персом, но и грубить ему, не торопился, продлевая себе удовольствие. Левый глаз Тэтэ заплывал стремительно, будто укушенный осой. Ставрухина вздрагивала и болезненно морщилась всякий раз, когда кулак Перса достигал цели. То есть, вздрагивала беспрестанно. На нетронутом лице Перса уже не было изначальной злости. Там была довольная улыбка насыщающегося людоеда.
Нокаут был совсем рядом, когда Толик, сглатывая розовую и соленую, как зубная паста "поморин", слюну и уже мало что соображая, исхитрился, продравшись сквозь молотилку Персовых ударов, войти в клинч, схватить Перса за ворот рубахи и повалить на утоптанный бойцами грунт. Не выпуская ворот из рук и не давая Персу опомниться, Толик, собрав остатки сил и воли, приподнял его и несколько раз долбанул головой оземь. Сорвавшиеся с лавочки пацаны тут же растащили их. Побледневший Перс сел, положив руку на затылок и удивленно глядя перед собой. Толик, поддерживаемый с двух сторон Маринкой и Венькой, размазывал кровь по губам. В голове у него звонил то ли колокол, то ли стальной рельс, то ли оба разом.
На этом драка закончилась. Несмотря на живописно изукрашенную физиономию Тэтэ, по яркости и сочности красок соперничавшую с полотнами импрессионистов, в историю исход боя вошел как ничейный. По правилам мальчишеской драки, бить лежачего противника воспрещалось и считалось проявлением низости в прямом и переносном смыслах слова. Однако свидетели того единоборства в детсаду оценили яростный порыв несгибаемого Толика, впившегося в воротник врага, как в горло, и потому простили ему нарушение неписаного кодекса юных дуэлянтов. Еще большее впечатление на пацанов произвела реакция Перса: никогда доселе его не видели таким растерянным и притихшим. "Толян, ты сдурел, что ли? – вполголоса спросил Тэтэ Макс Дыба, главный классный меломан. – А если бы там, на земле, камень был?..". "Тогда камень получил бы сотрясение мозга, – с трудом ворочая языком, ответил избитый герой. – Не Перс же: у него-то откуда мозги?.. Он еще при рождении получил травмы, несовместимые с интеллектом". После этой рукопашной среди одноклассников закрепилось мнение о том, что Толик – псих, готовый в драке пойти до конца и изничтожить оппонента любыми доступными способами, наплевав на правила. Это была лестная характеристика: психов в мальчишеской среде считали опасными и потому уважали.



