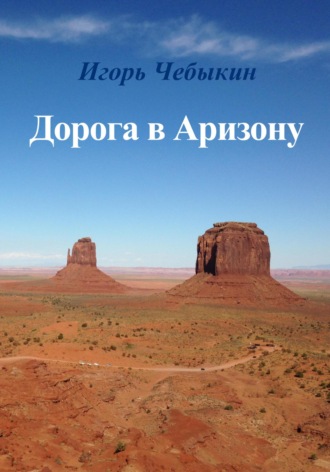
Полная версия
Дорога в Аризону
Завалы разобрали быстро и споро. Надгробия на кладбище снесли. Землю разровняли, засеяли газон, посадили деревья, и уже через полгода на месте бывшего храма и прилегавшей к нему территории красовался городской сад с деревянной эстрадой, танцплощадкой, шахматным павильоном, пивным ларьком и лодочной станцией на пруду. Отсюда, из этого сада, под рвущие сердце звуки духового оркестра Валерьяныч уходил на фронт в июне 41-го. Войну он прошел от начала до Берлина, удачно избежав тяжелых ранений и получив в награду, помимо медалей, и тот самый портсигар с надписью Das schone Schloss. Серебряная коробочка досталась ему в январе 45-го года при освобождении старинного польского городка на западном берегу Вислы. Немцы оборонялись осатанело, вгрызаясь намертво в каждый дом и двор. На улицах завязалась бойня еще более ожесточенная, чем на подступах к городу. Рота автоматчиков, в которой служил Валерьяныч, потеряв половину своего состава на площади перед изувеченной ратушей, к полудню при поддержке артиллерии все же выбила швабов из здания. Прочесав полуразрушенные этажи, чьи стены и перекрытия еще хранили жар и ярость только что завершившейся схватки, солдаты обнаружили в запертом подвале несколько сотен согнанных туда евреев из местного гетто. Немцы хотели взорвать их перед отступлением, но не успели. Подвал был объят зловонием человеческих испражнений и животным страхом. Люди, проведшие многие часы в ожидании смерти, но так и не дождавшиеся ее, выходили на свет, как живые мертвецы из преисподней, повторяя: "Дженкуе!..".2 Какая-то темноволосая женщина с белым искаженным лицом и сросшимися на переносице бровями, хватала солдат за рукав и целовала их сухими трясущимися губами, сдерживая клокочущие в горле рыдания. За ней неотступно следовал маленький перепуганный мальчик, замотанный в девчачий платок. Неожиданно женщина остановилась, открыла свою набитую чем-то холщовую торбу, судорожно порывшись в ней, достала портсигар и протянула стоявшему к ней ближе всех солдату. Им был Валерьяныч. "Упоминек! Проше! Проше!"3, – тщетно пытаясь улыбнуться, сказала женщина. Валерьяныч неуверенно оглянулся на товарищей, на старшего лейтенанта Ряхно, который курил, привалившись к стене и держа самокрутку здоровой рукой. Вторая рука у него была на перевязи. "Чего ж ты – бери, раз дарят от чистого сердца", – разрешил Ряхно, поймав вопрошающий взгляд Валерьяныча.
Позже бойцы частенько использовали портсигар как повод для добродушных подшучиваний над Валерьянычем. "А ведь эта паненка неспроста именно тебе его подарила, – говорили ему во время перекура. – Понравился ты ей, парняга, вот что. А ну как жена начнет тебя после войны пытать: откуда портсигар, кто подарил? Как тогда будешь выкручиваться, а?". Выкручиваться не пришлось: жену и детей Валерьяныча, как выяснилось, немцы убили еще осенью 41-го во время оккупации. Пьяные солдаты с канистрами бензина шастали по улицам, вытаскивали людей из домов, обливали бензином и поджигали, восторженно горланя: "Die Weihnachtenfeuer!"4. Жена Валерьяныча вспыхнула, как свечка, но успела бросить грудную дочку шестилетнему сыну Мишке и крикнуть: "Беги, сынок!". Мишка далеко не убежал: ефрейтор, выглядевший единственным трезвым и невозмутимым среди этой вопящей кодлы, полоснул его автоматной очередью по спине. Подошел, деловито перевернул тело мальчика сапогом, полоснул еще раз – для порядка, и следующей очередью прекратил истошный плач лежащей рядом на снегу Мишкиной сестренки. Мать Валерьяныча немцам на глаза не попалась, но после гибели невестки и внуков у нее отнялись ноги. Старуху взяла к себе сердобольная соседка, у которой в доме она и умерла уже после освобождения города Красной Армией. Написать Валерьянычу на фронт о страшной кончине его родных соседка не решилась. Правду Валерьяныч узнал только после войны, вернувшись домой, которого у него больше не было.
Именно тогда в нем произошла та странная перемена, наложившая неизгладимую печать на весь его облик. Старик, в ту послевоенную пору – далеко еще не старик, а молодой здоровый мужик, замкнулся в себе. Лицо его потухло навсегда. Не было больше на этом лице ни радости, ни жизни, ни интереса к этой самой жизни. Все засыпала зола сожженного немцами счастья. Несмотря на уговоры друзей и начальства, Валерьяныч, до войны – плотник с золотыми руками, бросил свое прежнее ремесло и устроился сторожем в восстановленный городской сад. В 70-х сад переоборудовали в парк аттракционов, водрузив на месте церкви "чертово колесо", которое сразу же стало любимейшим развлечением горожан. Однако вот уже несколько лет оно торчало посреди парка недвижно и мрачно, взирая на беззаботный люд остекленевшим мертвым глазом. Причиной остановки колеса стала беда, всколыхнувшая в свое время весь город.
Мальчишки, да и взрослые мужчины, катаясь на "чертовом колесе", взяли в привычку лихо раскручивать кабинки посредством установленных в них специальных штурвалов и, поднимаясь все выше и выше, ускорять вращение металлических скорлупок, невзирая на визги и мольбы перепуганного женского пола. Девочки верещали, мальчишки веселились от души, и все шло превосходно, но однажды во время очередного, Бог знает какого по счету оборота в колесе вдруг что-то дико скрежетнуло, хрустнуло, и одна из волчком вертевшихся кабинок, уже миновавшая высшую точку орбиты и направлявшаяся к земле, резко накренилась. Пацаны, сидевшие в ней, успели схватиться за поручни, девочку же толчком выбросило за борт с большой высоты. Умерла она сразу после того, как ее привезли в больницу.
Распоряжением горисполкома "чертово колесо" остановили до выяснения обстоятельств случившегося. Обстоятельства, в итоге, были выяснены, директор парка и мастер, ответственный за техническое состояние аттракциона, получили солидные тюремные сроки. Но колесо так и не отремонтировали, не запустили вновь. Трагедия забылась не сразу, парк некоторое время был непривычно пуст и тих, но затем шок и страх постепенно рассеялись, все, кроме колеса, вернулось на круги своя, и по вечерам и в выходные парк вновь был наводнен жаждущими культурного отдыха гражданами. Детское же население города осаждало аттракционы во все дни недели вплоть до зимы, когда карусели впадали в спячку, и заснеженные тропинки парка превращались в зону неспешных прогулок.
Сторожка, в которой Валерьяныч коротал служебные ночи, располагалась возле самого входа. Внутреннее убранство этой кургузой деревянной конуры состояло из топчана и маленького стола, декорированного электрическим чайником с вмятиной в боку и эмалированной кружкой. Радио в сторожке не было, зато была неизвестно как сюда попавшая подшивка журнала "Студенческий меридиан" за 1978 год. В углу, рядом с вешалкой, притулились метла и лопата для уборки снега. Столь же аскетично выглядела и вторая нора Валерьяныча – комната в общежитии культпросветучилища, чья сострадательная вахтерша иногда стирала старику его скудные одеяния.
Ночи в парке были безмятежными, шпана нечасто жаловала его своими посещениями: будки с пультами управления запирались на амбарные замки, сорвать которые и самовольно включить карусели было непросто. Разве что иногда на скамейки парка незаконно слетались романтично настроенные компании с гитарами и бутылками. Застигнутые Валерьянычем, который ночами обходил свои потешные владения, компании не борзели и не грубили сторожу: старика в городе любили, как местного юродивого. "Все-все, Валерьяныч, уходим!", – говорили в таких случаях нарушители общественного порядка и ретировались сквозь лазейки в решетке парка. Дождавшись, когда старик уйдет, гуляки возвращались обратно. От водки или портвейна, которые ночные гости предлагали старику, тот не отказывался, но сам никогда не просил. Ему и так было хорошо.
Валерьяныч любил парк, любил его ночное безмолвие, любил бродить среди замерших спящими ящерами каруселей, разговаривать с ними и сонными деревьями. В эти минуты он был счастлив, как бывает счастлив мужчина, проводящий ночь с любимой.
Идиллия была нарушена самым странным и пугающим образом, после чего трудовые бдения Валерьяныча превратились в нескончаемый кошмар. Виной всему стало "чертово колесо". Навеки, казалось, окаменевшая карусель однажды ночью ожила. Произошло это в тот самый миг, когда мимо дозором проходил Валерьяныч. Четыре прожектора неожиданно включились без посторонней помощи, и четыре ослепительных луча ударили в ржавые ребра и сухожилия конструкции. Колесо пронзительно заскрипело и застонало, как исполинская выпь, затем дернулось, замерло, дернулось еще раз, и кабинки медленно поплыли вверх. Ошарашенный сторож, в этот самый день, заметим, не употребивший ни капли спиртного, бросился к будке у подножия колеса: замок был на месте, через стекло в двери было видно, что тумблеры на пыльной панели по-прежнему пребывают в выключенном состоянии. "Может, замкнуло где-то?", – мелькнуло в голове у старика, но подумать об этом он не успел. Какие-то звуки, доносившиеся сверху, привлекли его внимание. Отступив назад, запрокинув голову и щурясь от больничного света прожекторов, Валерьяныч к ужасу своему разглядел в одной из кабинок, ползущих в чернеющее небо, детей. Своих детей. Сына и дочь. Только повзрослевших. Мишка вырос в ладного крепкого паренька с залихватским чубчиком на лбу. Танечку, родившуюся спустя два месяца после отправки отца на фронт, Валерьяныч никогда не видел. Но теперь интуитивно понял: это она. Дочка выглядела нарядной симпатюлей с пышным бантом. Рядом сидела другая девочка – постарше, в пионерской форме. На голове ее влажно темнело какое-то пятно, из-за чего волосы казались слипшимися. Чувствуя, как мурашки морозной сыпью покрывают все его тело, Валерьяныч понял, что это та самая девочка, которая разбилась на "чертовом колесе" несколько лет назад. Дети беззаботно смеялись и махали ему руками. Дочь кричала: "Папа! Смотри!". Бант у нее на макушке при этом подрагивал, как бабочка, собирающаяся взлететь. А колесо меж тем, разгоняемое незримой и неведомой силой, с каждым оборотом все ускоряло и ускоряло свой ход. И вот уже превратилось в гигантскую сверкающую, свистящую петлю. Разобрать что-либо в этом вихревом круговороте было уже невозможно, однако смех и голоса детей, то уносясь ввысь, то пикируя вниз, слышались по-прежнему внятно. "Они же вывалятся!..", – обессиленно подумал Валерьяныч, белый, как луч прожектора. Он хотел крикнуть: "Деточки, не бойтесь!", но не смог, только вяло шевелил губами. Надо было куда-то бежать, просить кого-то о помощи, но ноги у старика ослабели, и он упал на колени на мокрый после дождя асфальт. Отвратительный свист становился все громче и нестерпимее. У старика начало закладывать уши. Захрипев, Валерьяныч обхватил голову руками, словно пытаясь помешать свисту и боли разнести эту голову на кусочки. Потом он ощутил в горле и в груди тошнотворную пустоту и холод, смертельное изнеможение растеклось по его телу, и вдруг прожекторы и весь мир в один миг погасли перед его взором.
…Очнувшись, он обнаружил себя лежащим на земле перед "чертовым колесом". Небо светлело. Кругом царили предрассветные тишина и покой. Мертвое колесо стояло неподвижно. Кабинки были безлюдны. Валерьяныч поднялся и с трудом дотащился до сторожки. Его мутило. В сторожке он свалился на топчан и до самого утра проспал бессюжетным сном.
Ночное видение у "чертова колеса", которое старик счел галлюцинацией, произвело на него самое тягостное впечатление. Весь день он пытался избавиться от жуткого воспоминания, а следующей ночью кошмар повторился. Повторился в точности, во всех деталях: прожекторы, дети в кабинке, звук рассекающего ночную тьму гигантского диска… На сей раз Валерьяныч сознания не терял и досмотрел дьявольское представление до конца. Сгинул кошмар так же внезапно, как и появился, – чтобы вернуться снова. Ужасное воскрешение чертова колеса стало происходить каждую ночь. Валерьяныч закрывался в своей сторожке изнутри, напивался вусмерть, чтобы заснуть и ничего не видеть, однако ничего не помогало: в урочный час что-то властное и неумолимое хватало его за шиворот и тащило к колесу. И без того молчаливый старик замкнулся еще больше. Целыми днями он ходил, словно в полузабытьи, не реагируя на приветствия окружающих и думая только о грядущей полночной пытке.
Спустя некоторое время к фокусам взбесившейся карусели добавились стоны, доносившиеся время от времени по ночам из зарослей кустарников в отдаленных уголках парка. Валерьяныч, прежде никого и ничего не боявшийся, на сей раз ощутил такой страх, что не осмелился и приблизиться к стонущим кустам, решив, что это стонут Архангелы Господни и души загубленных священников и прихожан стоявшей тут некогда церкви.
О том, что происходит в парке по ночам, сторож проболтался только один раз – в разговоре с мальчишками, кому он, в отличие от взрослых, доверял, почему и вступал с ними в разговоры. Прекрасно зная, что у старика мозги слегка набекрень, посвященные в ужасную тайну мальчишки, тем не менее, не могли удержаться от того, чтобы не убедиться лично в подлинности описываемых стариком событий. Однако те смельчаки, которым удавалось ускользнуть из дома и прокрасться в парк, тратили время впустую: сколько они ни таращили глаза, дрожа от ночной прохлады, "чертово колесо" не сдвинулось ни на миллиметр. Когда же мальчишки попеняли Валерьянычу за его басни, тот, ничтоже сумняшеся, ответил: "А вы и не увидите этого. Только я могу это видеть. Это для меня черти его раскручивают – наказывают за мои грехи. А вы нагрешить еще не успели". Он, видите ли, пришел к выводу, что ночные кошмары даны ему в наказание за разрушение храма.
После этого пацанов, конечно, перестали интересовать наваждения старого чудака, однако о докучающих сторожу фантомах, в конце концов, стало известно кому-то из родителей. Они тут же сообщили об этом в милицию. Милицейский наряд, несколько ночей подряд патрулируя окрестности "чертова колеса", ничего сверхъестественного не обнаружил, зато выяснил происхождение протяжных стонов. Их, как оказалось, издавали студенты местного строительного техникума – парень и его бесстыжая подружка, избравшие ночной парк местом своих любовных услад. Грянул скандал, парочку, конечно, с треском выперли из комсомола, а заодно – и из техникума. Хотели турнуть из сторожей и Валерьяныча, но потом подумали: куда его еще возьмут-то, кроме дурдома? И оставили старика в покое, наказав ему при этом строго-настрого не разводить впредь среди детей религиозную пропаганду.
Глава 10
Прячась за деревьями и спинами прохожих, Тэтэ продолжал преследовать приближавшуюся к парку троицу. Внутренний голос уже не шептал, а кричал ему в уши, что вся эта шпионская слежка бессмысленна и не к лицу взрослому 14-летнему парню. Внутренний голос хватал его за руку и тянул домой – к родителям, футболу, книгам, телевизору и Веньке. Но Тэтэ упрямо мотал головой и отбивался от надоедливого гласа. "Не могут же они бродить до ночи, – говорил он ему. – Когда-нибудь Перс и Кол все-таки пойдут по домам и оставят, наконец, Нику одну, понимаешь или нет?". "А если Перс проводит ее прямо до дверей квартиры?", – скептически вопрошал внутренний голос. – "Отстань!". О наисквернейшем варианте развития событий Толик старался не думать. Гораздо больше его сейчас занимал вопрос: о чем эти трое столь увлеченно болтают все дорогу? Ну, о чем, спрашивается, могут говорить такие ограниченные персонажи, как этот жиреющий горкомовский дофин и эта стоеросовая волейбольная дубина? Только о ерунде какой-нибудь.
А они в этот самый момент говорили о нем – Толике. "Вы заметили, что Тэтэ плетется за нами от самой школы? – спросил Кол. – Причем, это… не приближается, на расстоянии держится". "Заметили, конечно, – усмехнулся Перс. – Но он-то, поди, думает, что не заметили". – "Он вообще сегодня в ударе". – "Ага, непонятно только, какой удар – солнечный или апоплексический". "Интересно, за кем же это он так по пятам бродит?", – спросил Мартьянов. "Я думаю, за тобой, Кол", – состроив многозначительную мину, сказал Перстнев-младший. Компания рассмеялась. "Ну, чего, шугануть его, что ли?" – предложил Кол. – "Зачем? Пусть таскается. Он же нам не мешает. Пока, по крайней мере. Будет нарываться – шуганем. Главное – не обращать на него внимания, не показывать ему, что мы его видим. В этом весь прикол. Пусть поиграет в шпиона. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы утешилось".
На другой стороне улицы показались распахнутые ажурные ворота парка с а-ля бронзовыми набалдашниками и нависающими над ними ветвями кленов. Солнце припекало. За столиком у пивного ларька двое оживленных мужчин извлекали воблу из газетных пелен. В тире отрывисто щелкали выстрелы, будто кого-то стегали бичом. Троица без остановок проследовала прямиком к кассам. Дальше прятаться было глупо. Толик прибавил ходу. Сунув в окошко кассы мятый рубль, придавленный горкой мелочи, Перс получил обратно стопку билетов и в этот момент поднял глаза на приближающегося одноклассника. "Ба, Анатоль, и ты здесь! – деланному Персову изумлению не было предела. – Какими судьбами?". – "Да, представь себе, нелегкая судьба советского школьника забросила меня в парк аттракционов. Вот, захотелось развеяться, снять напряжение после первого учебного дня. А вы, я смотрю, решили сообразить на троих?". – "Нет, Анатоль, мы не соображать – мы кататься будем. Ты тоже? Ну, тогда увидимся на вираже, дружище!", – Перс фиглярски улыбнулся и положил руку Ники себе на локоть. Злобно глядя вслед удаляющемуся трио, Толик лихорадочно искал в карманах мелочь. Нашлось 18 копеек – хватит только на один билет. Не надо было ему сегодня в школьной столовой тратиться на сочники и коржики. Венька, паразит, соблазнил… "Молодой человек, вы определились?", – билетерша тоже проявляла нетерпение. "Определился. Тетенька, не подарите парочку билетиков несчастному воспитаннику детского дома?". – "Знаю я тебя, воспитанник!.. Или покупай билет, или не торчи перед кассой!". – "Я бы и рад не торчать, да не могу: вы на маму мою очень похожи… Я ее только на фотографии и видел". – "Я сказала, не морочь мне голову, охламон!". – "Хорошо, я согласен морочить вам не голову, а что-нибудь другое. Все-все, молчу! Один на "Сюрприз", пожалуйста". Он был уверен, что эти трое купили билеты на "Сюрприз": после того, как перестало биться большое механическое сердце "чертова колеса", "Сюрприз" считался у юных завсегдатаев парка самым популярным и экстремальным аттракционом.
Интуиция не подвела его. Перс и Кол уже заняли свои места по обе стороны от Ники, когда чуть запыхавшийся Тэтэ, взбежав по лесенке, вошел в зарешеченную центрифугу с частоколом стоячих кабинок. Высшим шиком у мальчишек считалась отстегнутая от поручня кабинки защитная цепь в тот самый момент, когда вцепившаяся в днище карусели стальная лапа с поршневым суставом вздымала в воздух бешено вращающийся диск, наклоняя его, словно блюдце. Особой надобности в защитной цепи, конечно, и так не было: ее с успехом заменяла центробежная сила, деспотично вдавливающая пассажиров в стенки кабинок. Все это знали, но не все осмеливались отринуть цепи, создающие иллюзию страховки: с цепью наперевес было все же не так жутко нестись к земле, схватившись за спасительные скобы поручней. Тем более, после трагедии на "чертовом колесе".
Толик занял место на противоположной от Ники стороне круга – аккурат напротив нее, чтобы он во время полета мог видеть ее глаза, а она – его доблесть. Таким нехитрым способом Толик, помимо прочего, надеялся реабилитироваться перед ней за июльский позор в пионерлагере. Он был уверен, что она помнит об этом. Но она, похоже, по-прежнему не желала помнить о том, что он есть на белом свете, и упорно не глядела на него. А когда диск с полураскрытым остроконечным цветком в середине начал плавно взмывать, и вовсе повернула голову вбок – к Персу. Только это и видел распятый в своей кабинке Толик – ее летящий сквозь Вселенную египетский профиль, закрытые глаза и улыбку на губах. Волосы упали на ее лицо пушистым крылом. "Повернись ко мне, ну, пожалуйста, повернись, посмотри на меня, я же люблю тебя", – хотелось сказать Тэтэ. Впрочем, почему "хотелось": он неожиданно понял, что говорит это вслух, почти кричит – благо соседние кабинки были пусты, и никто не мог его услышать. Но что ему до всех!.. Главное, что она не могла его услышать.
Когда карусель вернулась в горизонтальную плоскость и, постепенно замедлив движение, остановилась, Ника засмеялась и, опустив голову, закрыла лицо руками. "Ужас!.. Руки дрожат", – сказала она Персу. "Лишь бы не ноги, – с готовностью откликнулся тот. – Важно, что идти можешь. Или не можешь? Тогда мы тебя с Коляном понесем". – "Могу идти, могу!". На Толика они все так же не смотрели.
Изнывая от тоски и досады, он сидел после этого на лавочке, обложившись их дипломатами, как пассажир в зале ожидания на вокзале ("Покараулишь наши чемоданы, Анатоль? Ты ведь все равно не катаешься. Спасибо, ты настоящий друг!"), и понуро следил за тем, как Ника уносится в небо в брюхатой ладье качелей, как кружится на карусели вокруг столба с цепями-стропами, и настигающий Перс что-то игриво орет ей в спину.
Вернувшись, они, гикая, рухнули на лавку рядом с Тэтэ. "Накатались?", – стараясь выглядеть равнодушным, спросил Толик. "Пока не знаем, – ответил Перс. – А ты что-то какой-то меланхоличный, нет?". – "Лучше быть меланхоличным, чем мелким, холеричным и двуличным". – "Не спорю, не спорю. А это ты сейчас вообще о ком?" (в голосе Перса зазвучали взрывоопасные нотки). – "Да это я так, вообще". – "А-а, вообще… Ну, тебе виднее". – "Хотя ты знаешь, двуличным, например, можно назвать твой пиджак, потому как его почтили своим присутствием сразу две небезызвестные личности – Ленин на комсомольском значке и Кастро". – "Дался тебе этот значок!.. Попрошу отца, чтобы в следующий раз привез еще один такой, и подарю тебе". – "Не стоит, ну, что ты: это перебор – два Фиделя для одного класса. Даже если это рабочий класс". – "Ну, тогда кого-нибудь другого подарю. Надо только подумать – кого. Че Гевару не получится подарить: он на СССР бочку катил, так что проблемы могут быть с таким значком. Да и не привезет его отец, нечего и обсуждать. Тогда кого, кого же подарить?.. А вот не хочешь ли, к примеру, товарища Цеденбала – главного монгольского коммуниста? У меня есть значок с его портретом". – "Цеденбал там правит бал?.. Нет, спасибо, не люблю монголов – со времен татаро-монгольского ига". – "Как знаешь, Анатоль. Ну что, ребята, предлагаю пойти к пруду и отчалить от родимой земли!". "Отличная идея! – подхватил Тэтэ. – Идем". "Извини, а ты с нами собрался?", – Перс продолжал паясничать, напуская на себя пантомимически удивленный вид. – "Да, с вами. А ты, что, против? Платить за меня не хочешь? Не переживай, я тебе завтра же отдам свою долю – всю до копейки". – "Да о чем ты, какие деньги… Проблема в другом: четверым в лодке будет тесно. Если, конечно, четвертый – не собака, как у Джерома. Шутка, не обижайся. Ну, правда, Толян, ты же знаешь: в лодке всего две ма-асенькие скамеечки. На носу сидит тот, кто гребет. Полагаю, им будет Кол. Он просто создан для гребли. Не возражаешь, Кол?". – "Не возражаю". – "Вот. А на другой сидушечке место как раз только для двоих есть, троим уже никак. Я же не могу тебя на колени посадить". – "Я могу посадить на колени Нику". "Я ни у кого на коленях сидеть не собираюсь", – она в первый раз посмотрела на Толика. – "Тогда мы можем грести вдвоем с Колом, каждый – своим веслом" (Толик понимал, что пустопорожний разговор пора бы уже прекратить, признать, в конце концов, свое сегодняшнее поражение, развернуться и уйти, но по инерции продолжал словесную перестрелку, загоняя себя в угол). "Каждому по веслу? Ну, это уже какие-то рабы на галерах получаются, – Перс упивался уже вторым за день дурацким положением Тэтэ. – Кол, тебе хочется грести одним веслом?". – "Это только у девушек бывает одно весло. Да и то – у гипсовых". – "Вот видишь, Анатоль, Кол не хочет. Как ни крути, все-таки ты – лишний". – "А я вот, знаешь ли, не думаю, что я – лишний. Не станешь же ты, Перс, бросать меня за борт, как персидскую княжну, если я сяду в лодку?". – "Конечно, не стану. Садись, куда хочешь. А мы втроем сядем в другую лодку". Вот он, тот самый угол дискуссии, в котором неминуемо должен был оказаться упрямый влюбленный. Дальше двигаться некуда. Тэтэ беспомощно замолчал. "Анатоль, если все же решишь остаться на берегу, может, постережешь наши вещички? – невинно спросил Перс. – У тебя это хорошо получается". – "Я вам камера хранения, что ли?!" – "Мы же тебя по-дружески просим… Ну, не хочешь, как хочешь. Тогда просто жди нас на пристани, как моряков жены ждут. Как там в этом стихотворении… "Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть…". – "…Желтые дожди. Непременно дождусь. Семь футов под килем вам!". – "Спасибо, Анатоль!".
Удаляясь по направлению к лодочной станции, Перс несколько раз обернулся к покинутому Тэтэ и прощально потряс над головой сложенными в замок ладонями. Ника не обернулась ни разу. Дальше торчать в парке не было смысла: эти трое могли целый час рассекать вонючие просторы пруда. Получив второй нокдаун за день, Толик посидел еще немного, плевками выкладывая на асфальте букву "П", затем поднялся и побрел к выходу. На столике у пивного ларька наблюдалось столпотворение кружек, а мужчины, обнявшись, одновременно что-то втолковывали друг другу. Дверь в сторожку какой-то обалдуй подпер снаружи палкой. Толик заглянул в окно: Валерьяныч лежал на топчане, отвернувшись лицом к стене. Толик вышиб ногой палку, обернулся и сказал: "Сам ты – собака кучерявая!".



