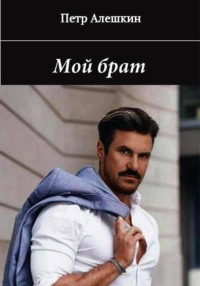Полная версия
Расправа и расплата
– А дела? Начальство?
– Да, отец, у нас новость. Редактор наш в обком партии ушел. На повышение. Жалко, мужик неплохой, смелый… Сейчас дрожим, сядет жлоб, будет начальству в рот смотреть, пропадем… Кстати, материал твой запустили, в следующем номере читай.
Анохин часто печатался у них в газете, привык, принимал, как должное, потому и не всколыхнулась душа, как бывало раньше при известиях о принятых к публикации своих статей.
– А кого прочат в редакторы? Зама? – спросил он.
– Нет, староват. Молодого хотят, комсомольского возраста. А заму под сорок. Тоже пора уходить.
– Ну, старик, действуй! – воскликнул шутливо Анохин. – Все козыри в твоих руках… А меня сюда посадишь, – кивнул он на стул, на котором сидел Перелыгин. – А то я как увижу тебя на нем, так сразу мысль – как он только тебя выдерживает, не рассыпается. У редактора-то кресло, да, наверно, на колесиках.
– Точно! – захохотал Перелыгин. – Это идея! Тогда мы с тобой из пивбара вылезать не будем…
Анохин угадал то, чем жил последние дни Алексей Перелыгин. С бывшим редактором у него были хорошие отношения, и они договорились, что тот, уходя, посоветует посадить на свое место Перелыгина. И редактор сдержал слово, назвал его кандидатуру. Говорил потом Алексею, что, будто бы, к его имени отнеслись благосклонно. Перелыгин утром сегодня выяснил осторожненько в отделе кадров, что дело его затребовали наверх. От того-то и был он так возбужден, от того-то и встретил так радостно Анохина, но после слов Николая пытался свести разговор к шутке. Не хотелось, что Николай знал. Вдруг сорвется. Неудобно, подумает, что его не ценят. А получится, узнает – придет время. А может, действительно, предложить на свое место Анохина? Вообще-то народная мудрость не рекомендует друзей подчиненными делать.
Они посмеялись, пошутили, представляя, где и как они будут делать газету, потом Алексей все также шутливо спросил:
– А чего ты, отец, смеешься, а глаза грустные? Жалко с холостяцкой жизнью расставаться?
И сразу Анохин вспомнил Ачкасова. Да и забывал ли он его?
Шутил, смеялся, а в глубине души тяжко было, давило. Николай хотел подхватить шутку о своей холостяцкой жизни, но не смог, махнул рукой, поскучнел.
Перелыгин тоже посерьезнел, спросил с участием:
– Случилось что? Помощь нужна? Я помогу…
«Отшутиться? Рассказать? – думал Анохин. – Поделиться тяжестью? А нужно ли?.. Может, он подскажет, что делать? Поможет? Одному тяжко. Зине нельзя об этом… А больше некому!».
Вошел бы сейчас кто в комнату, или телефон зазвонил, отвлек бы Перелыгина, и Анохин тогда не решился бы рассказать об Ачкасове, о документах, сам бы распорядился ими, и судьба его неизвестно бы как сложилась. Но никто не вошел, не позвонил, сидел Перелыгин, смотрел на Николая доброжелательно, с готовностью помочь, поддержать друга, и Анохин стал рассказывать. Рассказывал о своей статье, казавшейся теперь ему наивной, словно он пытался свалить медведя иголкой, о неожиданной смерти начальника милиции Саяпина, о приезде к нему Ачкасова, о документах, о пленке, об утренней встрече с Сарычевым. Перелыгин слушал, морщился, хмурился.
– Дело серьезное… Обмозговать надо. Да-а… Пленка у тебя с собой?
– Нет… Я думаю, может, рассказать Климанову?
– Не, не надо. Ачкасов правильно думал, в Москву надо… И не ждать, пока тебя ухлопают!
– Меня?! – воскликнул Анохин.
– Не меня же?.. А может, и меня… – побледнел, пробормотал Перелыгин. Лицо его стало растерянным. – Ты не тяни, поскорей в Москву… И не трепись, что говорил мне… Зачем… А если помочь чем могу, я всегда рад, – добавил он быстро.
Если бы Анохин был более собран сейчас, он бы увидел, что Перелыгин помощник плохой, и пожалел бы, что рассказал. Но Николай только теперь понял, в какой он опасности. Раньше он был потрясен услышанным от Ачкасова, потом его смертью, догадкой, что это не несчастный случай, а убийство, не думал о себе.
– Считаешь… они узнают, что он у меня был? – спросил Анохин совершенно спокойно.
– Теперь копают… Папку-то с документами при нем, должно быть, нашли. Значит, поймут, что он документы кому-то показывал. А кому он еще мог в общежитии показывать? Кто там живет?
– Рабочие сахзавода.
– Ну вот, кому же, как не тебе… Смотри, нужно опередить.
– Сарычев говорил, что у Ачкасова любовница там… Могут подумать, что он у нее папку хранил, взял и…
– Наивный ты. У девки теперь сорок раз выяснили, был или не был у нее Ачкасов. С папкой или без…
Странно, чем яснее становилось Анохину, что за ним могут начать охотиться, тем спокойнее, собранней, уверенней становился он. Надо действовать, и он будет действовать.
– Они, конечно, не узнают, – продолжал рассуждать взволнованно Перелыгин, – о чем вы говорили, а о пленке тем более… А если никто не видел, как он в твою комнату входил, то и не узнают, что он у тебя был, пока ты сам не признаешься… А тебе признаваться резону нет. Я бы не признался, даже если кто видел… Или сказал бы, что заглядывал, спрашивал, не видел ли я коменданта общежития… Или еще что-нибудь. Спросил и ушел. Тут нужно готовым быть к любым вопросам. Обдумать все…
Анохин смотрел на растерянное бледное лицо всегда уверенного друга, хотел поймать его взгляд, чтоб пошутить, улыбнуться, но никак не мог это сделать. Взгляд Перелыгина ни на секунду не останавливался ни на каком предмете, скользил по столу – с газеты на рукопись, с рукописи на письмо, с письма на ручку, которую он ломал своими толстыми пальцами, она гнулась, готова была вот-вот треснуть, с ручки – на грудь Анохина.
Таким Николай никогда его не видел. Обычно Перелыгин говорил со всеми добродушным покровительственным тоном, часто называл собеседника «отцом», а если разговаривал с несколькими приятелями, говорил им «отцы». Слова его от этого становились ироничней. А сейчас он ни разу не произнес слова «отец», выглядел каким-то сморщенным и жалким, словно огромный шар, из которого немного выпустили воздух. И чем больше говорил, бормотал Перелыгин, тем ироничней, уверенней становился Анохин. Наконец, не выдержал бормотанья друга, перебил покровительственным тоном:
– Ничего, сын, не бойся! Вдвоем мы их быстро возьмем за жабры…
Перелыгин запнулся на полуслове, поднял глаза на Анохина. Во взгляде его читалась надежда, что Николай разыграл его. Он готов был улыбнуться, хохотнуть. Анохин понял это и добавил:
– Пусть они нас боятся, у нас руки чистые… Ты меня убедил, нужно действовать! Завтра я беру отпуск за свой счет до конца недели, и в Москву. Жаль, что пленку не взял, а то бы прямо отсюда махнул. Прохлаждаться нечего… О том, что ты в курсе, я молчу. Ты, как бы в засаде будешь…
– А что я… – снова потускнел взгляд у Перелыгина. – Я даже документы не видел.
– Я тебе покажу, заеду…
– Зачем?!
– Верно, зачем время терять. Ты мне и так веришь. – Анохин глянул на часы, поднялся, протянул руку Перелыгину. – Спасибо тебе, сын, за поддержку… Меня в двенадцать Климанов ждет. Бегу… Я позвоню. Мы с Зиной заявление подаем сегодня. Отметим… Зови Любу…
Последние слова Анохин говорил от двери. Молчаливый, растерянный Перелыгин провожал его глазами, сидя на своем стуле.
5. Климанов
Когда высокая тяжелая дверь с тугой пружиной вытолкнула Николая на тротуар Советской улицы, он не ощущал в душе прежней тяжести, тревоги. Было немного грустно, но вместе с тем хотелось действовать.
День уж раскалился вовсю. Палил, жарил. Асфальт на тротуаре мягким стал, истыкан был острыми женскими каблуками, чувствовалось, что часам к двум в городе будет одуряющая духота.
Троллейбусная остановка была рядом, возле угла. Приехал в облисполком Анохин чуть раньше двенадцати, поднялся на второй этаж. Секретарша, высокая женщина с маленьким загорелым лицом, но с таким большим каштановым шиньоном на затылке, что казалось, что у нее две головы, нагроможденными одна на другую, сказала, что Климанов один, потом поднялась, приоткрыла дверь и сунула в щель обе свои головы:
– Сергей Никифорович, Анохин…
– Пусть входит, – услышал Николай тотчас энергичный упругий голос председателя.
Секретарша шире распахнула дверь перед Анохиным и тихонько бесшумно прикрыла, когда он вошел в кабинет.
Сергей Никифорович быстро поднялся из зеленого кресла с высокой спинкой, похожего на сиденье автобусов дальнего следования энергичным шагом обошел стол и с радушной улыбкой пожал руку Анохину. От первой трехгодичной давности встречи у Николая осталось впечатление, что Климанов довольно высокого роста, сдержан, нетороплив, но сейчас перед ним был иной человек? Роста не такого уж высокого, кругленький, видно, раздался за эти три года, улыбчивый, бодрый, приветливый, довольный жизнью, своим местом в ней.
– Давненько я хотел с вами покалякать, поближе познакомиться, – говорил Сергей Никифорович.
Он откатил невысокое кресло от маленького полированного столика, приткнувшегося боком к массивному широкому столу председателя, пригласил рукой садиться и вернулся на свое место.
– Давненько, да недосуг… Материалы ваши в тамбовских газетах читаю. Верный читатель ваш, так сказать. За Уваровской газетой не всегда следить успеваю, а здесь читаю, читаю… Как работается-то? Как живется?
– Хорошо. Жаловаться стыдно… Забот много, да у кого их нет. Это жизнь, нормальная жизнь…
– Верно, верно. И забот, и недостатков еще полно. Вы молодцом: вижу, читаю, слышу, как воюете с местными бюрократами, – улыбался Сергей Никифорович.
– Недостатков хватает, – поддакнул Анохин. – Перо сушить рано.
Он чувствовал себя скованно, напряженно, ждал, к чему приведет этот разговор, Не затем же его вызвал Климанов, чтоб узнать, как ему работается.
– Ну да, все мы люди, а не боги, ошибаемся, на рожон ослепленные лезем. Все не без темных сторон… А со своими недостатками борьба самая трудная. Главное, не видна она постороннему глазу. А с чужими недостатками – борьба на виду. И часто у нас в героях ходят те, кто с чужими недостатками воюют, а себе, то же самое, прощают…
Анохин молчал, внимательно и настороженно слушал. Его не покидало желание выбраться из мягкого кресла, в котором он утонул, только колени торчали вверх, но он не шевелился, пытался понять, к чему ведет председатель облисполкома.
– Я не о тебе говорю, – улыбался Климанов, неожиданно переходя на ты, – хотя и тебя упрекнуть можно: слишком уж темные стороны в твоих статьях выпирают. Неужели ты ничего светлого в своем районе не видишь?
Анохин решил, что на этот вопрос отвечать надо, и заговорил:
– Ну почему же…
Но Климанов перебил его, остановил каким-то мягким движением своей белой руки, поднятой над столом.
– Я понимаю, понимаю: тебе хочется поскорее избавить быт наш от всего наносного, мешающего идти к коммунизму. Это я понимаю… Потому ты и выпячиваешь, как говориться, вытаскиваешь за ушко на солнышко весь этот негатив… Но ведь нужно все соизмерять, показывать как не нужно жить и как нужно: где тупик, а где большая дорога. Без этого нельзя… Представь, что будет, если все мы начнем говорить, писать, только о том, что у нас плохо. Что же получиться? У читателя вместо борьбы с недостатками, руки опустятся. Начитается он наших речей и статей, плюнет, скажет, вовек не разгрести эту грязь, и как свинья, в ней утонет. Нет, нет, ты мне не говори… нужно, я не возражаю, нужно и под ноги смотреть, грязь показывать. Если она есть, от нее никуда не денешься. Но и на небо надо поглядывать, вдаль, на горизонт смотреть, иначе влезем в лужу, будем кружиться в ней, горбатиться и кричать: грязь, грязь кругом! – а лужайка-то зеленая рядышком, подними голову и шагни…
Анохин понимал, что это всего предисловие. Но к чему?
– А какие у тебя отношения с коллективом, с редактором? – спросил уже другим, мягким голосом Климанов, и Николай понял, что разговор переходит к главной теме.
Он шевельнулся в мягком кресле, сел удобнее. Кресло было низкое, и получилось так, что председатель облисполкома возвышался над ним, смотрел свысока своим радушным взглядом. Добрый бог, готовый миловать, поддерживать, если будешь чувствовать себя маленьким, не будешь стараться выбраться из кресла, из своего придавленного к полу положения.
– С коллективом? – переспросил Анохин. – Нормально. Я как-то не задумывался… Работаем. Ни склок, ни скандалов нет. А с редактором? Вы же его знаете… Василий Филиппович уже десять лет…
– Ну как же, знаю, знаю. Но хотелось твое мнение услышать. Я-то его знаю, как начальник, а ты как подчиненный. А это, – засмеялся Климанов, – как говорят, две большие разницы. Слышал поговорку: ты – начальник, я – дурак; я – начальник, ты – дурак.
– Василий Филиппович редактор толковый… В расцвете сил. Деловой, опытный. Приятно работать с ним. Кроме хорошего никто о нем ничего не говорит… Он не грубит, не лезет в личные дела…
– Значит, работой своей ты доволен?
– Жаловаться стыдно, – повторил Анохин.
– А мы хотели предложить тебе другую, самостоятельную. Как ты на это смотришь?
– Смотря какую?
– Ты слышал, должно быть, в комсомольской газете, где ты часто печатаешься, вакансия редактора. Я хотел тебя рекомендовать… Первый ко мне прислушивается, возражать, думаю, не станет. Комсомольцы, как всегда, скажут – есть! Ты молодой, хорошее образование, опыт журналистской работы – все на месте! Ну?
– А почему я? – нерешительно спросил Анохин, пораженный таким поворотом.
– А почему не ты? – улыбался Климанов.
– В газете ответсеком Алексей Перелыгин… тоже молодой, член партии, и коллектив его знает…
– Рассматривали его кандидатуру, это я по секрету тебе говорю, бывший редактор его предлагал, но, – взглянул вверх Климанов, – отклонил первый. Кто-то намекнул ему, мол, Перелыгин болтун и не стоек, – указал пальцем себе на шею Сергей Никифорович. – Предлагают пригласить со стороны. Я хочу, чтоб ты был. Ну как?
Анохин задумался, молча, смотрел перед собой на маленький полированный стол, на поверхности которого отражались корешки книг с полок, окно, ползали тени от тихонько покачивающихся деревьев за окном.
– Да, неожиданно, – пробормотал он.
– В нашей жизни редко что бывает ожиданно, живем от неожиданности к неожиданности. Привыкай! Сколько тебе времени нужно на размышление? Часу хватит?
– Да я уж поразмышлял… Только одно меня смущает: Алеша Перелыгин! Мы с ним приятели, не хотелось дорогу ему переходить…
– У него шансов нет, – твердо сказал Климанов.
– В таком случае… Я согласен…
– Ну, вот и ладненько, – поднялся Климанов, и Анохин тоже стал выбираться из своего кресла. – Я думаю, препятствий не будет. Сейчас же переговорю с первым секретарем обкома партии. Позвони мне часиков в пять, может, кто из твоего будущего начальства пожелает встретиться с тобой уже сегодня. Для предварительного разговора.
6. На берегу реки
Анохин ждал Зину под ивой, толстый кривой ствол которой в глубоких трещинах метрах в двух от земли делился на пять крепких отростков, тянувшихся в разные стороны, отчего крона ивы была широкой, густой. Гибкие длинные ветви свисали почти до самой травы, где лежал на спине Николай. Он устал глядеть на тропинку, круто сбегавшую меж лопухов и бурьяна с высокого берега, на котором чуть поодаль виднелась крыша здания педагогического института, куполообразное возвышение с левой стороны крыши, с острым шпилем, где раньше был крест: там раньше была внутренняя церковь института благородных девиц. Анохин лежал, закрыв глаза рукой от жаркого слепящего солнца. От реки доносился шум, визг, плеск. Вокруг слышались разговоры, а от компании подростков, расположившихся неподалеку, шлепки карт, споры, смех, подколки.
Анохин выкупался, поплавал, когда пришел из облисполкома, и сейчас его снова тянуло в воду, но он опасался, что плавки не высохнут до прихода Зины, на брюках будут мокрые следы. Ведь нужно будет идти в загс. Анохин снова перевернулся на живот, уперся локтями в траву, глянул вверх и сразу увидел на пыльной тропинке Зину. Ее бледнорозовое платье мелькало среди бурьяна, как цветок. Следом за Зиной сбегал вниз, поднимал пыль ботинками милиционер в зеленой сорочке с галстуком. Фуражку и китель он держал в руках.
Неужели Сарычев? – удивился Николай. Он поднялся, стряхнул прилипшие травинки с ног и нетерпеливо направился навстречу Зине. Сарычев догнал девушку и шел рядом. Он что-то говорил ей и улыбался как-то грустно и заискивающе. Она издали увидела Николая под ивой, которую они называли нашим деревом потому, что два года назад познакомились здесь, познакомились благодаря Перелыгину. Он тогда привел Анохина на пляж, где они встретили группу студенток пединститута. С некоторыми из них Алексей был знаком, познакомил и Николая. Может быть, Анохин не обратил бы внимания на Зину, если бы не узнал, что она из Уварово. Нашлись общие знакомые, а значит и общие темы для разговора. Постепенно они сблизились, сдружились, стали встречаться в Тамбове, когда он туда приезжал, и в Уварово, когда она бывала у родителей. Переписывались.
Сарычев увидел Николая и сразу изменился, лицо его мгновенно стало насмешливым. Он воскликнул, подходя:
– Во, куда не пойду, везде Анохин. Не Тамбов, а деревня… Я уж начинаю думать, не следишь ли ты за мной?
– Я не милиционер, – пошутил в ответ Николай.
Неприятно было почему-то видеть Зину с Сарычевым. Почему они вместе? Зачем она притащила его с собой? Или он сам увязался? Если удивился, увидев меня, значит, не знал, что она идет ко мне.
– А-а, не говори, газетчики похлеще нас. А ты вообще провидец! Ты ведь верно угадал сегодня…
Сарычев нарочно замолчал на мгновенье, сдержался, чтоб не выложить сразу свою радость, хотелось больший эффект произвести на Анохина, и кинул взгляд на Зину. Она, казалось, не слушала их, с непонятной улыбкой смотрела на купающихся, барахтающихся с визгом в воде парней и девчат.
– Что я угадал? – Николай думал об Ачкасове, о сыне председателя Ждановского колхоза.
Встреча с Сарычевым снова заставила его вспомнить вчерашний вечер.
– Мне предложили должность начальника Уваровского райотдела милиции, – быстро выпалил Сарычев.
– Тебе!?
– Мне, мне, – не скрывал своей радости Сарычев.
– И ты, конечно, отказался?
Сарычев захохотал так, словно слова Николая его забавно поразили. Отхохотавшись, спросил:
– Удивлен?
– Чему? Мне ведь тоже предложили должность главного редактора «Комсомольского знамени», – сдержанно ответил Анохин.
– Редактора? Здесь? – воскликнула с радостным удивлением Зина.
– Ты его знаешь? – глянул на нее Сарычев.
– Это он и есть… С ним мы идем в загс!
– С ним?
Сарычев сразу сник, увял, хотя улыбался по-прежнему, но улыбка была растерянной, вопросительной: не разыгрывают ли его?
– Ты хотел взглянуть на счастливчика: смотри, – улыбалась своей непонятной улыбкой Зина. – Николаша, ты знаешь, – взглянула она на Анохина. – Саша сейчас мне предложение сделал.
– Ну уж, предложение, – смахнул пот с висков пальцами Сарычев. – Жарит как. Искупнемся?.. Вот бабы пошли, – засмеялся он жалко, – сделаешь комплимент, а им кажется – замуж зовут!
– Ах, это комплимент такой? А я, дура, мучаюсь, с кем мне в загс идти? С начальником милиции или с редактором газеты, – подмигнула Зина Николаю. – Собирайся скорей, пока не передумала. Некогда купаться.
– Бегу, бегу, – подхватил ее шутку Анохин и помчался назад, к иве, где лежала его одежда.
Хоть и шутил, но неприятный осадок остался. Сарычев словно нанялся испортить ему день.
Если бы Анохин знал, что сейчас твориться в душе Сарычева, как оглушен, потрясен он тем, что Зина выходит замуж, он бы посочувствовал ему. Сарычев в последнее время думал о Зине все чаще и чаще. По вечерам она не выходила у него из головы. Жили они на одной улице, через два двора. Учились в одной школе. Зина была моложе его на пять лет, и, может, потому не обращал он на нее внимания, что в сознании Сарычева она была худой незаметной девчонкой. После школы Зина поступила в институт, уехала в Тамбов, и он ее три года не видел. Не попадалась на глаза, пока прошлой весной не столкнулся с ней возле своего дома. Заехал пообедать, выскочил из машины, а она идет мимо в легком голубеньком платье, помахивает веткой сирени, смотрит на него, улыбается:
– Здравствуй!
– Зиночка! – ахнул он, ошарашенный ее весенней свежестью, красотой. – Ты ли это?
– Я, – засмеялась, засветилась девушка. – Не узнал, зазнался?
– Как хороша! Встретил бы в Тамбове, сроду бы не узнал. Как располнела!
– Ну, уж, располнела. Скажете…
– Не располнела, это я неточно, извини… Налилась, как вишня, схамать хочется! Скоро заканчиваешь учебу?
– Год еще.
– А потом куда? Назад?
– Обещают в нашу школу взять.
– Ну и работку ты себе придумала? Всю жизнь в школе.
– А у вас лучше?
– Чего ты меня на вы, прямо неудобно. Разве я дед?
– Ага, – глянула на его погоны девушка. – Капитан.
– Капитан, капитан, улыбнитесь, – пропел слушавший их разговор шофер, посматривая на них из милицейского «москвича».
Зина поразила Сарычева тогда, да и шофер подлил масла. Когда возвращались, он сказал: «Хороша соседка у тебя!.. А какими восхищенными глазами она на тебя смотрела!» «Брось!» – засмеялся Сарычев, а самому радостно стало. «Вернется в Уварово, надо заняться!» – решил он, и с тех пор стал представлять Зину рядом с собой, представит и теплее становится на душе, нежность затопляет. «Неужели влюбился? – усмехался он над собой. – Надо жениться тогда!».
Ему почему-то и в голову не приходило, что она может с кем-то встречаться, любить кого-то. Сам он ни в ранней юности, ни сейчас не увлекался девчонками, не занимали они его воображения. Жажда приключений, преодоление опасности – этим он болел с детства. В милиции жажду эту он смог утолить. Полюбилась ему власть над людьми, нравилось видеть, чувствовать, что как только он появляется в многолюдном месте, уверенный, подтянутый, строгий, но и ироничный, так многоголосый шум вокруг сразу затихает, почтительно замирает.
Но Сарычев вместе с тем больше всего боялся показаться унтерпришибеевым, поэтому голоса на толпу никогда не повышал, а если надо было какую-нибудь подвыпившую орду разогнать, подходил к ней, как всегда, уверенно и обращался не ко всем, а к кому-нибудь одному из особенно активных, знал в городе почти всех, обращался спокойно, с улыбкой, с юмором, любил, когда ему отвечали, любил состязаться в подначках, понимал, что его милицейский мундир, его положение, сковывают языки остряков, волей-неволей чувствуют они границы, а у него, естественно, выбор для острот неограниченный. Но если кто-нибудь по пьянке забывался, дерзил, укалывал его самолюбие, он тут же спрашивал тихо, но быстро:
– Отдохнуть от запоя захотелось, повкалывать?
Если с ним был кто-нибудь из рядовых милиционеров, оборачивался, звал негромко:
– Илюшин! – или: – Оглобин! – смотря кто с ним был.
А когда Илюшин или Оглобин подлетал к нему с таким видом, будто готов крушить все вокруг, бить морды, выламывать руки, этот миг Сарычев тоже любил, – он говорил спокойно:
– Шустряев нарушает общественный порядок. Возьми!
Шустряев бросался удирать, а длинноногий молодой Оглобин с яростным видом дергался за ним, уверенный, что нет в Уварово человека, способного убежать от него. Но Сарычев сдерживал, говоря:
– Спокойно, Оглобин, спокойно! Куда он денется, свидетелей-то сколько, – обводил он улыбчивым взглядом сразу становившуюся молчаливой орду и чуть громче спрашивал: – Ну, кто добровольно хочет быть свидетелем?
Желающих не находилось. Орда мгновенно рассасывалась, что и требовалось. Но Сарычев делал вид, что огорчен, взывал:
– Куда же вы? Куда? Что же вы такие несознательные? На ваших глазах нарушают общественный порядок, а вы в кусты… Неудахин, Просандеев, где же ваша гражданская совесть?
Неудахин и Просандев убыстряли шаги, опасаясь, что именно они станут свидетелями. Сколько случаев было, когда вызывают как свидетеля, а возвращаешься через пятнадцать суток. Убежавший Шустряев долго потом избегал встреч с Сарычевым, а если вновь попадался на глаза среди пьяной оравы, то уже не дерзил, не вступал в спор, когда к нему обращался Сарычев.
Отметили в городке быстро и то, что не всех трогает Сарычев. Как бы, например, не озоровал, не хорохорился, не выделялся дерзостью среди пьяной орды Мишка Семенцов, сын директора трикотажной фабрики, молодой парень по прозвищу Сын вселенной: он уже побывал на нескольких ударных стройках, откуда возвращался быстро, месяца через три-четыре, работал и в Тольятти, где строился автомобильный завод, так вот, как бы он ни озоровал, Сарычев никогда не обращался к нему, будто бы не был с ним знаком.
Справедливости ради стоит отметить, что Мишка со своей стороны, как бы ни был пьян, старался не дерзить Сарычеву. Между ними как бы был нейтралитет, негласное соглашение: я тебя не трону, и ты меня не трогай!