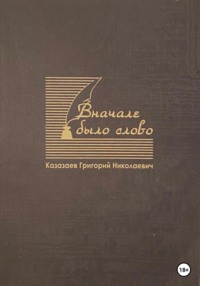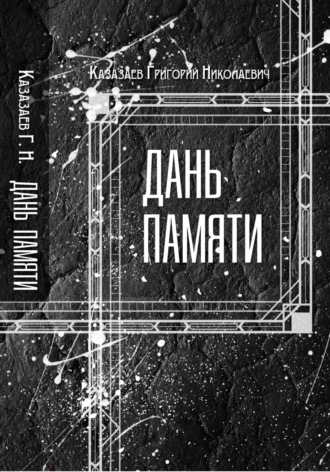
Полная версия
Дань памяти
Дед Николай, по окончании службы, точнее по возвращении из госпиталя домой, вскоре женился, взяв в жены односельчанку Костылеву Марфу Михайловну и осенью 1918 года 25 сентября родился их первенец- сын, мой дядя Григорий. В начале семья проживала на съемной квартире в своей «слободе», как тогда назывался поселок, у своих близких родичей, и родители жены, мои прадеды, после рождения первенца- внука, купили семье небольшое подворье у Патрикеев, с остатками старого сада в три яблони и маленьким домом- избушкой.
В 1919 году 25 ноября, родился второй сын, Николай, названный при крещении именем своего небесного покровителя Чудотворца Св. Николы Угодника. Бабушка Марфа моя была очень набожна и строго соблюдала церковные правила и каноны. Поэтому и Именины у сыновей отмечались строго 13 октября, на Покров, у Григория, и 19-го декабря у моего отца, – на Николу! В честь рождения сыновей, два- три года спустя, дед посадил в саду на подворье деревце, саженец –дуб, два тоненьких прутика, растущие от одного корня, объявив: – Это – сын Николай, а это- сын мой Григорий!
Когда Григорию исполнился год, его отдали на воспитание и содержание родителям Марфы Михайловны. Семья моего прадеда по бабушке Марфе считалась в то время довольно зажиточной, – держали и резали скот, продавая в базарные дни и на ярмарках, вели устойчивое крепкое хозяйство. Дом – пятистенок имели, видный, большой, на высоком холме, с резными карнизами, белыми ставнями. В доме- добротная мебель, предметы домашнего быта, посуда, иконы старинные. В комнате, под потолком, стеклянная керосиновая лампа под голубым абажуром, в массивной подвеске, на тонких латунных цепях, часы фирмы Павла Буре на стене. Медный большой самовар завода Почетных граждан братьев Воронцовых в Туле с десятком медалей Всероссийских и Заграничных выставок, с ликами Императоров Российских и датами проведения таковых, служил семье, не взирая на возраст. Швейная ножная машина компании Зингер на литой чугунной подставке- платформе была гордостью бабушки Саши. В чулане хранилась старинная стрелка- весы, с массой гирек и гирь, от огромной, в два пуда, до крохотной, в четверть фунта. Все это в душу запало, запомнилось братьям с далекого раннего детства. (Дом прадеда не сохранился. В 1943 году, в числе прочих домов в поселке, был сожжен немецкой зондер- командой при отступлении, бегстве за Днепр. Прим. Авт.)
*******
Дядя Григорий воспитывался у своих дедушки с бабушкой лет до шести. Чтобы проведать старшего сына, а, за одно, и родителей, по воскресным дням и в праздники дед Николай и бабушка Марфа ходили к ним в гости.
Мой отец вспоминал: -…Я любил, сидя у родителей на руках, закрыть при этом глаза, и по прошествии какого-то времени, вдруг очутиться на пороге гостеприимного дома, в объятиях деда и любящей бабушки Саши, души не
чаявших от радостной встречи со внуком.
С трех- четырех летнего возраста я начал уже хорошо себя помнить. Первое чувство детского страха, которое я испытал, относится к этому возрасту. Как- то зимой, будучи лет пяти от роду, я стал проситься у матери отвести меня к деду и к бабушке, чтобы увидится с Гринькой, по которому очень соскучился. Мать долго не соглашалась, ссылаясь на непогоду, разыгравшуюся на улице, и тогда я заявил, что пойду к брату сам! Собравшись, одев пальтишко и валенки, шапку, вышел из дома, но, едва отойдя от калитки, утонул в первом глубоком сугробе, не доставая ногами до твердой земли, повис на руках, раскинув их в стороны, растерялся, не зная, как дальше вести себя и не имея возможности двигаться ни дальше вперед, ни вернуться обратно. Не видя при том, что мать неотрывно следила за мной, наблюдала, пока сама, сжалившись над беспомощностью ребенка, не вызволила меня из сугроба, из снежного плена. Этот день навсегда мне запомнился, врезался в детскую память.
Когда сыновья подросли, семья переехала в Киев, по месту работы кормильца-отца. Жили на Трухановом острове в полуподвале кирпичного старого дома. Глава семьи сплавлял здесь плоты с верховий Днепра и до Киева, так же вязали и гнали плоты по Десне и по Припяти, по рекам Березина и Сожь, будучи на сезонной артельной работе и тем добывали свой хлеб. Мать занималась детьми и домашним хозяйством.
Наступил тот период, когда детьми постигалась большая реальная жизнь, изучался таинственный окружающий мир, с его открытиями, радостями, разочарованиями и надеждами. Сильны впечатления детства, произошедшие однажды и оставшиеся в памяти навсегда.
– Как-то с матерью вышли однажды на пристань, встречать отца, и я прихватил с собой из дома пустую катушку от ниток, представляя, как брошу игрушку на воду, и она покатится по гладкой поверхности далеко- далеко, как катается по столу, так тогда думалось. Каково было разочарование, когда катушка не покатилась, как представлялось, а поплыла по воде с расходящимися в стороны кругами…
Здесь же в Киеве дети пошли в школу. Писали первые буквы, запоминали стихи, наряду с русским родным языком изучали украинский: «А я у гай ходила По квитку-ось яку! А там дэрэва люли И всэ отак зозули –Ку-ку, ку- ку, ку- ку!…» Яркие воспоминания детства, запавшие в детскую память и душу на всю жизнь, с первыми уроками, с любимой первой учительницей у школьной черной доски.
Неустроенность быта заставила семью покинуть город Киев и вернуться обратно в поселок, домой. Постоянная влага и сырость в занимаемом под жилье помещении, стала пагубно сказываться на здоровье детей, дети стали часто болеть. У Григория появился не проходящий болезненный кашель, а у младшего, Николая врачи обнаружили в начальной стадии заболевание легких. Условия жизни и быта необходимо было срочно менять, семья переехала в Радуль, вернулась в родные места.
Дети продолжали учиться и приобщались к труду. Отец вспоминал: -Десяти –двенадцати лет, мы с братом сидели уже летом в «дубе» (большая просторная лодка, служившая в качестве жилья лесосплавщикам), помогая отцу по работе. Таскали якорь, гребли на веслах, делали другую, самую разнообразную хозяйственную работу, выполняя поручения старших.
–Как- то батька прозевал, упустил момент направить по нужному руслу плоты, и сильным течением их увлекло в Черторой, – то- то, было впоследствии всем и забот, и волнений исправить оплошность!
Повзрослев, с такими же подростками, как и сами, мы выполняли уже более сложную, серьезную работу: вязали бревна в плоты, учитывая требования сортировки, а, будучи по возрасту пятнадцати лет, я уже выполнял обязанности по нормировке на лесосплаве, где занимался маркировкой леса по размерам и качеству, – измерял диаметр ствола по комлю, на срезе делал пометки, сортируя так древесину. В 1937-м году с односельчанами работал в г. Перьмь на реке Кама, а год спустя, и за Заполярным Кругом в Кандалакше и Княжой.
Прибыв в Кандалакшу на вырубку леса с артелью односельчан, мы заблудились в лесу и долго плутали, разыскивая дорогу, ведущую на разработки. К нужному месту вышли по старым зарубкам на стволах деревьев, оставленных когда-то давно почтальоном. Здесь, как оказалось, старания наши были напрасны. Заключенные, работавшие на вырубке леса, многозначительно дали понять- место занято и делать «пришельцам» здесь нечего! Спорить было бессмысленно и не безопасно, – пришлось подыскивать новый участок работы, – не такой уж доходный, зато безопасный и свой!
С заработков возвращались через Москву, имея при себе определенную сумму денег за сезонный оплаченный труд, предполагая в столице сделать перед дорогой домой необходимые небольшие покупки. В торговых рядах огромного магазина на Красной Площади, больше напоминавшего собою дворец, собрался купить кое-что из одежды, изрядно за лето поистрепавшейся на заготовках. Брюки мои ниже колен висели лохмотьями, на ногах-полуразвалившиеся парусиновые башмаки с подвязанными бечевкой подошвами. У большого прилавка, присматриваясь и выбирая покупки, услышал взволнованный сдавленный шепот: -«Смотри, осторожно! Босяк!» Молодая, прилично одетая женщина в шляпке, дернула за рукав стоявшую рядом соседку. Стало так стыдно, неловко, с лицом, заливаемом краской стыда, ничего не купив, чуть ли не выбежал из магазина. Обидные несправедливые фразы красивой взволнованной горожанки еще долго звучали в ушах!
С приходом осени продолжил учебу. Учился охотно, любил историю, литературу, много читал. В библиотеке брал книги Толстого и Гоголя, почти наизусть знал полюбившиеся рассказы и повести Чехова, увлекался фантастикой Жюль Верна и Герберта Уэлса, мысленно путешествуя с капитаном Гатерассом на Северный Полюс, или с капитаном Немо проплывал 20 тысяч лье под водой. Чуть позже прочитанная книга Т. Драйзера «Американская Трагедия» надолго оставила в душе и в сознании неизгладимое впечатление, незабываемый след. Но особенно полюбилась, невольно соприкоснулась с собственной жизнью повесть Ал. Неверова «Ташкент-город хлебный», поведавшая о судьбе и приключениях подростка Мишки Додонова, уехавшего в голодные годы вместе с товарищем в г. Ташкент, спасаясь от смерти, добывать горький хлеб.
– Не знал я тогда, что с этим восточным загадочным городом впоследствии, пусть не на долго, свяжет меня моя личная жизнь и судьба!
В это же время, быть может, чуть раньше, отец написал стихотворение, в содержании его говорилось о Троцком, бывшем видном деятеле СССР, о его пребывании в политической эмиграции за границей.
«Был я раньше за вас, а теперь – против вас, А теперь «монета гонит», я не знаю, «що робить», А буржуи только просят: – Напиши-ка про Союз!»
Стих был на злобу дня, с идеологической подоплекой, и отец показал его учительнице русского языка, втайне гордясь своим вдохновенным творением.
Учительница за стих похвалила, сказала, что политический смысл схвачен правильно, но, вот, по форме, по рифме в стихах, до Пушкина автору, конечно, еще далеко!
Больше отец стихов не писал. Зато увлекся шахматами, и быстро научился играть. Вечерами ходил в клуб и садился за партию с таким же «гроссмейстером», как и сам, в точности повторяя все его ходы и комбинации, освоил в несколько вечеров премудрость серьезной игры. Память была превосходная. С необыкновенной радостью и большим удовольствием смотрели в переполненном сельском клубе все довоенные фильмы- Веселые ребята», «Волга- Волга», «Свинарка и пастух», «Юность Максима», «Путевка в жизнь», «Мы из Кронштадта», «Человек с ружьем», «Цирк», а потом сами с удовольствием распевали заученные наизусть понравившиеся песни. По фамилиям и именам знали любимых актеров, а, так – же, всех киногероев. Каждый такой новый фильм был великим событием! Перед фильмом, как правило, шел киножурнал: в небе, на киноэкране, летели стремительные самолеты со звездами на крыльях, мчались могучие танки, сметая врага на пути, неудержимой лавиной катилась красная конница, в атаку поднимались бойцы, грохотали орудия. Только что победоносно закончились боевые действия у озера Хасан и на реке Халхин-Гол против милитаристской Японии, о славной победе РККа торжественно повествовали страницы центральных газет, вещалось по радио. Сердца переполнялись гордостью за родную Красную Армию, с восторгом везде разносились боевые походные песни, звучавшие из репродукторов и с экранов кино.
В 1939 году на экраны страны вышел фильм «Трактористы». С воодушевлением, как клятву, везде повторяли напев неразлучных друзей- трактористов, мирных землепашцев и сеятелей, готовых в любую минуту по приказу Родины сесть за рычаги боевой быстроходной машины и ринуться в бой на врага.
«Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И Первый Маршал в бой нас поведет!»
Не могли себе братья представить тогда, что и для них уже пошита военная танкистская форма. Шел тревожный 1939год!
Воспитанные на героике и патриотизме сурового времени, как и другие их сверстники, братья были не чужды и ратному подвигу. Не даром самым любимым фильмом для них оставался «Чапаев»! Фильм учил героизму и мужеству, задевая при этом самые тонкие струны души.
Вспоминается эпизод из раннего детства отца, где в то уже время у него проявились волевые, не детские твердые качества в детском характере.
Как-то с братом Григорием обнаружили в чулане огромный глиняный горшок со сливовым вареньем, заготовленном матерью на зиму в прок. Братья тут же отведали лакомства, да так и повадились приложиться время от времени к заветному горшку, снять ежедневную пробу, аккуратно заглаживая при этом деревянной ложкой поверхность варенья, чтоб не бросалась в глаза недостача. Варенье катастрофически убывало, таяло на глазах, и вот наступил «ужасающий» день, когда «заглаживать», практически, уже было нечего. Вот тут- то мать и хватилась пропажи.
Пугающая хворостина в руках матери сулила суровое наказание, и братья, пытаясь хотя бы не устранить, а отсрочить возмездие, пустились до ночи «в бега». Днем как- то было еще ничего, но сгустившиеся сумерки, обостренное чувство не проходящего, а усиливающегося с каждым часом голода заставили все же вернуться с повинной домой.
Однако, не тут – то было! Двери дома оказались заперты изнутри, в окнах погашен был свет. Всплыло на поверхность сознания поутихшее чувство вины, страх неотвратимого наказания за данный проступок усилился. Стали стучаться, но мать не открывала, будто не слышала. Григорий уже во всю колотил кулаками в закрытую дверь, просился не робко уже, а в отчаянии-мамочка, родненькая, открой нам, пусти, мы никогда больше не будем…!
Николай стоял, точно вкопанный.
– Николка, стучись, проси мамку, чтобы открыла! Будем прощения просить!
–Не буду стучать! Я- красный партизан, а партизаны «врагу» не сдаются!
И когда услыхал, как мать отпирает засов, бросился напрочь от двери. Мать впустила Григория, и отчитав за проступок, но спокойно, уже без азарта, заперла снова дверь.
Николай постоял у порога, потоптался у запертой двери, не имея надежды на то, что его тут же пустят домой, решил подыскать себе место ночлега. По лестнице забрался на полати в сарай, где держали корову, а на насесте устроились куры, зарылся в мягкое сено. Пахло свежим навозом, парным молоком. Слушая, как внизу возятся беспокойные куры, потревоженные его поздним «визитом», вскорости согрелся и незаметно уснул. Мать, обеспокоенная долгим отсутствием младшего сына, немного еще подождав, сама отправилась на его поиски. Звала, обыскала весь двор, огород, заглянула в колодец, -сына нигде не было. Накатилось отчаяние, стала искать по соседям, -все тщетно! Можно представить себе состояние матери, не ожидавшей такой поворот! Утром, когда отыскалась пропажа, сколько было радости, счастья, непрошенных слез от ночных пережитых волнений. Уже и речи не было о наказании. По этому случаю братья были полностью прощены, а еще, вскорости, были отданы им и остатки варенья, которое тут же было и съедено, но уже без большого на то удовольствия. В повседневной, обыденной жизни лакомствами родители детей не баловали, жили достаточно скромно, расчетливо, хоть и не терпели нужду. Бывало пойдут в гости к родным, на крестины, на свадьбу, – вот тогда принесут по конфете, по прянику, взяв для детей «со стола», тем гостинцем и радовали. Дети понимали, что все это шло не от скупости, а от меры достатка семьи, положение дел принимали, как должное.
Отец вспоминал единственную купленную в детстве игрушку, подаренную вернувшимся из Киева отцом, – качалку – коня, разрисованного вкусно пахнущей краской, с настоящей густой черной гривой и длинным, до пола, хвостом. Наигравшись бесценным подарком, игрушку сломали, – пересилило детское любопытство, захотелось узнать, что же там находилось внутри! Велико было разочарование, перемешанное с горькой обидой, что вопреки всем ожиданиям чего-то необычного, внутри оказались простые опилки…!
В 1937-м году по окончании «восьмилетки», отец проработал лето на сплаве. Осенью, как обычно, пошел в школу, в девятый класс. Проучился месяц, чуть более, неожиданно решил оставить занятия.
Старший брат к тому времени год как учился в ФЗУ на механика- моториста в городе Гомеле, ходить одному на занятия в школу показалось скучно, не интересно. Посчитав, что полученного образования вполне достаточно для дальнейшего определения в жизни, сообщил и отцу о решении оставить учебу. Отец отнесся к принятому решению в тот момент равнодушно, ни к чему не настаивал, и он бросил школу.
Первое время, казалось, было не скучно, -находились дела по хозяйству, по дому. Потом наступили короткие дни поздней осени, – серые, хмурые, однообразные. Друзья были заняты делом, учились, кто- то работал, все жили своей собственной жизнью, – стало скучно и серо от одиночества, от не востребованности, казалось, даже какой-то ненужности. Пошел было в школу просить разрешения снова вернуться к занятиям, но в школу не взяли, -слишком много пропущено времени. В душе поселилась тревога, волнение и беспокойство. Но выбор был сделан продуманный, правильный, и, вскорости выход нашелся.
В этот период у отца было сильно застужено ухо, воспалительный процесс был довольно болезненным, длительным, так что пришлось обратиться в больницу, проходя последующий курс лечения на дому. Ссылаясь на недуг, обратился к директору школы, объяснив тем самым уважительную со своей стороны причину столь долгого отсутствия в школе. Директор принял во внимание доводы, потребовал предъявить медицинскую справку в качестве подтверждения, сказав, что при наличии таковой, можно будет вести дальнейшую речь о восстановлении и посещении школьных занятий. Справку в амбулатории выдали, законный оправдательный документ на руках дал возможность вернуться к учебе. Занятий больше не пропускал и в течение короткого времени догнал сверстников по успеваемости, подтянув пройденный материал, наверстал то, что было пропущено.
В это же время отец увлекся художественной самодеятельностью. В школе старшеклассники организовали драмкружок, под руководством опытного и столь же увлеченного данным творчеством преподавателя. Я тоже- вспоминал отец- записался сюда и в свободное время, после уроков, стал посещать занятия, репетиции.
Ставили сценки по ранним рассказам Чехова- «Хамелеон», «Злоумышленник», «Толстый и Тонкий», играли в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», пьесах А. Н. Островского. Инсценировали так же произведения украинских авторов пьес- Марко Вовчок, Карпенка- Карого,
Квитко-Основьяненко- «У недилю рано зилля копала», «Глитай, або ж Павук», « Поки сонце зийде-роса очи выйисть».
Особенным успехом у зрителей пользовалась комедия укр. поэта и драматурга Гулака- Артемовського «Сватання на Гончаривци», где я играл роль главного героя, деревенского парубка Стецька, эдакого малороссийского Митрофанушку. Публика в клубе «каталась» со смеха, каждую реплику героя встречала взрывом хохота, шквалом аплодисментов.
После представления долго не отпускала со сцены участников, действующих лиц, неоднократно криками «браво» вызывая их на поклон!
В 1939 году по окончании школы- десятилетки, имея на руках Аттестат зрелости с хорошими отметками по успеваемости, отец стал серьезно задумываться о продолжении дальнейшей учебы. Выбор остановил на Новозыбковском (Орловской тогда области) Учительском институте, куда и подал документы. Занимался основательно, на подготовку уходило почти все свободное время, на отдых выкраивались короткие промежутки. Занимался и по ночам, на русской печи при свете керосинового фитилька изучал учебники, делал конспекты, читал. В результате тщательной подготовки к испытаниям, успешно сдал экзамены и был зачислен на первый курс факультета естественных наук. В сентябре начались занятия в институте. Жил на съемной частной квартире, довольно ограниченно в материальных средствах. Тратил на питание и другие бытовые потребности из расчета – рубль в день. Утром покупал у хозяйки, где снимал угол, кружку молока с черным хлебом, в обед- борщ и кашу, которые хозяйка готовила так же и для себя, вечером пил молоко, или чай. С этих же денег отчислялась плата и за жилье. Родители оказать более существенную помощь не имели возможности, приходилось помогать так же и старшему брату, а вместе с тем, растить и воспитывать младшую дочь. Из личных вещей имел мыло, полотенце, одну смену белья, пару рубах, остальное – тетради, учебники, вот все имущество. Одеяло во время сна или отдыха заменяло пальто.
Занятия шли тяжело, с трудом усваивался изучаемый материал, сказывалось переутомление нервной системы, полученное в результате общей нагрузки при подготовке к экзаменам. Как результат, появились последствия, – стала сильно болеть голова, обозначилась общая слабость, рассеянность.
По этой причине не был огорчен, а скорее обрадован полученной повестке о призыве на действительную воинскую службу. В начале октября прибыл домой, для прохождения последней призывной медицинской комиссии.
В это же время дома уже находился Григорий, работавший на Днепро- Двинском речном пароходстве, отозванный с места работы повесткой. В военкомате братьям определили команду: Николаю назначили войска связи, Григория записали в Черноморский Флот. Казалось бы, все уже было окончательно определено, оставалось вручить на руки повестки с датой отправки на службу. Вмешался «его величество» случай. Односельчанин Землянский Петр Иванович, старый большевик, член ВКПб с 1922года, находясь в составе военной комиссии, хорошо зная семью и отца, неожиданно вдруг предложил: -«Братья, а пойдете вместе служить в броне танковые войска, Средне-Азиатский Военный округ?!» Видимо, в военкоматах существовало на тот момент положение, дающее возможность не разлучать близких родственников при призыве на воинскую службу, и братья без всяких раздумий на то с радостью согласились.
Так решилась судьба, расстелив перед ними пути и дороги, ведущие далеко от родного порога, от дома, друзей и родных, вопреки ожиданиям, как оказалось в последствии, очень надолго!
ДОРОГИ и СУДЬБЫ.
Покров Пресвятой Богородицы, церковный особенный праздник.
–Покров, Покров, покрой землю снежком, а невесту – женишком!
Так говорили в народе об этом периоде осени, плавно уступавшем место зиме. Как правило, к этому времени заканчивались сельскохозяйственные полевые работы, отдыхали люди, отдыхала земля, скот до весны закрывался по теплым хлевам и сараям, в закрома на хранение прятался собранный на полях урожай. В селах и деревнях наступала пора сельских свадеб.
13 октября 1939 года. В канун Покрова, вопреки ожиданиям, раньше обычного, выпал обильный снег, наступили морозные зимние дни.
В этот день на рассвете, собравшись около сельсовета, небольшая группа призывников, отправлявшихся в часть на военную службу, прощалась с друзьями, родными и близкими. Прощание было не долгим. Вскорости подали лошадей и, заскрипев полозьями, санный обоз тронулся в путь.
Марфа Михайловна, провожая в дорогу двоих сыновей, двигалась вслед за санями, стараясь не отставать от обоза, прибавляя по ходу движения шаг, и выйдя уже за околицу, долго махала рукой вслед уезжающим по первопутку, пока сани и их седоки вовсе не скрылись из вида. Незаметно, в заботах промчалась для матери эта последняя ночь!
Ранним утром, собирая котомки в дорогу, вынула из сундука льняной домотканый рушник, кружевной, с вышитым по краю узором, -давнишнее свое девичье приданное рукоделие, – разрезала рушник пополам: – То –Николаю, а та половина-Григорию! Как будто бы разделила единую жизнь сыновей на две равные части, две новых дороги, две новых судьбы. Дарить полотенце в народе считалось к разлуке!
Лежа на полке вагона, Николай вспоминал эту ночь накануне отъезда из отчего дома. Перед дальней дорогой спалось, не спалось, время как будто бы замерло, остановилось. Засыпая, почти в забытьи, слышал, как мать, прикрутив фитилек керосиновой лампы, собирает в дорогу нехитрый пожиток, стараясь ничего не забыть, по возможности больше вместить на дорогу им с братом продуктов. Потом прилегла, так и не уснув до утра, вздыхала «про себя», тихо шептала молитвы. Ближе к рассвету домой возвратился Григорий. Не притронулся к позднему ужину, выпил кружку воды, разведя со сливовым вареньем и сняв сапоги, не раздеваясь прилег на кровать. Сегодня Григорий отметил свои именины, в кругу самых близких друзей ходили потом по поселку, прощались с родными местами. По неписанной старой традиции «квитались» с обидчиками, «раздавали долги». Спать не хотелось, да и в окна уже начинал пробиваться рассвет…
Глядя в окошко вагона, Николай предавался раздумьям. Воспоминания коротали дорогу, а путь впереди предстоял им не близкий. Разговаривать и общаться ни с кем не хотелось, тем паче накануне отправки, в бане на сборном пункте, серьезно поссорились, а потом подрались с такими же призывниками из Михайло – Коцюбинска, и, хоть будучи в численном меньшинстве, не позволили одержать над собой верх. Победа сия не принесла никому удовольствия, скорее оставила в душе неприятный осадок. Это потом, находясь уже в части, перезнакомились с земляками, с которыми провели не один день в пути, сблизились по обстоятельствам, установив самые дружеские отношения, связанные одной общей воинской службой. Все это было потом.