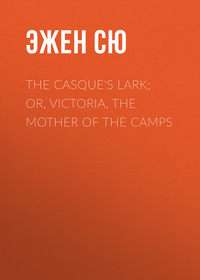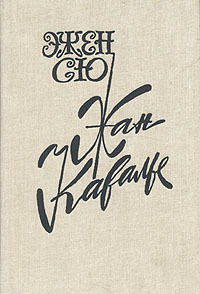Полная версия
Парижские тайны
– Горе мне, горе! – в отчаянии восклицала Певунья. – Даже если вся жизнь моя отныне будет столь же долгой и столь же чистой, как ваша, отец мой, она все равно останется омраченной угрызениями совести и воспоминаниями о прошлом. Горе мне!
– Наоборот, Мария, счастие тебе, счастие той, кому господь ниспошлет это раскаяние, полное горечи, но такое святое! Оно говорит, что душа твоя не погибла для веры. Очень многие, лишенные твоего душевного благородства, постарались бы на твоем месте поскорее забыть свое прошлое, чтобы спокойно наслаждаться радостями настоящего. Твоя нежная душа страдает, а вульгарная и грубая не испытала бы ни малейшей боли. Но все твои страдания будут тебе зачтены там, на небесах! Поверь мне, господь не оставит тебя ни на миг на твоем грешном пути, чтобы тебе досталась слава раскаяния и вечное блаженство во искупление!
Не тебе ли сказал сам господь: «Кто творит добро без борьбы и приходит ко мне с улыбкой на устах – тот избранный; но кто ранен в борьбе и приходит ко мне окровавленный и увечный – избранные из моих избранных!..» Поэтому мужайся, дитя мое!.. Надейся на нашу поддержку, опору и совет… Я уже слишком стар, но госпожа Жорж и господин Родольф проживут еще долгие годы. Особенно господин Родольф, который проявляет к тебе такой искренний интерес… и с таким благосклонным вниманием следит за твоими успехами. Скажи, Мария, неужели ты когда-нибудь пожалеешь, что повстречалась с ним?..
Певунья уже хотела ответить, но ее прервала крестьянка, о которой мы уже упоминали: по той же тропинке, по которой раньше прошли священник и девушка, она теперь догнала их. Это была одна из служанок с фермы.
– Извините меня, господин кюре, – проговорила она. – Прошу прощения, но госпожа Жорж велела мне отнести вам эту корзину с фруктами и еще велела проводить мадемуазель Марию домой, потому что уже темнеет, а я взяла с собой Турка, – добавила крестьянка, потрепав по голове огромную пиренейскую овчарку, которая не боялась бы схватиться и с медведем. – Хоть у нас и не бывает злых людей на дорогах, но с Турком все-таки спокойней.
– Ты права, Клодина; к тому же мы уже почти дошли до моего дома. Поблагодари от меня госпожу Жорж.
Затем, понизив голос, кюре серьезным тоном сказал Певунье:
– Завтра мне нужно на приходский совет, но к пяти часам я вернусь. Если хочешь, я буду ждать тебя, дитя мое. Насколько я понимаю, в твоем состоянии духа тебе необходимо о многом поговорить со мной.
– Благодарю вас, отец мой, – ответила Лилия-Мария. – Вы так добры, и завтра я обязательно приду.
– А вот мы и дошли до калитки сада! – сказал священник. – Оставь здесь корзину, Клодина, моя домоправительница ее захватит. Возвращайся поскорее на ферму вместе с Марией: уже почти ночь и холодает заметно. До завтра, Мария, в пять часов!
– До завтра, отец мой.
Кюре вошел в сад.
Певунья и Клодина двинулись по тропинке к ферме, и Турок бежал за ними не отставая.
Глава III. Встреча
Наступила ночь, холодная и ясная.
По совету Грамотея Сычиха вместе с ним выбрала на овражной дороге место подальше от тропинки на ферму и поближе к перекрестку, где их ждал Крючок.
Хромуля остался у тропинки, поджидая возвращения Лилии-Марии, которую он должен был завлечь в эту западню, умоляя помочь несчастной старой женщине.
Сын Краснорукого на несколько шагов поднялся с дороги на тропинку, но вдруг навострил уши и замер: он услышал издали Певунью, которая о чем-то говорила с Клодиной.
Значит, Певунья не одна, значит, все пропало! Колченогий поспешил спуститься на дорогу и поспешно заковылял к тому месту, где пряталась Сычиха.
– Кто-то идет вместе с девчонкой! – тихо проговорил он, еле переводя дыхание.
– Чтобы ей подохнуть в петле, этой нищенке! – в ярости зашипела Сычиха.
– С кем она идет? – спросил Грамотей.
– Наверняка с той самой крестьянкой, которая только что прошла по тропинке с большой собакой. Я различил женский голос, – ответил Хромуля. – Да слушайте, слушайте! Слышите, как стучат их сабо?
И в самом деле, в ночной тишине издалека доносился стук деревянных подошв по схваченной заморозком земле.
– Их двое… Я могу справиться с девчонкой в сером плаще, но как быть с другой? Мой хитрец ничего не видит, а колченогий слишком слаб, чтобы «утихомирить» эту деревенщину, чтобы черт ее задушил! Что делать? Что делать? – повторяла Сычиха.
– Да, я не очень силен, но если вы хотите, я брошусь под ноги этой крестьянке с собакой, я вцеплюсь в нее руками и зубами и не выпущу, будь что будет!.. А за это время вы утащите девчонку…
– А если они поднимут крик, если будут сопротивляться, их услышат на ферме и успеют прибежать на помощь раньше, чем мы доберемся до кареты Крючка. Не так-то просто нести женщину, которая отбивается!
– Да еще с ними эта большущая собака! – добавил Хромуля.
– Ба, ерунда! – возразила Сычиха. – Если бы только собака, я бы ей выбила зубы одним ударом сабо!
– Они приближаются, – пробормотал колченогий, прислушиваясь к отдаленным шагам. – Сейчас они спустятся на дорогу…
– Да скажи ты хоть слово! – обратилась Сычиха к Грамотею. – Что нам теперь делать, хитрец, посоветуй! Ты что, проглотил язык?
– Сегодня ничего нельзя сделать, – ответил слепой бандит.
– А тысяча франков господина в трауре? – вскричала Сычиха. – Значит, они фу-фу, улетели? Не больно часто такое предлагают… Нет, хитрец! Твой нож, дай мне твой нож! Я прикончу деревенщину, чтобы она нам не мешала, а девчонку мы с Хромулей как-нибудь оглушим и заткнем ей рот.
– Но человек в трауре не думал, что кого-то придется убивать…
– Так что же? Эту кровь мы тоже запишем ему в счет, и он доплатит, потому что станет нашим сообщником.
– Вот они… – прошептал колченогий. – Спускаются в овраг, на дорогу…
И вдруг он воскликнул в ужасе, протягивая к Сычихе руки:
– Нет, не надо убивать, это уж слишком! Я не могу!..
– Давай свой нож, говорю тебе! – тихо повторила Сычиха, не обращая внимания на мольбы Хромули и торопливо разуваясь. – Я скину башмаки и покрадусь за ними, как волчица. Они меня не услышат. Правда, уже темно, но я различу девчонку по ее плащу и прикончу ту, вторую.
– Нет, – возразил слепой убийца. – Сегодня это уже ни к чему. Подождем, завтра еще будет время.
– Ты боишься, несчастный трус! – прошипела Сычиха со злобой и презрением.
– Я не боюсь, – ответил Грамотей, – но ты можешь промахнуться, и все будет потеряно.
Собака крестьянки, несомненно, почуяла затаившихся на овражной дороге людей, остановилась как вкопанная и яростно залаяла, не обращая внимания на призывы Лилии-Марии.
– Ты слышишь их собаку? Вот она, скорее давай нож… А не то!.. – с угрозой вскричала Сычиха.
– Ну что ж, подойди, попробуй взять его… силой, – усмехнулся Грамотей.
– Все кончено! Мы опоздали! – воскликнула Сычиха, прислушиваясь к удаляющимся шагам. – Они уже прошли… Ты мне заплатишь за это, висельник! – добавила она, размахивая кулаком. – Тысяча франков пропала, и все из-за тебя!
– Наоборот! – уверенно возразил Грамотей. – Мы получим тысячу, две тысячи, а может быть, и три. Слушай меня, Сычиха, и ты поймешь, что я был прав, когда не дал тебе нож… Ты сейчас отправишься к Крючку, и вы вдвоем поедете в его фиакре к назначенному месту, где вас ждет господин в трауре… Вы ему скажете, что сегодня ничего не удалось, но завтра мы похитим девчонку.
– А ты что будешь делать? – спросила Сычиха, все еще не остыв от злости.
– Слушай дальше: девчонка каждый вечер одна провожает священника; сегодня за ней пришла крестьянка, но это чистая случайность, и завтра нам, наверное, больше повезет. Поэтому завтра ты в этот же час вернешься на тот же перекресток с Крючком и его каретой.
– А ты, что будешь делать ты?
– Хромуля отведет меня на ферму, где живет эта малютка. Хромуля скажет, что мы заблудились, что я его отец, бедный рабочий-механик, ослепший из-за несчастного случая на работе, что мы идем в Лувр к родственникам, которые нам помогут, а заблудились мы потому, что хотели пройти более короткой дорогой через поля. Мы попросимся переночевать на ферме, где-нибудь в амбаре. В этом никто никогда не отказывает. Эти крестьяне поверят нам и пустят на ночлег. Хромуля тем временем как следует осмотрит все окна и двери в доме: у этих людей в такое время всегда хранятся денежки для оплаты за аренду. Уж я-то знаю, у самого была когда-то землица, – добавил он с горечью. – Сейчас середина января… самое подходящее время, когда рассчитываются со всеми долгами. Вы говорили, ферма стоит на отшибе… Мы разведаем все входы и выходы и сможем сюда вернуться с друзьями. Это дельце верное!
– Ну и голова у тебя, Чертушка! – воскликнула Сычиха, сменяя гнев на милость. – Продолжай, хитрец.
– Назавтра утром, вместо того чтобы покинуть ферму, я притворюсь, что не могу идти от боли. Если мне не поверят, я покажу им язву, которая не заживает с тех пор, как мне натерли ее кандалы, – она меня в самом деле все время мучит. Но им я, конечно, скажу, что это после ожога раскаленным железом, когда я еще был механиком, и они мне поверят. Так я проведу на ферме еще часть дня, чтобы Хромуля успел осмотреть все как следует. К вечеру, когда наша крошка, как обычно, отправится провожать священника, я скажу, что мне лучше, и мы пойдем дальше. Но вместо этого мы с Хромулей будем издали следить за девчонкой, чтобы встретить ее на обратном пути в этом же месте на овражной дороге. Она нас увидит, но ничего не заподозрит, потому что уже нас видела и знает… Мы заговорим с ней, а когда она приблизится ко мне, чтобы я мог достать ее рукой… Тут уж я за себя отвечаю: она не вырвется, и тысяча франков будет у нас в кармане… А дня через два-три мы поручим дельце с фермой Крючку или кому-нибудь еще и, если там что-нибудь найдется, получим свою долю, потому что мы дали наводку[83].
– Ах ты мой умник безглазый, с тобой никто не сравнится! – воскликнула Сычиха, обнимая Грамотея. – Но что, если девчонка завтра вечером не пойдет провожать священника?
– Будем ждать ее послезавтра, и сколько потребуется: такое блюдо не едят горячим и второпях, чтобы не обжечься. К тому же все это мы припишем к счету господина в трауре. И еще: пока я буду на ферме, я узнаю из разговоров, сумеем ли мы похитить девчонку по нашему плану. И если нет – придумаем другой.
– Согласна, хитрец. Твой план хорош. И знаешь, душегубчик, когда ты станешь совсем немощным, мы тебя сделаем нашим главным советчиком, и ты будешь зарабатывать не меньше любой «тюремной крысы»[84]. Поцелуй же свою совушку-Сычиху и поспеши, а то эти крестьяне на фермах ложатся спать в одно время с курами. А я побегу к Крючку. Завтра в четыре мы будем на перекрестке с его таратайкой, если только его не загребут за то, что он пришил мужа молочницы на Старосуконной улице… Но если не Крючок, со мной поедет еще кто-нибудь, потому что этот фальшивый фиакр принадлежит господину в трауре и он им уже не раз пользовался. Через четверть часа после приезда на перекресток я доберусь сюда и здесь буду тебя ждать.
– Хорошо, Сычиха. До завтра!
– Постой, я же забыла дать воску Хромуле, чтобы он снял на ферме отпечатки с ключей! Ты, надеюсь, умеешь это, малыш? – спросила одноглазая, подавая Хромуле кусок воска.
– Умею, конечно, ничего нет проще: папаша показал мне, как это делается. Я для него сделал отпечатки замка маленькой железной шкатулки, которую мой хозяин, фокусник-шарлатан, хранит в своей черной комнате.
– Тогда в добрый час! И чтобы воск не приклеился, когда ты его разогреешь в руке, не забудь его смочить.
– Знаю, знаю! – ответил Хромуля. – Вы видите, я готов сделать все, что вы скажете, и все потому, что вы ведь меня любите хоть немножко, не правда ли? Хоть чуть-чуть, Сычиха?
– Еще бы тебя не любить! Да я тебя люблю, как сына покойного Наполеона!!! – сказала Сычиха, обнимая и целуя Хромулю, безмерно польщенного этим сравнением с наследником императора. – Итак, до завтра, душегубчик!
– До завтра, – повторил Грамотей.
Сычиха поспешила к перекрестку, где ее ждал Крючок с фиакром.
Грамотей с Хромулей выбрались из овражной дороги и пошли по тропинке в сторону фермы; свет ее окон указывал Хромуле путь.
Поразительная игра судьбы приближала таким образом Ансельма Дюренеля к его супруге, которую он не видел с тех пор, как был приговорен к каторжным работам.
Глава IV. Вечер на ферме
Что может больше обрадовать сердце путника, чем зрелище очага на большой ферме в час вечерней трапезы, особенно зимой? Что может больше сказать сердцу о покое и достатке сельской жизни?
Ответом на наши риторические вопросы могла бы послужить кухня фермы Букеваль в этот январский вечер.
Ее огромный камин, высотой в шесть футов и шириной в восемь, походил на большие каменные ворота, распахнутые на пылающее горнило: в почерневшей золе очага пылал настоящий костер из дубовых и буковых поленьев. Этот огромный костер согревал и освещал все уголки кухни, так что свет лампы, подвешенной к средней потолочной балке, в общем-то был ни к чему.
Большие котлы и кастрюли из красной меди, расставленные на полках, сверкали чистотой; старинный кувшин из того же металла сиял, как пылающее зеркало, рядом с квашней из орехового дерева, от которой исходил аппетитный запах свежего хлеба. Длинный массивный стол, накрытый необычайно чистой скатертью грубого полотна, занимал всю середину кухни; место каждого отмечали его фаянсовые тарелки, коричневые снаружи и белоснежные внутри, а также его приборы из простого металла, начищенные и блестевшие, словно серебро.
Посередине стола большая супница с овощной похлебкой дымилась, как кратер вулкана, застилая ароматным паром огромное блюдо тушеной капусты с ветчиной и такое же, не менее внушительное, блюдо бараньего рагу с картошкой; и, наконец, целая четверть жареного теленка с двумя зимними салатами, обрамленная двумя корзинами с яблоками и сырами двух сортов, завершали симметрию изобилия этого ужина. Три или четыре кувшина с искрящимся сидром и столько же круглых хлебов, каждый величиной с мельничный жернов, были выставлены для работников фермы.
Старая, почти беззубая собака из породы черных грифонов, почетный старейшина всего собачьего рода фермы, получила за свой возраст и былые заслуги право оставаться в доме, в уголке возле камина. Незаметно и скромно пользуясь своей привилегией, она лежала, положив морду на вытянутые лапы, и внимательно следила за разными кулинарными приготовлениями, которые предшествовали ужину.
Эта почтенная псина откликалась на несколько буколическую кличку Лисандр.
Возможно, такая повседневная трапеза на ферме, при всей ее незатейливости, показалась бы слишком роскошной, однако г-жа Жорж, верно следуя в этом советам Родольфа, как могла, скрашивала участь своих работников, набранных среди самых честных и трудолюбивых крестьян округи. Им щедро платили, и судьба их считалась завидной и счастливой, поэтому каждый хороший земледелец мечтал попасть на ферму Букеваль, а их невинное честолюбие, в свою очередь, помогало хозяевам, у которых они работали, потому что поступить на освободившееся на ферме место можно было только с наилучшей рекомендацией.
Таким образом Родольф создавал в очень маленьком масштабе своего рода образцовую ферму, предназначенную не только для улучшения породы скота и сельскохозяйственных методов, но прежде всего для улучшения людей, и он достигал своей цели, заставляя людей быть активнее, изобретательнее и честнее.
Закончив все приготовления к ужину и поставив на стол чашу старого вина на десерт, кухарка фермы позвонила в колокол.
На этот радостный призыв все работники фермы, слуги, коровницы и птичницы, числом в десять-пятнадцать человек, весело поспешили в кухню. У мужчин был открытый, мужественный вид, женщины отличались здоровьем и привлекательностью, девушки – резвостью и весельем; все были в хорошем настроении, их простые, добродушные лица дышали спокойствием и удовлетворенностью. С наивным вожделением готовились они воздать честь этим яствам, справедливо заслуженным за день неустанных трудов.
Во главе стола сел старый работник с седыми волосами, с честным лицом, открытым и смелым взглядом и слегка насмешливым ртом; типичный крестьянин, здравомыслящий, скрытный и прямой, решительный и прозорливый, деревенский хитрец, в котором издали ощущалась старая галльская закваска.
Дядюшка Шатлэн, – так звали этого патриарха, – с детства не покидал этой фермы и сейчас был главным над всеми работниками. Когда Родольф купил ферму, ему справедливо рекомендовали старого слугу; он оставил его у себя и поручил под началом г-жи Жорж надзирать за сельскохозяйственными работами. Дядюшка Шатлэн пользовался у работников фермы высоким уважением благодаря своему возрасту, знаниям и опыту.
Все крестьяне уселись на свои места.
Громко прочитав застольную молитву, дядюшка Шатлэн по древнему святому обычаю перекрестил один из хлебов кончиком своего ножа и отрезал ломоть, который считался ломтем Богородицы или хлебом для бедняка; затем он налил стакан вина, тоже перекрестил его и все поставил на тарелку, которую благоговейно поместили на середине стола.
В этот момент сторожевые псы разразились громким лаем; старый Лисандр ответил им глухим рычанием, вздернув верхнюю губу и показывая два еще внушительных клыка.
– Кто-то идет вдоль ограды двора, – сказал дядюшка Шатлэн. Едва он произнес эти слова, зазвонил колокольчик у главных ворот.
– Кто бы это мог быть так поздно? – удивился старый работник. – Все наши давно вернулись… Поди посмотри, Жан-Рене!
Жан-Рене, наверное, самый юный на ферме работник, со вздохом сожаления опустил в тарелку с обжигающим супом свою огромную ложку, на которую дул с такой силой, что ему позавидовал бы сам бог ветра Эол, встал и вышел из кухни.
– Что-то давненько уже госпожа Жорж и мадемуазель Мария не приходили к нам во время ужина посидеть в уголке у огня, – заметил дядюшка Шатлэн. – Я голоден как волк, но без них мне не очень хочется есть.
– Госпожа Жорж поднялась в комнату мадемуазель Марии, потому что, проводив господина кюре, мадемуазель почувствовала себя нехорошо и легла пораньше, – объяснила Клодина, та самая крепко сбитая крестьянка, которая проводила Певунью от дома священника и тем самым разрушила зловещие замыслы Сычихи.
– Надеюсь, наша добрая мадемуазель Мария не занемогла? – с надеждой и беспокойством спросил старый крестьянин.
– Нет, нет, слава тебе господи, дядюшка Шатлэн! Госпожа Жорж сказала, что это пустяки, – ответила Клодина. – Иначе госпожа Жорж послала бы в Париж за господином Давидом, тем самым черным доктором, который уже лечил мадемуазель, когда она в самом деле болела… И все равно не могу я понять: доктор – и вдруг чернокожий! Если бы я захворала, я бы ему ни за что не доверилась. Другое дело белый врач, пожалуйста… он все-таки христианин.
– Разве доктор Давид не вылечил мадемуазель Марию, которая первое время угасала на глазах?
– Да, дядюшка Шатлэн, вылечил.
– Так в чем же дело?
– Да, дядюшка Шатлэн, но подумайте сами, черный доктор, совсем черный…
– Послушай, дочка, какой масти корова Мюзетта?
– Она белая, дядюшка Шатлэн, белая, как лебедушка, и к тому же такая дойная, что за нее можно не краснеть.
– А твоя корова Розетта?
– Черная, как ворон, и тоже дает вдоволь молока: надо ко всем быть справедливой.
– А молоко твоей черной коровы, какого оно цвета?
– Ну конечно, белое, дядюшка Шатлэн, это же понятно, белое как снег.
– Такое же белое, как у Мюзетты?
– Да, дядюшка Шатлэн.
– Хотя сама Розетта совсем черная?
– Да, хотя Розетта черная… Но при чем здесь молоко? Коровы могут быть какие угодно: черные, рыжие или белые…
– Значит, разницы никакой?
– Совсем никакой, дядюшка Шатлэн.
– Так вот скажи мне, дочка, почему черный доктор должен быть хуже белого?
– Право, не знаю, дядюшка Шатлэн. Наверное, из-за цвета кожи, – ответила молодая крестьянка в глубоком смущении. – Но если уж черная Розетта дает такое же хорошее молоко, как белая Мюзетта, значит, дело не в масти.
Эти физиогномические рассуждения Клодины о различиях белой расы и черной были прерваны возвращением Жана-Рене, который дул себе на озябшие пальцы с такой же силой, как перед этим дул на горячий суп.
– У, какой холодище! Какая холодная ночь!.. Морозит так, что земля трескается, – проговорил он, входя. – В такую ночь лучше быть в доме, чем на дворе. Ну и холодище!
– Когда заморозки начинаются с восточным ветром, холода будут долгие и жестокие, ты должен это знать, мой мальчик. Но кто там звонил? – спросил старейшина работников.
– Несчастный слепой и мальчишка, который его водит, дядюшка Шатлэн.
Глава V. Гостеприимство
– Чего он хочет, этот слепой? – спросил дядюшка Шатлэн Жана-Рене.
– Этот бедный человек и его сын хотели срезать путь по дороге в Лувр и заблудились в полях. А поскольку холод собачий и ночь хоть глаз выколи, потому что небо затягивает тучами, слепой и его сын просятся переночевать на ферме где-нибудь в уголке хлева.
– Госпожа Жорж так добра, что никогда не отказывает в гостеприимстве несчастным. Она, конечно, согласится пустить на ночлег этих бедняг… но надо ее предупредить. Сходи к ней, Клодина!
Клодина исчезла.
– Где он сейчас, этот добрый человек? – спросил дядюшка Шатлэн.
– Ждет в маленьком амбаре.
– Зачем же ты запер их в амбаре?
– Если бы он остался на дворе, собаки разорвали бы его на куски вместе с его мальчонкой. Да, дядюшка Шатлэн, напрасно я кричал и кричал: «Тихо, Медор! Ко мне, Турок!.. Назад, Султан!..» Никогда еще я их не видел в такой ярости. А ведь у нас на ферме их не учили рвать бедняков, как в других местах…
– Ей-богу, мы сегодня не зря выделили кусок хлеба и глоток вина для бедняка… Потеснитесь немножко… Вот так! Поставим еще два прибора, для слепого и его сына, потому что госпожа Жорж наверняка позволит им переночевать у нас.
– И все же непонятно, почему собаки так разъярились, – проговорил Жан-Рене. – Особенно Турок, которого Клодина взяла с собой, когда ходила в дом священника… Он словно взбесился!.. А когда я его гладил, чтобы успокоить, шерсть на его спине стояла дыбом, как иглы у ежа. Что вы на это скажете, дядюшка Шатлэн? Вы ведь все знаете…
– Скажу тебе, сынок, что, хоть я знаю много, животные знают больше нас… Помнишь, ураган этой осенью превратил нашу маленькую речку в настоящий поток? Ночь была непроглядная, а я как раз возвращался с поля с моими рабочими лошадьми. Ехал я на старом рыже-саврасом жеребце, но черт меня побери, если я знал, где нам перебраться через реку вброд! Темно было, как в печи! Так вот, опустил я повод на шею старого саврасого, и он сам отыскал брод, которого в такой тьме не нашел бы ни один человек… Но кто его этому научил?
– Да, дядюшка Шатлэн, кто научил старого саврасого?
– Тот же, кто научил ласточек лепить гнезда под карнизами, а трясогузок вить гнезда в камышах, мой мальчик… Так что там? – обратился старый пророк к Клодине, которая появилась, неся под каждой рукой по паре белоснежных одеял, сразу наполнивших кухню свежим запахом шалфея и вербены. – Госпожа Жорж велела накормить несчастного слепого и его сына ужином и оставить переночевать, не правда ли?
– Вот одеяла, мне велено постелить им в маленькой комнате в конце коридора, – ответила Клодина.
– Так пойди же за ними, Жан-Рене!.. А ты, дочка, пододвинь два стула к огню, пусть согреются, прежде чем сесть за стол, потому что холод этой ночью жестокий.
Снова послышался яростный лай собак и голос Жана-Рене, который пытался их успокоить. Дверь в кухню внезапно распахнулась. Грамотей вместе с Хромулей вошли так поспешно, словно спасались от погони.
– Придержите ваших собак! – злобно закричал Грамотей. – Они чуть нас не искусали.
– Они оторвали у меня кусок блузы, – добавил Хромуля, все еще бледный от страха.
– Простите, добрый человек, – сказал Жан-Рене, закрывая дверь. – Но я никогда не видел наших собак в такой ярости… Наверное, это холод их так обозлил, вот они и готовы покусать кого угодно, чтобы согреться… Глупые животные!
– Эй, и этот туда же! – воскликнул крестьянин, удерживая старого Лисандра, который с грозным рычанием пытался броситься на чужаков. Он услышал, как другие собаки заходятся от злости, и последовал их примеру. – А ну, ложись на место, старый разбойник, ложись, говорят тебе!
Дядюшка Шатлэн сопроводил свои слова добрым пинком, и Лисандр, все еще ворча, вернулся в свой любимый уголок возле очага.
Грамотей и Хромуля стояли у дверей, не решаясь сделать и шага.
Закутанный в синий плащ с меховым воротником, в шапке, глубоко надвинутой на черную повязку, почти закрывавшую ему лоб, бандит крепко держал за руку Хромулю, который жался к нему, с опаской глядя на крестьян: их честные лица сбивали его с толку и внушали страх.