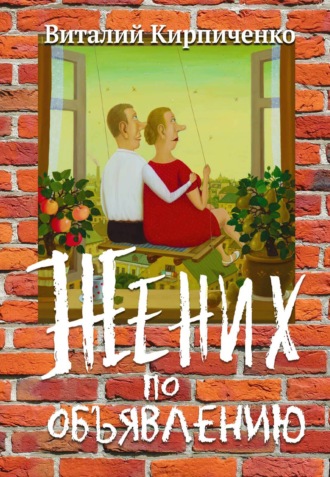
Полная версия
Жених по объявлению
– Что уже ты мелешь! – взорвалась мама. – Показал ребенок кому-то кукиш, и его за это в Бодайбо! Учится хорошо, жить будет не хуже других!
– Хуже уже некуда, – резюмирует отец, отшвыривает на угол стола мой дневник и, хлопнув дверью, выскакивает из избы.
– А ты тоже хорош! – сердито смотрит на меня мама. – Не можешь без своих дурацких шуточек! Учиться надо, чтобы не быть дураком, а у тебя все хиханьки да хаханьки! Женить скоро, а ты все как маленький!
«Женить собираются, а я ничего не знаю. На ком? Если на этой пучеглазой – я убегу в Африку! Если на Павловой – я согласен. Когда станем мужем и женой, мне можно будет курить и материться, не боясь, что за это отец отвалит ремня? А потом что? У всех пап и мам есть дети… У нас тоже будут? У взрослых они маленькие, а у нас будут, как куклы, совсем маленькие? Я таких не видал. И кто женился на однокласснице – не знаю таких. А если…»
Мои размышления прервал скрип двери. Пришла соседка тетя Шура занять мисочку муки.
– Мисочку дам, – говорит мама, звякнув крышкой кастрюли, где хранила она от мышей муку и крупу. – Дала бы больше, да у самих осталось на неделю.
– Ефиму скоро привезут за сапоги, и я вам отдам, – привычно заверяет маму тетя Шура.
– Да я так сказала, – оправдывается мама, зачерпывая мисочкой муку. – После подоя не забудь прислать Любку за молоком, – напоминает она, чтобы хоть так сгладить неудобство от неверного слова.
– Пришлю, – кивает тетя Шура. И опять к прошлому: – Если заплатят деньгами, то я и за молоко рассчитаюсь с вами.
– Ты что, Шура, говоришь-то! – упрекнула ее мама. – Разве я когда просила у вас деньги за молоко? Хватает нам, вот и вам даем. И не надо никаких нам денег от вас. Пусть детишки пьют. С мукой плохо. До нового хлеба далеко, а у нас мисочка на день! Куль зерна есть, да молоть надо. А когда на мельницу, если каждый день работа и работа?
Под тихий говор женщин я оделся, обулся, сгреб под мышку салазки и был таков.
Наледь шла поверх шероховатого ледяного панциря и дымилась сизым туманом. Во многих местах вода остекленело блестела, отражая солнечные лучи. На гладком льду салазки сами бежали, тонко посвистывая коньками. У всех щеки как спелые красные яблоки, глаза – сливы. Из-за воротника валит пар. Хочется пить. Наклонившись над прорубью, пью взахлеб ледяную воду. Хорошо!
Зимний день короток вдвойне. То тут, то там засвечиваются желтенькие светлячки окон, резко скрипят двери сеней, со стеклянным звоном рассыпаются дрова в поленнице, кого-то облаяла собака, звякнуло ведро, ударившись о сруб колодца… Деревня заканчивает свой день.
– Ты посмотри на него, – говорит отец дяде Ефиму, пришедшему покурить с соседом. – Рыцарь в ледяных доспехах! Интересно, сколько часов он будет оттаивать, чтобы смог хотя бы раздеться и разуться? Немцы под Москвой и Сталинградом лучше выглядели. – Посмотрев еще раз на меня критически, спросил: – Может, тебя в корыто или таз поставить? Натечет лужа – пол вздыбится.
Я доказал отцу, что для меня нет сложности раздеться. Я ловко выскочил из обледенелых штанов, оставив их стоять у жарко натопленной печи. Согреваясь, они размягчались и устало, сомлев, оседали. Валенки, больше всего напитавшие воды, еще долго переходили из одной стадии в другую. Они сначала потекли, потом размягчились, потом из них попер, как из паровозной трубы, пар, – это заставило маму отодвинуть их от печи подальше, потому что последняя стадия – возгорание – меньше всего нас устраивала.
Перекусив куском хлеба и кружкой молока, я принялся за ремонт салазок. Там один конек расхлябался, второй накренился, а консервная банка для маслянистого факела прогорела.
– Ты думаешь, он после речки сразу же кинется за книжки? – поведал часть тайны соседу отец. – Как бы не так! У нас еще пистолет не стреляет, граната не взрывается.
– И слава Богу! – лукаво улыбаясь, отозвался дядя Ефим. – Мои тоже раз пять пытались подорвать и начисто сжечь халупу. Бог милостив, спас от беды.
– От нас бы только он не отвернулся, – покачал головой отец. – Чтобы только нас одних оттянуть от беды, Бог должен дежурить, как пожарник, около нашего дома. А у него таких знаешь сколько! Только поэтому я не хотел бы быть Богом.
Прислушиваясь к разговору отца и соседа, учитывая их критические восклицания, я уселся за уроки.
«Это я спишу у Павловой, это нарисую на переменке, стихотворение наизусть меня не будут спрашивать – прошлый раз спрашивали, – рассуждал я, планируя занятия на вечер и следующий день. – Остается приготовить страшилку этой лупоглазой». Я достал резинку, нашел две палочки, стянул коробок из-под спичек, скрутил резинку, закрепил ее в коробке палочками и спрятал коробок в портфель, предвкушая эффект, когда из коробка выстрелит в лицо этой зануде скрученная резинка с палками.
Прибежав утром в школу, я не мог дождаться Павловой, у которой должен был списать решение задачки. Она заболела. Лупоглазая, глядя на коробок, который я ей протянул со словами: «Ты собираешь жуков. Вот, одного мне привезли из Москвы, он мне не нужен, возьми его».
– Дурак ты, рыжий, и шутки твои дурацкие, – ответила на это лупоглазая. Повернулась и пошла.
И со стишком получилась промашка.
– Кто не выучил стихотворение, поднимите руку, – сказала Зусия Юсуповна и провела по рядам, как прожектором, своими зрачками. Никто не поднял руки. «Неужели я один не выучил? – пронеслось в моей голове, ставшей вдруг горячей. – Если подниму, надо что-то придумать. Васька Хорек не поднимает, знаю, он тоже не выучил. Или поднять, признаться?» Мои сомнения разгадала Зусия Юсуповна.
– Орлов, выучил?
– Да… нет… не совсем… горло… кхе, кхе, простудил. Болел. Завтра…
– Понятно. Завтра исправишь свою двойку. – И к Ваське: – А ты, Хорьков, выучил?
– Выучил, – твердо заявил Васька. – Только…
Не дождавшись расшифровки слова «только», Зусия Юсуповна повелела:
– К доске!
Прозвучало это как окончание в приговоре: «Расстрелять!»
Да и Ваське казалось, что лучше бы уже сразу расстреляли, чем такие пытки. Он долго мычал, заикался, сбивался, начинал сначала.
Вердикт: «Двойка с плюсом!» – не утешил Ваську, но избавил от дальнейшего позора. Я радовался, что не у одного меня двойка, можно теперь и дома, если вдруг спросят, сказать, что училка придирается, что и Ваське двойку влепила.
Дома меня никто не спросил, и придуманный ответ не пригодился. Вечер после речки я целиком посвятил зубрежке стишка. Запоминалось лучше, когда я крепко закрывал глаза. Чем крепче, тем лучше.
– Ты чего как филин на суку? – поинтересовался отец, не разгадав моей методики заучивания стихотворения. – И в школе будешь так рассказывать, как слепой без поводыря? «Ласточка весною в сени к нам летит». Хорошие слова, только к нам в сени ласточки не прилетят.
– Почему? – удивилась словам отца мама, они даже обидными ей показались.
– Потому что ласточки любят тишину. У нас постоянно что-то стреляет и взрывается. Нас и медведи стороной обходят, от беды подальше.
– «Травка зеленеет, солнышко блестит…» – замычал я дальше, не желая выслушивать несправедливые упреки отца.
Стихотворение заучилось так быстро, что у меня осталась уйма свободного времени. Я решил задачку. Тоже свободно. Задание по рисованию: топор и лопата. В мгновение ока весь лист бумаги я заполнил топорами и лопатами. От нечего делать нарисовал и чурку с воткнутым в нее топором, немножко подумал и воткнул в нее еще пару топоров.
– О чем задумался? – спросил меня отец в то время, когда я придумывал подвох лупоглазой. Мысль моя была такой: я передам коробку Ваське Хорьку, а он – ей. Она же его не называет дураком. – В школу только не носи гранаты. Останутся неучами твои друзья, да и хорошие дети тоже, когда сгорит школа.
– С чего это она сгорит? – спросила мама. – Стоит уже сто лет, и сгорит.
– Стояла сто лет потому, что там учились хорошие ученики. Они приходили учиться, а не хулиганить.
– А, – махнула рукой мама, – всегда мальчишки были непоседами! Если какой сидит, как старичок, то это уже не мальчишка. Что-то у него не так.
– Вот из таких как раз и получаются хорошие люди. Вон наш булгактер, я с ним в одном классе сидел, мухи не обидит. Вот он и человек! А те, на ком штаны горели, все как я, а то и хуже, по тюрьмам скитаются.
– Избави, Бог, от такого! – с испугом сказала мама. – Тюрьмы нам ни к чему. Будет летчиком.
– Налетчиком, – поправил ее отец.
Чтобы сделать приятное маме, я записался в школьную библиотеку и взял книгу про летчика Водопьянова. Читал, вдумываясь, пытаясь понять, чем же хорошо быть летчиком. Не понял. Вот если стрелять из пушки! Ка-ак дал! Танк пополам! А тут же сел, взлетел и болтайся в небе мухой. «Надо про артиллеристов взять книгу», – было мое окончательное решение.
Про артиллеристов книги в библиотеке не нашлось. Взял про танкиста, который четыре раза горел в танке. Это я потом уже узнал.
И геройские ребята в этой книге, и здорово воюют, а мне не верится. Неверие занозой застряло – и хоть караул кричи. У отца спросить? Он, правда, в пехоте был, но, может быть, что-то и про танкистов знает? Не верилось мне, что танки горят! Как может гореть железо?! Чугунок, сковорода на огне не горят, а танк почему-то должен гореть? Да как его спрашивать? Ответит как-нибудь, что все смеяться будут. Спрошу Ваську.
– Там железо совсем другое, – ответил, немного подумав, Васька. – Оно горючее.
– Чугунок же не горит? – пытал я друга.
– Если его прострелить снарядом, он тоже загорится, – защищался Васька, но уверенности в его словах не слышалось.
– Давай попробуем пробьем сковороду?! – предложил я проверить его слова на деле.
Сковороду со щербиной нашли в курятнике у Васьки дома. Из нее воду пили куры. И ружье с пулей взяли у Васьки. Стрелял тоже Васька. Попал. Сковорода развалилась на куски, но не загорелась, даже не нагрелась нисколько.
– Там железо другое. Горючее. – С большей долей уверенности заявил Васька.
– Зачем такое железо на танках, если оно горит? – не сдавался и я.
– Оно легче, – нашел ответ Васька, и я в это поверил.
– У папки портсигар из такого железа, – припомнил я. – Он совсем легкий.
– Неси, проверим, – распорядился Васька.
Стрелять в портсигар мы не стали, пуль у Васьки не было, решили проверить на костре. Портсигар долго не горел, он только менял свой цвет. Мы уж подумали, что и тут ждет нас неудача, но вдруг он почернел, и от него отвалился угол и упал каплей в огонь.
– А ты говорил! – обрадовался Васька. – Я же тебе говорил!
Нести домой половину, оставшуюся от портсигара, было бессмысленно и опасно. Ее бросили тоже в огонь.
Отцу этот трофейный портсигар никогда не был нужен, а тут вдруг он его хватился. Пошарил за наличником двери – не нашел.
– Где он? Я его сюда ложил… – бубнил отец, заглядывая в сундучки и ящички. Я прижух, прикинувшись непонимающим. – Ты его не брал?
– Кого? – спросил я, мало надеясь на нужный мне ответ.
– Корову! Портсигар мой! – уставился на меня светлыми глазами отец.
– Зачем он мне? – как можно безразличней ответил я и пожал плечами.
– За тем, что все берешь без спросу! – отец уже сердито посмотрел на меня.
– Может, Федьку спросить? – намекнул я на старшего брата.
– Он что, курит?
– Н-не знаю…
– Тогда зачем говоришь?
– Просто так. Может, кнопки туда. Перья тоже.
– Кто стрелял в огороде? – не к месту спросил отец.
– Не знаю. Я не стрелял, – решил я не признаваться, а сам подумал: «Не раскололся бы только Васька, тогда будет мне». Пронесло на этот раз!
Весна пришла, как из-за угла выглянула. Сразу все зажурчало, забурлило. Ручьи потекли, промывая себе путь на дорогах, из дворов – в огороды и поля. Закрутил, завертел весенний воздух, в котором слышалось все: и прелость прошлогодней травы, и сладковатый запах навоза, и терпкий, бьющий в ноздри, аромат подтаявшего снега. На крышах, с которых уже сполз снег, топтались, надув зоб, голуби. Пес Байкал, помесь как минимум пяти пород, призадумавшись, лежал на прогретой крыше будки. Его ничто не интересовало. Даже ворона, косо поглядывающая с недоверием на своего противника, не раздражала его. Не успевший оттаять кусок хлеба она уволокла из-под самого его носа.
Учиться не хотелось. Каждая минута времени за уроками казалась бездарно потерянной. А учиться еще долгий месяц! Но вот и он заканчивается. Впереди долгие летние каникулы! Я бегу домой со смешанными чувствами: мне радостно, что наконец-то я свободен, и горестно от того, что придется показывать дневник отцу и выслушивать его упреки. Говорить, что дневники Суповна не заполнила, что потом заполнит, уже не хотелось. Не хотелось враньем портить праздник.
– Ну, чем порадуешь на этот раз? – спросил отец, почему-то раньше времени оказавшийся дома.
– Не знаю, – промямлил я в ответ.
– Что не знаешь?
– Ну, это… не знаю, как…
– Давай сюда дневник, – протянул отец мосластую, в пятнах смолы, руку.
Сунув, как в расплавленный свинец, руку в портфель, я достал дневник, подал его отцу, не ожидая ничего хорошего.
– Так, – сказал отец, листая страницы дневника. – Три, три, пять, пять, три. Поведение удовлетворительное. – Отложив в сторону дневник, посмотрел на меня внимательно и сказал: – Эти три, три, три можно было получить и не заходя в школу. Убрал из-под свиней навоз, сел, почитал книжку, и ты уже знаешь на три, а то и на пять. Тут же пальцем о палец не ударил по дому – и одни трепаки! Может, головка не та? Может, покрасить ее в черный цвет, и тогда она думать научится? Может…
«Лучше бы выпорол, как тогда, и дело с концом, – определил я себе наказание за неудачный первый учебный год. – Я и штаны вторые заранее пододел».
Отец выпорол меня один раз и, как я считаю, ни за что. Мы с Васькой решили попробовать вкус табака на их сеновале. Сеновал сгорел, а нам досталось по полной. Теперь я знаю, что курить на сеновале нельзя! Теперь, как только кто заговорит о куреве или пожаре, у меня проявляются красные полосы на ягодицах.
– Есть в вашем классе кто-нибудь еще, кто хуже тебя школу закончил? – пытал отец.
– Гошка Власов и Васька. У них все трояки, – поспешил я с ответом.
– Да ты что? А ты, конечно, молодец, ты у нас третий от заду? В тройку лучших попал!
Лучше промолчать, хотя и у Мишки Криулина и Федьки Маркова почти одни трояки.
– Соседи будут спрашивать: как ваш сын школу закончил? Что мне им отвечать, подскажи. Может, сказать, что больной? Или что все хозяйство в доме на твоих плечах? Дрова из лесу возил в самую стужу, воду в кадке на санках возил из проруби? В стайке чистил и прибирал? А? Что мне им говорить?
Отец распалялся. Глаза его сузились до щелочек и казались холодными, как изо льда.
– Я исправлюсь, – сказал я привычное слово, сам не веря в это.
– Горбатого могила исправит, – сказал отец, тяжело вздохнул, встал и вышел.
Глянув на дневник, как на ядовитую змею, я подумал, что нехороший человек придумал его.
Лето выдалось сухим и жарким. Я пропадал на речушке днями напролет. Даже на обед не хотелось прибегать. Да и особой нужды в этом не было. Колхозный огород с морковкой, репой, турнепсом, капустой рядом. Руку протянул – и у тебя сытое брюхо. Зато все время твое! Загар с илом зачернили кожу так, что трудно понять, какого ты роду-племени. И когда у машины спустило колесо и мы оказались тут же, то шофер долго разглядывал мою шею, а потом спросил, почему я не мою ее.
– Она так загорела, – ответил я, искренне веря в это.
– А ты все же попробуй помыть. Лучше с мылом и мочалкой!
Совет я утаил от мамы, и сам им не воспользовался. Зачем сегодня мыть шею, если завтра она будет такой же.
Во второй половине августа задождило. Мелкий, въедливый дождь моросил бесконечно. Пахло гнилью и сыростью. Выходить на улицу не хотелось никак. Даже по нужде. Я терпел до последнего. В конце дня я шел на луг, где паслись телята и гнал хворостиной домой нашего крутолобого бычка. Опорки промокали насквозь. Ногам было зябко и неуютно. Мешок, накинутый на голову и плечи вместо несуществующего в доме плаща, становился холодным и тяжелым. Хотелось тепла и солнца. Хотелось в школу, в чистый и сухой класс.
Приехали с заимки Федька и Лида. Сенокос в колхозе приостановили, и всех привезли домой.
– Ну как ты тут? – спросил меня Федька и потрепал по голове. Внимательно всматриваясь в макушку, удивился: – Голова-то твоя совсем красная! Была не такая.
– Сентябрь чтобы не подвел, – пропустил мимо ушей красноту моей головы отец. – Картошку бы не погноить. Неделька бы сухой выдалась, как копать.
У меня свело пальцы рук от одного только упоминания о выковыривании картошки из холодной грязи со снегом пополам.
– Накинулись бы все, чтобы сразу, – планировал отец сложную и важную операцию, от успеха которой зависело, быть ли нам с картошкой в зиму.
– Будет, – заверила мама. – Сейчас выльется все, а потом прояснеет.
– Ты так говоришь, вроде Бог с ведром на небе сидит и прислушивается к твоим словам, – криво усмехнулся отец.
– А то как же! От Него все, – согласилась мама.
– Так попроси Его не лить, когда будем копать.
– И попрошу. Он услышит.
– Услышит, как же! Держи карман шире!
– Услышит, услышит.
Как-то проходя мимо Васькиной избы, я увидел на завалинке под навесом крыши своего друга.
– А че ты не верхом? – поставил меня в тупик вопросом Васька.
– У нас нет коня, – ответил я.
– На бычке, – просто ответил Васька.
Я посмотрел на бычка, стараясь представить себя в качестве лихого наездника. Картина не вырисовывалась.
– Я своего обучил, – продолжил Васька, оценивая взглядом ничего не подозревающего бычка. – Он даже больше твоего. Но я его объездил.
– Как? – принял и я решение прокатиться на спине ничего не подозревающего бычка.
– Да совсем просто! Запрыгивай ему на спину, ложись поперек, и пусть он тебя таскает. Устанет и смирится. Правда, сбросит несколько раз, а потом успокоится. Отгоняй от прясла, любят они зацепить тебя штаниной за жердь. Прутиком по морде, он голову в сторону, и сам от прясла отворачивает.
– А если зацепит? – Я представил себя надетым на жердь.
– Сиди не моргай, тогда и не зацепит, – прост был совет Васьки.
С этого момента жизнь моя превратилась в борьбу. Я был упрям, а бычок во сто крат упрямее. Я падал, поднимался, запрыгивал на острую спину бычка, чтобы тут же оказаться на земле. Вот, кажется, и он смирился, терпит меня на своей горбатой спине. Но иногда находит на него блажь, и он, упруго вскинув зад, сбрасывает меня на землю. Три раза зацепил штанами за жердь. И это позади.
Я еду на бычке мимо Васькиного дома, поглядываю на окно, мне хочется похвастать своими достижениями в джигитовке. Под окнами огромная лужа. Что заставило бычка остановиться посредине лужи, и ни назад, ни вперед и шага сделать – то мне неведомо. Остановился как вкопанный! Прутик тоже не действовал на его упрямство. Сколько бы продолжалось это забастовочное действо, я не знаю, но тут отворилось окно, а из окна – хитрая Васькина физиономия.
– Ты крутни его за хвост! – с радостью выкрикнул он мне. – Как заводной ручкой!
Крутнул. Бычок пулей выпрыгнул из-под меня, и я оказался в луже.
– Я не успел сказать тебе, чтобы ты крепче держался, – посочувствовал мне Васька, а морда как у настоящего хорька.
В школу я шел с измазанным зеленкой лицом. Лида намазала. На лице вдруг выступили синие пятна, потом они превратились в пузыри, потом пузыри полопались и остались красные пятна.
Эрнеста-Хэмингуэя не было, он уехал со своей мятежной мамой Биссектрисой куда-то далеко из Сибири, подальше от ее простоватых обитателей, могущих дурно повлиять на прилизанного сына-надежду. Его место за партой с лупоглазой пустовало.
– Садись с Яковлевой, – распорядилась Суповна, мельком глянув на мое пятнистое лицо.
– Я с ним не сяду! – Вышла из-за парты Яковлева. – Он лишаистый!
«Ну, гадина! Это тебе так просто не сойдет!» – поклялся я, мысленно проведя ногтем большого пальца по горлу.
Зусия Юсуповна долго смотрела на меня, на лупоглазую Яковлеву, на Ваську, в одиночестве сидящего за огромной партой.
– Садись с Хорьковым, – распорядилась она, и в глазах какая- то надежда. Она читалась просто: «Зло, которое распространялось на весь класс, теперь замкнется только на двух ее источниках. Они погасят это зло на себе!»
Сулия Суповна ошиблась. Ошиблась, несмотря на свою природную прозорливость и смекалку. Мы с Васькой, скооперировавшись, творили чудеса! Вдвойне! Втройне! Юсуповна, признав свою стратегическую ошибку, посадила меня с Павловой, а Ваську – с пучеглазой Яковлевой. То ли место было заколдованное, то ли иссяк мой талант забияки, но мне почему-то расхотелось смешить пацанов. Иногда вскидывался я, чтобы отчебучить что-нибудь этакое, но, глянув на примерную Павлову, мне тут же уже не хотелось этого. Подглядывать, списывая контрольную, тоже стало как-то не по себе. Прямо на глазах рушился мой авторитет, и я ничего не мог поделать, чтобы предотвратить это мое позорное падение в глазах всего класса. Какой класса – всей школы!
– Ты не болеешь? – спросил меня отец, просматривая мой дневник. – Эта пятерка твоя или ты ее слямзил у соседа? По математике? – отец недоуменно поджал плечи. – Пускай бы по пению или физкультуре… Но математика!
– За изложение тоже четверка, – робко заявил я, опасаясь услышать упрек, почему не пятерка. – Лишнюю запятую поставил и перенос не там…
– Меня успокаивает, что это случайные события. – Отец потер лоб, виски. – И ты больше не будешь ставить меня в тупик своими выходками. Чтобы за ум взялся… – Отец опять поджал плечи.
Удивлялся не только отец. Удивлялась, и как еще удивлялась, Зусия Юсуповна. Чтобы убедиться в свой ошибке, чего только она не придумывала! Спрашивала два, три дня подряд, надеясь подловить. Вызывала к доске, где я должен был решать домашнее задание по математике; диктовала, искажая звуки, трудные слова; заставляла повторно читать стихи, думая, что я не помню уже слов. Но мне страшно везло! Четыре и пять стали моими постоянными оценками! И смешить само собой расхотелось. Я не узнавал себя. Я портился на глазах.
«Что смешного в вывернутой наизнанку шапке? – удивлялся я. – А они смеются», – тут же упрекал своих былых почитателей развлечений.
– Ты, мать, только посмотри на это чудо! – как-то выкрикнул отец, проверяя мой дневник, придя с работы. – Медведь, наверно, скоро сдохнет в берлоге!
– Что такое? – встрепенулась мама и заспешила к отцу. – Опять что-то не так?
– Опять не так, – подтвердил ее слова отец. – Невиданный случай: три пятерки!
– Так это же хорошо! – воскликнула мама и, как на неизлечимо больного, посмотрела на меня.
– Хорошо-то, хорошо, да только надолго ли это? Привыкнешь к хорошему, а тут – бац тебе! Опять двойка! И что соседям тогда говорить? – Замешательство отца мне не было понятно.
«Что тут такого страшного, если и проскочит двойка?» – не понимал я паники родителей из-за какой-то паршивой двойки.
Неудобства нового своего положения я скоро испытал сполна. Друзья-забияки отвернулись от меня, и не просто отвернулись, а с презрением, вроде я предал их всех. Если я подходил к кучке пацанов, то она тут же рассыпалась; если я предлагал кому-то помощь в решении сложной задачи (я их сам уже решал), то отказ был тут же; если на переменке я больно кого-то толкал в бок или спину, надеясь на ответный удар по голове или подножку, такого не случалось…
Скукота обуяла меня. Жизнь превратилась в ад. Желая исправиться, я перестал учить стихотворения, но меня уже не вызывали к доске читать их. Я небрежно выполнял домашние задания, – и это оставалось незамеченным. Зусия Юсуповна по-прежнему ставила меня в пример моим товарищам, отказавшимся от меня. И что самое противное, лупоглазая Яковлева глаз с меня не спускала. При каждом удобном и неудобном случае заговаривала со мной. Я пытался избавиться от такого ее внимания: раза два так саданул ее по спине сумкой, что корочки книг треснули! А она в ответ только любезно улыбалась. И с Павловой, не знаю, что делать. Если не может решить трудную задачку или как правильно написать заковыристое слово – бежит ко мне. Не откажешь же, если просит отличница.
Попыталась и лупастая Яковлева подкатить ко мне, прибежала с задачкой.
– Слушай, Яшкина, что у тебя на носу? Прыщик или бородавка, как у Бабы-яги? – спросил я ее. И отшил навсегда!
Окончательным изгоем я стал после Нового года, точнее после спектакля, в котором сыграл принца. Золушку, к моему неудовольствию, играла Яковлева. Говорить ей, как она мне нравится, для меня было хуже смерти. Но так написано… Я должен смотреть на нее влюбленными глазами, а мне никакими глазами смотреть на нее не хочется.
– Какой-то тусклый у тебя голос, – откинула на стул пьесу режиссер, ученица из 10 «Б» класса. – Ты влюблен в незнакомую, не похожую на всех других, добрую и красивую девочку! Твой голос должен дрожать от чувств, а ты: «Ме-ме, ме-ме». Как с картошкой во рту. Посмотри на нее другими глазами. Влюбленными. Смотри, какие у нее большие и красивые глаза!





