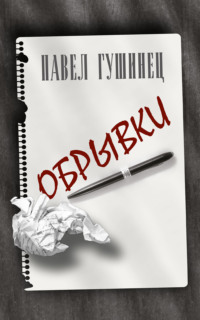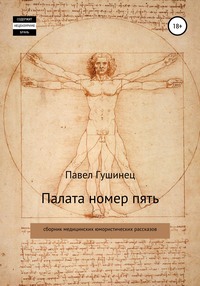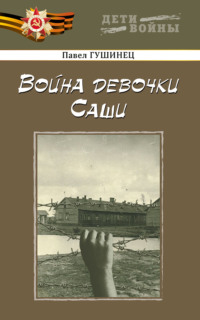Полная версия
Ещё немного из обрывков
Но и тут случился казус. Никаких микрофонов и проводов магнитофону не полагалось. Сверху было квадратное функциональное отверстие. Его следовало приближать к динамику телевизора и таким диким образом записывать. Естественно, на фоне Хэтфилда постоянно слышались посторонние звуки. Телефонные звонки, топот соседей сверху и бабушкино: «Павлик, иди кушать!» Ещё и МТВшные дельцы, гады, полностью песни не крутили, а обрезали последние минуты, а то и целый куплет. Видимо, как раз для того, чтоб такие стихийные пираты, как я, песни не воровали. Поэтому я только в середине двухтысячных услышал, о чём допела красавица чудовищу Мит Лоуфу (это полный такой рокер, совсем не красавица, он в клипе играл как раз чудовище).
Однажды утром я пришёл в школу. Вторым уроком у нас была музыка. Ну вы помните эти постыдные и бесполезные сорок пять минут один раз в неделю. Когда тебе неимоверно скучно выслушивать про Бетховена и Брамса, а потом так же неимоверно стыдно петь хором что-то детско-патриотическое.
Прихожу я в кабинет музыки пораньше, пока одноклассники возятся в коридоре, а там наша молоденькая учительница что-то слушает с проигрывателя. Крутится огромная чёрная пластинка, а из динамика…
А из динамика шикарная музыка. Какой там Брамс, Бетховен. Что-то роковое, но на русском. И слова хорошие, за душу берут.
– Что это? – чуть ли не шёпотом спрашиваю я.
Учительница вздрогнула и очнулась.
– А-а, это ты, Паша. Уже урок? Ты что-то спросил?
– Я спросил, что это играет?
– Это рок-опера «Юнона и Авось» Рыбникова. Понравилась?
Стоял бы рядом со мной Мишка, я бы, конечно, ответил отрицательно. Но мы были одни, поэтому я кивнул.
– Да, замечательная вещь.
– Хочешь ещё раз послушать?
Я снова кивнул. Но тут в класс шумной толпой ввалились мои одноклассники, нам стало не до разговоров.
После урока я осторожно подошёл к учительнице, набрался храбрости и сказал:
– А дайте мне пластинку домой. Я перепишу на кассету.
«Музычка» посмотрела на меня с удивлением.
– Ну, бери. Только осторожно, не поцарапай.
Какое поцарапай, я старался в сторону пластинки лишний раз не дышать.
Пришёл домой и тут же бросился к соседу.
– У тебя же есть проигрыватель для пластинок?
– Валялся где-то.
– А дай мне на пару часов.
– Дай, – хмыкнул сосед. – Ты видел этот проигрыватель?
– Видел, – удивился я. – Большой, конечно, но дотащу.
– Это только сам проигрыватель, хихикнул сосед. – А колонки?
– А что колонки?
Сосед кивнул на две огромные тумбы, которые я несколько лет искренне считал декоративными элементами мебели.
– Вот. Колонки.
Я чуть не надорвался, но перетащил к себе проигрыватель, колонки и ещё какие-то провода. Соединил в комнате в страшную паутину. Прислонил к динамику «Интернейшнл» и дрожащими руками распаковал подаренную на день рождения новенькую кассету на 60 минут. Запустил проигрыватель и на цыпочках вышел в коридор. Возвращался два раза. В первый, чтоб перевернуть кассету, во второй, чтобы поставить новую, только что купленную. Сама опера ведь почти полтора часа, а кассеты по 60 минут.
С последними аккордами «Аллилуйи любви» я выдохнул. Выключил проигрыватель и вставил первую кассету в магнитофон.
Качество было ужасное. Динамики хрипели, выли. Магнитофон записал, как я заходил в комнату и топал как слон. Но запись была у меня. И я уже до дыр заслушивал «Ты меня на рассвете разбудишь».
Мишка меня не понимал и смеялся. У него валялась дома кассета «Морбид Эйнджел», и ничего легче он не признавал.
А я до сих пор «Юнону» люблю, «Суперзвезду» тоже. Даже, прости Бетховен, «Кошек». Первая песня, которую я выучил на гитаре, была, конечно же, «Ты меня на рассвете разбудишь».
Сейчас всё доступно и просто. Недавно я приволок домой проигрыватель. Именно такой, как в детстве, с колонками. А потом побегал по городу и достал в музыкальных магазинах настоящую пластинку с «Юноной и Авось». Такую же, как тогда. С тем же запахом. И сел вечером слушать, выгнав родных в другую комнату.
Незабываемые впечатления.
«У кошки четыре ноги», или История современного беспризорника
Некоторое время назад стучится ко мне в социальную сеть незнакомый парень. Думаю, кто-то из читателей открыл для себя Доктора Лобанова и хочет пообщаться.
– Здравствуйте, – пишет незнакомец. – А вы меня не помните?
Внимательно разглядываю фотографию. Нет, точно не помню. Место жительства собеседника – белорусская столица, но нас тут уже почти два миллиона, да и с моей памятью на лица узнать кого-то с кем неделю назад беседовал – это уже достижение.
– Вы же работали в начале двухтысячных в больнице на Уральской?
– Работал, – отвечаю. – Учился в универе, а в больнице санитаром подрабатывал. По ночам.
– А помните, к вам мальчишку привезли, беспризорника. Вы с ним ещё на крыльце курили?
В памяти начали появляться какие-то проблески.
– Ну допустим, – отвечаю.
– Так я и есть тот самый беспризорник! – радостно сообщает незнакомец. – Я вас тогда по фамилии на бейджике запомнил. Фамилия не самая распространённая. А тут наткнулся в интернете, решил уточнить – вы ли это.
– Я, – подтверждаю. – Как вообще дела?
– Теперь уже хорошо. Слушайте, а напишите про меня рассказ.
– Да я уже и не помню почти ничего, – засомневался я.
– А я вам сейчас напомню.
И напомнил. Точнее, с самого начала поведал свою историю. Добавил деталей, о которых я не знал. И получился следующий рассказ. Имена с разрешения участников изменил.
Родители развелись, когда Кириллу было лет пять, не больше. Отец как-то сразу исчез, уехал в другую страну и не появлялся даже на день рождения сына. Высылал откуда-то издалека непонятные и ненужные подарки. Мать демонстративно бросала их на пол.
– Лучше бы денег прислал!
Расстались родители плохо.
Мать быстро нашла отцу замену. Огромного и громкого Ивана Петровича. Отчим владел на рынке несколькими ларьками, был шумным любителем выпить на кухне хорошей водки в неограниченных количествах, владельцем модного «мерседеса» стального цвета, хозяином жизни. Кирилл с матерью переехали в его большую квартиру и зажили новой семьёй.
К пасынку Иван Петрович относился не то чтобы плохо, но как-то равнодушно. Ходит по дому что-то мелкое, незаметное, ну и пусть ходит, лишь бы не мешал. Завели огромную и дурную собаку – афганскую борзую Лайму. У Кирилла появилась постоянная обязанность – в любую погоду утром и вечером выгуливать псину по часу на улице. Мальчик и собака сразу же невзлюбили друг друга. Только выйдя на улицу, Лайма с диким лаем срывалась с места, обжигая ладони поводком, и уносилась в неизвестном направлении. Следующий час Кирилл бегал по дворам, искал борзую, а отыскав, устраивал на неё охоту. Нужно было поймать волочащийся за собакой поводок и притащить Лайму домой. Борзая издевалась, подпускала мальчишку совсем близко, но как только он нагибался за поводком, включала суперскорость и снова уносилась вдаль.
По утрам из-за собаки Кирилл нередко опаздывал в школу. Приходил весь в грязи, набегавшись по лужам за коварной псиной. Получал ни за что.
Когда у матери и отчима родилась общая дочь, стало хуже. Катя – копия Ивана Петровича. Такая же светловолосая, круглолицая, крупная. А Кирилл чернявый, смуглый, худой – вылитый отец. Лишнее напоминание о другом мужчине.
Начал Иван Петрович на пасынка покрикивать. Бывало и по шее даст. Попадало за школу, за грязные штаны, да любую мелочь. А Катю чуть ли не с пелёнок заваливали подарками, всё прощали, возили на концерты и самые дорогие кружки. Отмечать четырёхлетие с толпой подружек в ресторане – пожалуйста. На Новый год игрушку стоимостью в докторскую зарплату – ничего для доченьки не жалко. Изрисовала дневник брата фломастерами – так это не она виновата, а ты, дебил, дневник куда попало бросаешь!
Кирилл молчал. В семейной иерархии он был ниже всех. Даже Лайма пользовалась большими привилегиями.
Внешне в семье всё было хорошо. Дети одеты, обуты, накормлены. В квартиру приходили учителя с проверками, восхищенно рассматривали обои с шелкографией, дорогую технику, какие-то безумные ковры. У Кирилла – своя комната, набор игрушек, учебных принадлежностей. Одежда, конечно, с рынка, но не от китайских соседей, а от дяди Амира. А дядя Амир дешёвую фигню из своей Турции не привезёт, потому что должен Ивану Петровичу денег. Учителя рассказывали родителям, что Кирилл плохо общается со сверстниками, плохо учится, не идёт на контакт. Учителя уходили с чувством выполненного долга, а отчим брался за ремень.
Однажды в октябре отчим пришёл в домой в плохом настроении. Не ладилось с бизнесом, партнёры пытались выгнать его из дела. А тут Кирилл подвернулся под руку. Иван Петрович выпил для затравки стакан водки и начал на пасынка орать. Мол, учится плохо, под ногами путается, за собакой и сестрой совсем не смотрит. Наоравшись, сел ужинать. Кирилл тихонько выскользнул в прихожую, где на вешалке висела дублёнка отчима. А из кармана торчал «лопатник» с дневной выручкой. С колотящимся сердцем Кирилл потянул кошелёк на себя. Несколько рублёвых бумажек. Пачка долларов, перевязанных резиночкой. Купюр немного, но все крупные, сотенные. Кирилл сгрёб деньги в карман, оделся, неслышно открыл дверь и выскользнул на улицу.
Первые недели две он жил в подвале собственного дома. Ещё первоклассником вычислил, что внешне монолитная фанерка в подвальном окне легко сдвигается. А там – почти комната с тёплой трубой. Можно спать, укрывшись курткой. Уже через три дня, наголодавшись и замёрзнув, Кирилл пожалел о побеге. Пробирался вечером к дверям собственной квартиры, слышал, как в тёплых комнатах ходят и разговаривают мать, сестра, отчим, как ворчит, почуяв его, борзая Лайма. Рука сама тянулась к звонку. Но не звонил. Боялся отчима.
Хуже всего было даже не с едой. Поначалу хватало рублей. Потом стал потихоньку разменивать доллары. Кирилл понимал, что если в обменнике объявится грязный мальчишка и протянет сто долларов, то его тут же повяжут. Вычислил возле магазина мужичка с добродушной физиономией, попросил поменять. Первая сотенная купюра ушла в закат вместе с добродушным мужичком. Вторую поменяли толстая тётка с подвыпившим мужем.
На полученные деньги Кирилл наконец-то сходил в общественную баню. Именно с чистотой была проблема. Уже через три-четыре дня от него попахивало подвалом, в метро и переходах сторонились прохожие, подозрительно косились милицейские патрули.
Ещё через неделю оставаться в подвале стало опасно. Соседей с первого этажа кто-то подтопил, и в убежище нагрянули сантехники. Кирилл едва успел сбежать.
На улице холод собачий, середина ноября, дождь, слякоть. Надо где-то ночевать. Придумал вот что, приезжал на вокзал, покупал билеты на поезд, который всю ночь неспешно тянулся до Гомеля или Полоцка. Брал сразу два, сообщая кассирше:
– Это для меня и для батьки.
– А где отец? – обычно равнодушно спрашивали кассирши.
– Да за пивом пошёл, – беспечно отмахивался Кирилл.
Грязноватый, очевидно сельский мальчишка едет с батькой на периферию, его отец покупает пиво, чтоб не скучать в дороге. Обычное дело, какие уж тут подозрения. Билеты продавали быстро и без лишних вопросов. Кирилл устраивался на полке в плацкартном вагоне и засыпал. Потом весь день бродил по чужому городу, а вечером брал билет обратно в Минск.
Его, конечно, искали. Сразу же написали заявление в милицию, отчим поднял знакомых «бандитов». Но Кирилл особо не светился. Прятался, не вызывал подозрений, купил сменный комплект одежды. Вот только промок под дождём, простыл сильно, кашлял по ночам на весь вагон. Бабка какая-то пристала с разговором – куда, мол, едешь, где родители? Набрехал ей с три короба. Поверила, даже пирожками с капустой накормила.
Попался случайно. Уличная жизнь вымотала, не мог толком поесть дня два, не выспался, был в каком-то полуобморочном состоянии. Прыгнул из вагона на вокзале, попал ногой в заледеневшую лужу и хлопнулся головой об асфальт. Тут же набежали сердобольные прохожие, начали поднимать. А у него висок рассечен об асфальтные неровности, кровь течёт.
– Где родители?! – кричат.
А какие родители? Примчался патруль, вызвали скорую. Трясут Кирилла, где родители, где живёшь? А ему уже всё равно, молчит, смотрит на всех безразлично.
Почему его посреди ночи приволокли к нам в больницу, я уже не помню. Приёмное отделение едва затихло, пациенты заснули, в коридорах только медсёстры корпели над пухлыми бумажными пачками. Я сидел на подоконнике, смотрел на улицу, думал о том, как бы не завалить первый коллоквиум по анатомии. А тут вваливается в дверь целая делегация. Впереди – три милиционера с дубинками-пистолетами, между ними – как особо опасный преступник – худющий грязный мальчишка лет двенадцати. На голове у мальчишки бинт, а сбоку уже проступает красное. За ними – «скоряки».
Невролога, педиатра, дежурного лаборанта. Привычная круговерть. Где-то в середине всего этого дурдома мальчишка остался со мной наедине. Ну как наедине – рядом с нами постоянно маячил рослый сержант, но он в разговор не вмешивался, больше молчал.
– Можно мне покурить? – хрипло спросил мальчишка.
Милиционер равнодушно пожал плечами. Я протянул пацану пачку, мы вышли на крыльцо.
– Сбежал? – спрашиваю.
– Ага, – кивнул беспризорник.
– Давно на улице?
– С октября.
– Однако, – я поёжился, поглядев на декабрьские сугробы. – Лучше бы летом.
– Точно, – согласился со мной Кирилл.
– Родители есть?
Парень вздохнул.
– Есть. Уже позвонили им. Едут.
– Что, так плохо?
И тут его прорвало. Пока к больнице мчались мать и отчим, он, запинаясь и размазывая по лицу слёзы, рассказал мне и про подлую собаку Лайму, и про сестру, и про отчима. Про дублёнку с «лопатником» и подвал. Почему мне? Кто его знает. Был бы, наверное, на моём месте кто-то другой, ему бы тоже рассказал. Сержанту тому же, который курил сигарету за сигаретой и вроде бы смотрел в сторону, но у самого пальцы тряслись.
Поговорили. Кирилл с сержантом опустошили мою пачку сигарет, парень выплакался и немного успокоился. А тут в приёмное ворвался шумный Иван Петрович. Кирилл сник, опустил плечи и пошёл сдаваться. Начались крики, вопли, рыдания. Раза два милиционеры висли на вошедшем в раж «родителе», не давая ему добраться до пасынка.
Что было дальше, я не знаю, а сам Кирилл рассказывать не захотел. После девятого класса он сбежал из дома уже официально. Поступил в какое-то училище, там ему дали общежитие. Теперь у него всё хорошо.
Историю мы с ним, конечно, слегка переделали, чтоб даже случайно не дошло до тех, кому о ней не надо слышать. Но сегодня он рассказ о себе прочтёт.
Курить мы, кстати, оба бросили.
Пастух
В пять лет я впервые стал пастухом. Это получилось совершенно случайно и неожиданно. Бабушки мои были типично городскими жительницами, домиков в деревне не имели, поэтому лето моё традиционно проходило на раскалённых асфальтовых площадках и пыльных стройках. В этом была своя особенная прелесть, и я до сих пор не могу спокойно пройти мимо строящегося здания. Хочется перелезть через забор, вдохнуть запах цемента, наковырять серой оконной замазки, получить по шее от сторожа.
С трудом себя останавливаю. Я уже взрослый дядька, мне несолидно получать от сторожа.
Но рассказ не про это. В связи с городскими бабушками деревенские пасторали в виде парного молока, русской печи и купания в озере были для меня далеки и непонятны. Тут маме дали отпуск, а в деревне, в полусотне километров от города нашлась троюродная бабушка, которую я видел крайне редко. Бабушка – это всегда бабушка, несмотря на отдалённость родства. Нас радушно позвали в гости, пожить пару месяцев на экологически чистых продуктах и свежем воздухе.
– Павлик, вон зелёный весь в вашем этом городе, – весомо сказала троюродная бабушка. – И худющ-щ-щий. Поест, загорит, накупается. Приезжайте.
И мы поехали.
Помню свой восторг от всего происходящего. В деревне был самый настоящий зоопарк. Свиньи, собаки, кошки, коровы. Они совершенно свободно разгуливали по улицам, купались в пыли и песке неасфальтированных дорог, с визгом разбегались из-под колёс редких тракторов. В городе, стоило мне наклониться, чтобы погладить бродячую кошку, мать бросалась ко мне:
– Не трогай! Она может быть заразная или блохастая!
В деревне я мог гладить любого кота сколько угодно. Некоторые меня даже царапали. С бабушкиным петухом у меня разгорелась настоящая война, куры, под ноги которым я сыпал зерно, напоминали послушную армию, а особо ушлый цыплёнок так обнаглел, что устроился подремать на моих коленях. Утки, гуси, воробьи. Стрекот журавлей и соловьиные трели. Хищный то ли коршун, то ли ястреб, который кружил над крышей в поисках зазевавшегося птенца. Разговоры о том, как в лесу обнаглели лисы, а возле соседней деревни видели волка. Природа.
В крошечном сарайчике обитало страшное чудовище. Огромная «ароматная» свинья. Мне строго-настрого запрещалось заходить в сарай без бабушки. Пугали тем, что свинья может меня сожрать. Однажды я вооружился толстой веткой, вопреки запрету пробрался в сарайчик, подставил чурбачок и осторожно заглянул через доски перегородки. Свинья хрюкнула и уставилась на меня в ожидании. Она была просто огромная, раза в два тяжелее меня, вся розовая, покрытая жесткой белой шерстью. А пятачок у неё был голый, мокрый. К нему прилипли желтоватые опилки и солома. Долгую минуту мы со свиньёй смотрели в глаза друг другу. Наконец ей надоело ждать, когда я принесу себя в жертву её неуёмному аппетиту, и она выжидательно хрюкнула.
Я чуть не свалился с чурбачка. Чудище настойчиво требовало жертвы. А в руках у меня ветка, уже казавшаяся смешной и тонкой.
Выбора не оставалось. Или бросаться в пасть чудовищу самому, или отдать своё единственное оружие. Я вздохнул и бросил ветку свинье. Чудище понюхало подношение, задумчиво приподняло его с пола и вдруг яростно захрустело. Ветка мгновенно исчезла в пасти, а я сумел сбежать. С тех пор не заходил в сарайчик без бабушки. Я поверил в то, что свинья может меня сожрать.
Каждое утро бабушка поднималась раньше всех, выгоняла в общее стадо корову, а потом ехала на велосипеде на работу на местный хлебозавод. Мы с мамой поднимались гораздо позже, завтракали и шли гулять, открывая для себя каждый раз что-то новое и интересное. Вечером коровы возвращались, подгоняемые пастухами. Сами находили калитки своих домов, заходили во дворы, мычали, вызывая хозяек. Меня всегда это удивляло. Как корова узнаёт, что это именно её дом? Я и то иногда путал бабушкин дом с соседским и стучался не в ту дверь. Неужели корова умнее меня?
Бабушка встречала корову, вела её в сарай, доила, тут же наливая мне огромную кружку молока. Молоко мне не особо нравилось. Я предпочитал городское, из бутылки, разбавленное и почти безвкусное. Но бабушка смотрела на меня с таким умилением, что я мужественно выпивал всю кружку. И улыбался, чтобы сделать ей приятное.
Однажды в своих путешествиях мы с мамой забрели за деревенскую околицу и оказались на поле, где паслось стадо. И вот тут я понял, кем хочу быть, когда вырасту. Работа пастуха казалась мне мечтой. Сиди целыми днями на тёплой травке, помахивай прутиком и посматривай на небо. А коровы сами себе пасутся. Не жизнь – сказка. Можно книжки читать, можно просто лежать, думать о чём-нибудь своём. И тебе за это ещё настоящие деньги платят.
Я подсел на невысокий холмик к пастуху, серьёзному взрослому дядьке пятнадцати лет и проболтал с ним часа два. Это мне тоже очень понравилось. Пастух пообещал покатать меня на велосипеде, свозить на речку, а если я достану сигарет, то научить курить. Я признался ему в вечной дружбе и хотел уже навеки покинуть родительский дом и перебраться жить к новому приятелю, но тут за мной пришла мама и утащила обедать.
Наутро, чуть свет, я подскочил и бросился к стаду, чтоб увидеть своего друга. К моему разочарованию, на вчерашнем холмике сидела абсолютно незнакомая чужая тётка, смотревшая на меня с подозрением.
– А где пастух? – робко спросил я.
– А тебе кого надо? – нахмурилась тётка. – Сегодня я за пастуха.
Я раскрыл было рот, чтоб рассказать о своём друге, но вдруг с ужасом понял, что даже не знаю, как его зовут. Он, наверное, вчера представлялся, но я то ли пропустил мимо ушей, то ли забыл.
– Так чего ты хочешь, хлопчик? – добила меня вопросом тётка.
Я струсил и сбежал.
Пару дней я ходил и мучился. Желание снова оказаться среди стада боролось во мне со страхом перед чужой тёткой. Наконец я решился. После битвы с кровожадным чудищем-свиньёй мне было ничего не страшно. Привычно вооружился толстой веткой и отправился в дальний поход к полю.
Вместо хмурой тётки сидел какой-то незнакомый мужчина. Я быстро втёрся к нему в доверие и начал расспрашивать про своего потерянного друга.
– Пару дней назад? – переспросил пастух. – А-а, это, наверное, Витька Шиткин дежурил. Их очередь была.
– Что значит очередь? – осторожно уточнил я.
И тут мне поведали простую и эффективную схему. Оказывается, стадо было не колхозное, охраняемое профессиональными пастухами, а деревенское. Поэтому пасли его по очереди. Каждый дом – один день. Домов в деревне с полсотни, значит, мой новый приятель Витька вернётся на поле не раньше следующего месяца.
– А то и вовсе мамка за него выйдет, – расстроил меня пастух.
Я замолк, задумавшись о коварной судьбе и коровьей очереди, разлучившей меня с другом. Потеря казалась серьёзной.
Но в те годы долго задумываться над проблемами я не умел. И уже через полчаса оживлённо болтал с пастухом. Ему, видимо, было скучно, и он охотно отвечал.
На следующий день я познакомился с парочкой нетрезвых братьев, которые к обеду допили то, что принесли с собой, и заснули. Послушные коровы наелись и в назначенное время, как по будильнику, потянулись по домам. Пастухи проснулись ближе к ночи.
Потом была невнятная старушка в платочке. С ней было скучно, она напевала себе под нос какие-то заунывные песни и не хотела разговаривать. Потом опять весёлый мужичок с перегаром. Смешливая девчонка с велосипедом. Кучка пацанов чуть старше меня, дерущих нос перед «городским».
Мои походы за стадом становились всё продолжительнее, приключения всё смелее. Однажды кто-то поджёг сухую траву на краю поля. Я заметил огонь и дым, бросился тушить пожар. Было очень трудно, потому что по деревенской традиции я был босой и не мог затаптывать коварные огоньки ногами. Воспользовался испытанным оружием. Подобрал толстую ветку и принялся бить ей огонь. Пожар шипел на меня, пожирая травинку за травинкой, но сдаваться не собирался. В тот вечер я вернулся домой насквозь прокопчённый, чумазый и с волдырями от ожогов на руках. Бабушка, услышав мой сбивчивый рассказ о битве с огнём, набрала из колодца ведро воды и одним махом решила все проблемы.
Огонь зашипел обиженно и умер. Эта притча, кстати, об эффективности распределения ресурсов в решении конкретной проблемы.
За то лето я, наверное, перезнакомился со всей деревней. Рассказывал им свои немудрёные детские секреты, а они в ответ говорили о чём-то своём. Жаловались на внуков, которые не приезжают, сетовали на начальство, переживали за урожай.
Не знаю, откуда появилась эта мысль. Наверное, кто-то из собеседников пожаловался на одиночество, и я вдруг задумался. Мама-то у меня тоже одна. Это если не считать меня, но я ведь ещё маленький. Отец где-то был, но виделись мы всё реже. Я уже и забывать его стал.
Родители тогда уже развелись, поэтому я всерьёз озадачился маминой судьбой и решил выдать её замуж.
Решил – надо делать. И я начал присматриваться к кандидатам в отцы и мужья. Выбирать надо осторожно. Кого? Ну конечно же пастуха, это же работа мечты, вы помните?
В первый же день мне повезло. Стадо на поле выгнали целых два перспективных кандидата.
Первый из пастухов мне при ближайшем изучении не понравился. Был он какой-то помятый, небритый. И, что самое главное, злой. Не захотел со мной разговаривать, а сразу же накрылся своей телогрейкой и захрапел на всю округу.
Второй в этом плане выглядел гораздо интереснее. Старый, конечно, лет тридцать, не меньше. Но весёлый.
– Гриша, – с ходу он пожал протянутую руку и пустился в рассказ о каких-то пойманных щуках и утреннем клёве.
Я сидел рядом, смотрел на него и представлял, что этот человек будет жить в нашей квартире, чинить выключатель, который вечно не хочет включаться, выносить мусор, менять лампочки. А по утрам обязательно пасти стадо. Где в городе предполагаемый кандидат должен был найти стадо, меня не волновало.
Примерно к полудню я перебил оратора неожиданным детским вопросом:
– Гриша, у тебя жена есть?
Пастух поперхнулся и посмотрел на меня с удивлением.
– Нет, а что?