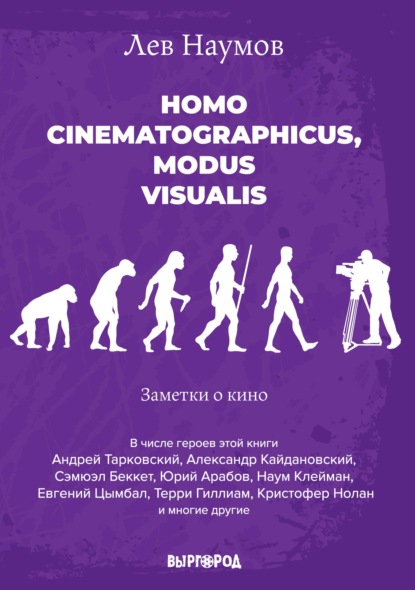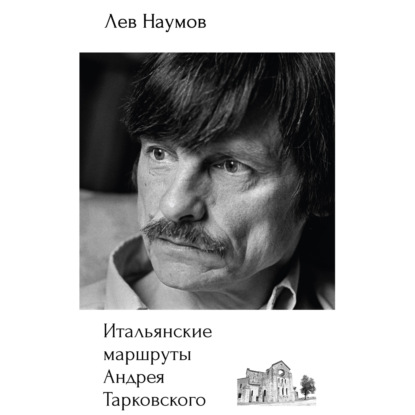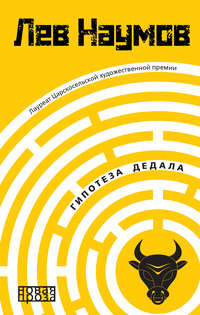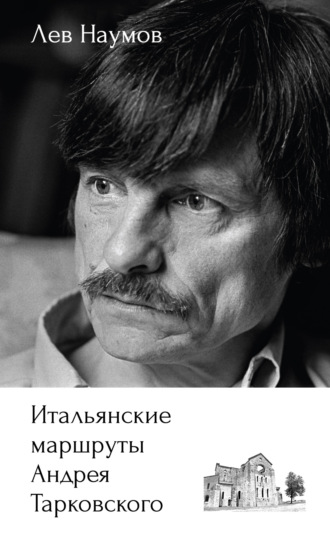
Полная версия
Итальянские маршруты Андрея Тарковского
От СССР в жюри фестиваля заседал режиссёр Иосиф Хейфиц. На фоне охладевших за время Второй мировой войны советско-итальянских отношений, описанные события имели, помимо прочего, и существенное политическое значение. В то же время, трудно не заметить, что в СССР Тарковский никогда не был обласкан и избалован высокими наградами. Собственно, при жизни он не получит ничего, кроме звания «Народный артист» в 1980 году, когда оно уже не будет иметь для Андрея никакого значения. Напротив, на родине режиссёр зачастую удостаивался обратного – странной и острой критики, неадекватных упрёков. Впрочем, подобное парадоксальное неприятие Тарковского также началось именно в Венеции, когда газета «L’Unità» крайне холодно отреагировала на первого в истории советского «Золотого льва». До сих пор не утихают споры о том, мог ли печатный орган коммунистической партии поступить подобным образом по собственной инициативе или, по крайней мере, без высокого согласования.
Опубликованный материал[28] клеймит фильм как «мещанский», утверждая, будто «от молодого режиссёра можно было ожидать большей новизны». Формулировки, которые читатели советских газет вскоре узнают очень хорошо, в данном случае принадлежат известному итальянскому критику Уго Казираги. Более того, он же пишет, что в этом сезоне ни одна из представленных на Мостре картин не заслуживает «Золотого льва». В свете приведённого выше списка конкурсантов такое утверждение звучит, мягко говоря, небесспорно. Однако апогея статья достигает чуть дальше, когда автор озвучивает следующий упрёк: «Создаётся впечатление, что режиссёр хотел скорее превратить кино в поэзию, чем воспроизвести душераздирающую трагедию уничтоженного войной ребёнка». Выходит, что и первое указание на поэтическую природу кинематографа Тарковского также было озвучено в Италии, хоть и в неожиданном критическом ключе. При этом, стоит заметить, что сам термин «поэтическое кино» принадлежит Виктору Шкловскому и был предложен вне связи с творчеством Андрея.
Заканчивая разговор о Казираги, приведём ещё одно примечательное утверждение, в котором, при желании, нетрудно увидеть «советский след»: «В этом смысле, даже если прозу Герасимова признать устаревшей, мы полагаем, что ветеран нашёл более современный путь решения своей творческой задачи». Критик неожиданно называет «современным» чрезвычайно традиционный, граничащий с архаикой (вовсе не в негативном смысле) фильм «Люди и звери», а новаторский, полный неоднозначностей, удивляющий кинематограф Тарковского он клеймит устаревшим. Герои Герасимова разглядывают картину Михаила Нестерова «Дмитрий – царевич убиенный» (1899), тогда как у персонажей «Иванова детства» – неожиданный… впрочем, в условиях фронта вполне ожидаемый трофейный альбом Дюрера. Героиня Жанны Болотовой читает в «Людях и зверях» стихотворение Всеволода Рождественского «Путешествие» (1921): «Нет не Генуя и не Флоренция / Не высокий как слава Рим, / Просто маленькая гостиница / Где вино ударяет в голову, / Где постели пахнут лавандою, / А над крышей – лиловый дым…» Чрезвычайно современно по меркам шестидесятых.
И всё же, справедливости ради следует отметить, что Казираги не был единственным, кого фильм Тарковского ввёл в подобное замешательство. Левая пресса вообще отзывалась об «Ивановом детстве» значительно хуже правой, при том что впоследствии нередко случалось наоборот. Картину критиковали «за формализм» и «за пацифизм». Последнее нуждается в пояснении. Всё дело в том, что пока воспоминания о Второй мировой войне были ещё свежи, СССР в целом и советское кино в частности обладали чрезвычайно высоким авторитетом, особенно в странах, переживших фашистскую оккупацию. Более того, эти государства нуждались в некой эстетической реабилитации, а потому уделяли особое внимание фильмам о войне. Отчасти (но, разумеется, не только) с этим можно связывать международные триумфы картин «Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова или «Баллада о солдате» (1959) Григория Чухрая. Неотъемлемой стороной сюжета в этом смысле становится описание жестокости нацистов по отношению к мирному населению. Исследователь Джереми Хикс пишет[29]: «Критическая рецензия Казираги отчасти объясняется тем, что коммунисты послевоенной Италии узнали себя в образах офицеров Холина и Гальцева». В любом случае ясно, что за упомянутой статьёй стоит куда больше политики, чем киноведения.
Примечательно другое: эффект от этой, безусловно негативной публикации «L’Unità», в отличие от советской критики, оказался сугубо положительным. На «защиту» Тарковского поднялись многие и, в частности, Жан-Поль Сартр, незамедлительно разъяснивший[30], что воплощение образов травматической памяти ребёнка требовало от режиссёра изобретения новых средств кино, позволяющих смешивать сон с явью, а это является безоговорочной новацией. Именно так можно помочь зрителю вообразить невообразимое.
В ходе фестиваля Андрей и Жан-Поль познакомились. Позже, когда в 1965 году французский философ приедет в Москву в компании Симоны де Бовуар, он вновь попросит устроить ему встречу с автором «Иванова детства». Тарковский явится на неё вместе с Кончаловским, и у них состоится довольно обстоятельный разговор.
Статья Казираги вызвала мгновенную реакцию множества кинематографистов из разных стран. Поднялась и широкая мировая общественность. Критик совершенно не упорствовал и мгновенно отступил, уже через неделю опубликовав в той же газете куда более добродушный по отношению к «Иванову детству» текст[31]. Вскоре на страницах «L’Unità» появились комплиментарные статьи за авторством поэта и театрального режиссёра Джулиано Скабиа[32], а также выдающегося историка русской культуры Витторио Страды[33].
Судя по всему, идея дать «Золотого льва» двум фильмам сразу принадлежала конкретно Хейфицу, хотя коллегиально жюри склонялось к награждению только картины Дзурлини. К слову, «Семейную хронику» единодушно и высоко оценила вся итальянская пресса безотносительно политической направленности. Здесь не стоит видеть лишь слепую поддержку соотечественника. Этот фильм полностью отражал представления об актуальном художественном кино, тогда как работа Тарковского выглядела довольно необычно.
Тем не менее Хейфиц, как заведено, предложил идею, чтобы поддержать «своего». Безусловно, её бы не приняли, если бы другие члены жюри не думали о чём-то подобном. Кроме того, «соломоново решение» очень хорошо вписывалось в общую канву набирающего обороты советско-итальянского сотрудничества в сфере культуры. В то время постоянно возникали идеи совместных проектов, в Москву и Рим регулярно направлялись делегации. Так в 1963-м в Италию в составе группы кинематографистов отправится Марлен Хуциев. В программе визита будет личная встреча с Федерико Феллини. Последующие события в жизни самого Андрея прямо или косвенно окажутся вытекающими из этой взаимной готовности двух стран к культурному диалогу и совместной работе, начало которой было положено в шестидесятые годы.
Любопытно, что в своём отчёте по итогам фестиваля Хейфиц, в противовес коммерческому кино, характеризует художественный фланг, как направление «Микеланджело Антониони и Алена Рене», а вовсе не Дзурлини и Тарковского. Вообще в этом документе он говорит об Андрее не так много, уделяя существенно больше внимания фильмам «Семейная хроника» и «Мама Рома». Интерес к последней картине объяснить нетрудно, поскольку неореалистическая эстетика была довольно близка Хейфицу. Так или иначе, но идея советского члена жюри наградить за главную роль в нём Анну Маньяни тоже встретила поддержку, пусть и не единогласную. Противники настаивали, что актриса превратила ленту в собственный бенефис и, выбрав другую исполнительницу, Пазолини вполне мог бы претендовать на главные призы.
«Мама Рома» – история о римской проститутке. Аналогично в фильме «Жить своей жизнью» о парижской жрице любви рассказывает Жан-Люк Годар. Хейфиц много внимания уделяет и этой работе, отмечая её бездушность, но и отдавая должное новаторству автора. А вот о великом Орсоне Уэллсе он не упоминает вообще. Таков негласный регламент советско-американских отношений.
На церемонии награждения Тарковского спросили, о чём его картина. Он ответил: «Это фильм о расстрелянном детстве… Детстве, в котором заложено всё наше будущее, будущее мира». В этих словах проглядывает многое из того, что обуславливает неизбежное рождение ленты «Зеркало».
Во время своего первого визита Андрей познакомился со многими деятелями культуры. В Риме же он в тот приезд не побывал. Сама страна понравилась ему чрезвычайно, хотя никаких скороспелых мыслей об эмиграции у него не возникло. Куда более сильное впечатление в этом смысле Италия произвела на Кончаловского, который, описывая[34] свой римский ужин с сыном Фёдора Шаляпина, отмечает: «Никогда не забуду ощущения легкости, радости, света, музыки, праздника. Все мои последующие идейные шатания и антипатриотические поступки идут отсюда».
Некоторые источники утверждают, будто после триумфа 1962 года Тарковского сразу пригласили в жюри Мостры, в котором он, якобы, заседал в 1964-м. Эта история кочует из публикации в публикацию, хотя не вполне соответствует действительности, поскольку упускается ключевая деталь: Андрей действительно был в жюри, но только фестиваля детских и юношеских фильмов. Признаться, без этого уточнения ситуация оказалась бы весьма странной: сколь успешным бы ни был мировой дебют, этого определённо недостаточно, чтобы тридцатичетырёхлетний режиссёр вошёл в ареопаг одного из главных европейских киносмотров.
Тем не менее не будет преувеличением назвать успех Андрея в Италии «путёвкой в жизнь». Не случись этого события, вся его дальнейшая судьба могла бы сложиться иначе. Судите сами, именно за «Золотого льва» Госкино выделило Тарковскому жильё – квартиру на Земляном валу[35] напротив Курского вокзала. На момент участия в фестивале он ещё даже не состоял в Союзе кинематографистов, куда его с лёгкостью приняли в 1963-м. Впоследствии, на обсуждении будущих работ режиссёра поток критики в его адрес удастся прерывать только напоминанием про Венецию. Этого «ресурса» «Иванова детства» хватит на то, чтобы чуть-чуть облегчить судьбу «Андрею Рублёву», «Солярису» и «Зеркалу». Даже три каннских приза за «Рублёва» и «Солярис» в качестве аргументов будут возникать значительно реже «Золотого льва».
Все тяготы последующих лет сыграют роль в формировании у Тарковского устойчивого ощущения, что кругом враги. В наши дни его картины единодушно признаются шедеврами. В 2016 году торжественно отмечался «юбилей» выхода «Андрея Рублёва». По этому поводу в Суздале был открыт памятник, и обильно звучало мнение, будто этот фильм – вершина отечественного кино. Удивляет другое: на праздничных мероприятиях никто не вспомнил, что картину семь раз собирались смыть, не оставив ни одной копии. Как бы тогда отечественное кино обходилось без вершины? Не говоря уж о том, что пятьдесят лет её выхода не в «обычный», а в «ограниченный» прокат стоило отмечать пятью годами позже, принимая во внимание, сколько лента пролежала «на полке».
Лишь каннский успех «Соляриса» потом немного «выручит» самый, пожалуй, проблемный в идеологическом отношении фильм Тарковского «Зеркало». Тем более, что договор на последний был подписан со студией даже раньше[36], чем на картину по роману Лема. Если бы «Зеркало» действительно оказалось не четвёртой, а третьей «зрелой» работой режиссёра, оно выглядело бы совершенно иначе. Не говоря уж о том, сколько сцен добавилось и «выпало» в итоге относительно сценария 1968 года[37].
Однако у Венецианских событий было и ещё одно неожиданное следствие. «Золотой лев» существенно облегчил Андрею доступ к шедеврам мировой кинематографии в Госфильмофонде. Благодаря той победе Тарковский получил возможность смотреть Брессона и Бунюэля, Куросаву и Мидзогути, а также многих других. Речь не идёт о непосредственном влиянии или, тем более, заимствовании, но без фундаментального и широкого знания работ далёких коллег нельзя было найти своё кино.
Важнейшее из искусств
Прежде чем двинуться дальше вслед за Тарковским, задержимся ненадолго в мире итальянского национального кино, чтобы осмотреться. Подобное введение важно для дальнейшего повествования, но подкованный читатель может смело пропустить настоящую главу.
Не так просто назвать другую страну, в которой кино имело бы такое значение. Напитанная всеми традиционными видами искусств, Италия незамедлительно присягнула и новомодному изобретению братьев Люмьер. Первый синематограф был открыт в Риме 12 марта 1896 года, то есть спустя всего семьдесят пять дней после исторического сеанса на бульваре Капуцинок. Хотя ещё в 1895 году местный пионер кинематографии Филотео Альберини предложил собственную технологию, запатентовав кинетоскоп, который постигла та же судьба, что и хронофотограф Жоржа Демени, витаскоп Томаса Эдисона, театрограф Уильяма Пола, биоскоп Макса Складановского и многие другие аппараты – все они не получили сопоставимого развития и распространения. Тем не менее уже в 1895 году были сняты первые итальянские документальные ленты, включая «Прибытие поезда на Миланский вокзал» Итало Паккьони.
Первые стационарные кинотеатры в Риме и Флоренции открылись в 1899-м и 1900 годах, соответственно. Сначала репертуар состоял из французских лент, однако уже в 1905-м Альберини вместе с другим мечтателем Данте Сантони основал киностудию, на которой сам Филотео сразу снял картину «Взятие Рима» (1905). 1 апреля 1906 года студия получила имя «Cines», ставшее впоследствии легендарным, а также логотип, на котором красуется капитолийская волчица.
Через десять лет после возникновения синематографа говорить о национальном киноискусстве конкретных стран было ещё сложно. Фильмы Франции, Дании, Германии, Великобритании отличались, главным образом, декорациями, местами съёмок, а главное – уровнем технического несовершенства. Но само название ленты Альберини указывает, что Италия сразу делала ставку на эпический размах.
Это был низкий старт. Уже в 1913 году в стране насчитывалось двести киностудий, совокупно выпускавших по три картины в день. Промышленные магнаты, которых в небогатом государстве имелось негусто, охотно вкладывались в производство фильмов, поскольку оно становилось не чем иным, как предметом национальной гордости. Италия не желала жить исключительно своим давним прошлым, а экономическая ситуация не позволяла предложить миру что-то другое. И вновь произошло непостижимое: государство начало работать ради чего-то, находящегося в сфере эстетического. Пока в британских лентах констебли гонялись за нерасторопными жуликами, во французских Макс Линдер демонстрировал свою забавную походку, пока датчане задумывались о насущной несправедливости, Италия нашла своё кинематографическое предназначение в пеплумах.
Этот жанр получил название в честь древнегреческой лёгкой накидки, являвшейся костюмом большинства персонажей. Англоязычная пресса прозвала его «swords and sandals» – «мечи и сандалии» – хотя фамильярное именование не соответствовало размаху сюжетов фильмов-легенд. «Освобождённый Иерусалим» (1911), «Падение Трои» (1911) «Камо грядеши?» (1913), «Последние дни Помпеи» (1913) – образцы жанра.
Примечательно, что к помпейскому сюжету итальянский кинематограф обращался и в 1908 году. А «Освобожденный Иерусалим» сам режиссёр фильма Энрико Гуаццони переснимал ещё дважды – в 1913-м и 1918-м. Дело тут вовсе не в том, что на свете не хватало масштабных историй, и даже не в погоне за неуловимым совершенством, просто проекционное оборудование начала XX века существенно портило плёнку, а копировальная техника значительно ухудшала качество. Проще было снять заново. Однако из всех пеплумов особняком стоит история девочки по имени Кабирия, после выхода которой в 1914 году более чем на полвека в голливудский обиход вошло устойчивое выражение «движущийся план „Кабирии“».
Ключевыми переломными событиями истории кино прошлого столетия стали те же катастрофы, изменившие жизнь всего человечества – две мировые войны. Последствия их фундаментальны и требуют отдельного разговора, но, не претендуя на полноту, отметим, что, помимо прочего, они привнесли в фильмы этическое и экзистенциальное измерение.
Блистательной итальянской кинопромышленности пришлось сокращать расходы задолго до того, как в 1915-м страна начала воевать, но сам постановочный процесс было уже не остановить. Ключевым событием того года стала лента «Ассунта Спина». Картина, как и «Кабирия», названная в честь главной героини, снималась непосредственно на улицах Неаполя, достоверно воспроизводя атмосферу городской жизни, акцентируя внимание не только на действиях, но и на чувствах персонажей. Неореализмом подобный жанр назовут потом, уже после Второй мировой войны, а пока это стало лишь удачным открытием: оказывается, простых людей, измученных невзгодами и нищетой, больше интересует жизнь таких же, как они. Показана эта жизнь должна быть обязательно без прикрас, чтобы не подрывать доверия. А раз так, то и сюжет следует делать печальным, ведь бытие на пороге войны трагично и несправедливо.
«Ассунта Спина» состоит из двуплановых сцен. Основные персонажи, включая главную героиню, взаимодействуют на переднем рубеже, тогда как сзади находится группа постоянно наблюдающих за ними людей. Это удивительная идея двойной экспозиции: на героев смотрят как из зрительного зала, так и с другой стороны. Как изнутри сюжета, так и извне. Причём надо полагать, что находящимся по ту сторону экрана наблюдать позволительно, тогда как пришедшие в кинотеатр будто бы подсматривают через замочную скважину.
Как принято в немом кино, сцены фильма «Ассунта Спина» массивны и длинны, ведь когда действие переносит зрителя в новое место, нужно дать ему осмотреться, тщательно всё показать и только потом перейти к действию согласно сюжету. Персонажи картины очень много разговаривают. В звуковом кино эта болтовня стала бы невыносимой, но в данном случае мы не слышим все реплики, а интертитры приводят лишь мизерную толику речи, обозначающую пунктиром общую канву. В подобной недосказанности, в перекладывании части творческой работы на зрителя состоит удивительное доверие со стороны авторов. Это создаёт магию немого кино.
Вот мать Микеле ругается с Ассунтой. Микеле – жених девушки, которого сажают в тюрьму за то, что в порыве ревности он ранит невесту ножом, оставляя страшный шрам на её лице. Мы не слышим ответов матери, но нетрудно догадаться что она могла бы сказать. А что предлагает Ассунте секретарь суда? Суть его похотливых речей ясна, но какими словами? Как именно возникает у героини любовь к этому человеку, и что она говорит ему в свою очередь? Зрители становятся свидетелями неких реплик, разжигающих страсть, вопреки морали. Всё происходит на наших глазах, это не волшебство, такие слова существуют. А чрезвычайно длинный разговор Ассунты с Микеле в самом конце картины – здесь нетрудно без звука «услышать», как факт за фактом она излагает жениху, что происходило, пока он сидел в тюрьме. Казалось бы, в фильме, лишённом человеческого голоса, говорить должно действие, но убийство занимает лишь мгновение, смертельный удар вообще наносится за кадром, тогда как беседы героев длятся по несколько минут и от них невозможно оторваться.
Прежняя любовь умирает в сердце девушки – это очень важная тема в кинематографе страстной Италии. «Ассунта Спина» затронула её едва ли не первой. Она будет подхвачена Антониони в картине «Ночь» (1961) существенно позже, а пока несчастная героиня в сочельник бродит по городу-муравейнику, не менее одинокая и не более счастливая, чем другие муравьи. Каждый из них мог бы рассказать свою историю с печальным концом, но камеры и взгляды направлены на Ассунту. В фильме нет ни намёка на счастливый конец или формальную справедливость итога. Это золотое правило подлинного художественного кино усвоило великое множество мастеров и национальных школ.
Главную роль исполнила звезда итальянского театра Франческа Бертини, потрясшая неискушённых ещё зрителей интимно-реалистической манерой игры. Её основная конкурентка – дива Лида Борелли – выбрала другой метод, изображая на экране оперные страсти, что более соответствовало образу примадонны. В качестве примера можно привести фильм Кармине Галлоне «Маломбра» (1917). Благодаря Лиде в итальянском языке появилось новое слово «бореллизм».
После Первой мировой войны салонные мелодрамы и авантюрно-романтические истории стали публике нужнее, чем экранные-колоссы. В итальянский прокат проникало всё больше иностранных картин, и когда на «Cines» в 1923 году пересняли «Камо грядеши?», студию ждал оглушительный провал.
Фашистский режим, установившийся с 1922 года, сказался на итальянской кинематографии не столь губительно, как можно было ожидать. Муссолини сразу заявил, что кино является самым сильным оружием государства, но это вовсе не вылилось в тотальную переориентацию отрасли исключительно на идеологическую пропаганду. Примечательно, что и Ленин озвучил сходную по смыслу и ставшую впоследствии крылатой фразу именно в феврале 1922-го. Всё-таки что-то витало в воздухе.
По личному приказу дуче в 1932 году был учреждён главный киносмотр страны – Венецианский фестиваль. А в 1937-м построили государственную киностудию «Cinecittà»[38], ставшую одной из крупнейших в Европе. Появилось и множество более мелких производственных комплексов. «Cines» оказалась национализированной, но итальянский фашизм отличался от иных подобных режимов нетипичной пропорцией радикализма и консерватизма. Да, с одной стороны, государство решило использовать фильмы для насаждения национальной идеи. В частности, это привело к обильному появлению картин о величии Древнего Рима – сравните, например, ленту «Сципион Африканский» (1937) с упоминавшимися выше ранними пеплумами. Однако, с другой стороны, всё-таки фундаментальной переменой в истории итальянского кино тридцатых годов стало вовсе не вовлечение идеологии, а возникновение звука.
Так сложилось, что на Апеннинском полуострове техническую новинку освоили заметно позже многих других европейских стран. Первым звуковым фильмом стала «Песнь любви» (1931) Дженнаро Ригелли. Вскоре после этого жанры музыкальных картин и незатейливые комедии стремительно подняли головы. Настоящим же новшеством оказались ленты с сюжетами из жизни высших слоёв общества, которые в народе получили ироничное название «фильмы с белыми телефонами».
Правительство Муссолини во главу угла ставило максимизацию производительности индустрии, а это, разумеется, не могло быть достигнуто при условии жёсткой цензуры, потому сфера кино оставалась весьма либеральной. Те, кто составит славу итальянского кинематографа XX века, пришли в «волшебный мир» с самых разных сторон. Так Роберто Росселлини сделал свою первую полнометражную картину «Белый корабль» (1941) по непосредственному заказу министерства обороны. Буквально в то же самое время Алессандро Блазетти, снявший «Четыре шага в облаках» (1942), Лукино Висконти с фильмом «Одержимость» (1942), Витторио Де Сика с лентой «Дети смотрят на нас» (1943), Джузеппе Де Сантис и его «Трагическая охота» (1947), напротив, раскачивали лодку диктатуры и критически осмысляли происходящее. Удивительно, но между этими людьми будто не было противоречий, и после войны они не просто оказались все вместе, но стали единым идейным целым, поднявшим флаги неореализма и создавшим эстетически многогранный портрет страны и эпохи. Опять в Италии искусство оказалось важнее всего остального.
Как художественное течение, неореализм проявился не только в кино, но и в литературе, музыке, живописи, театре. Младшая муза, традиционно, подключилась с заметным опозданием, однако именно в кинематографе данное направление проявило себя наиболее ярко, как полноценный художественный стиль. Отказ от условности в пользу правдоподобия, уход от нарочитого приукрашивания, от напыщенных, соблазнительных или избитых штампов, строгий лаконизм – всё это от века объединяет «новые», «революционные», «авангардные» инициативы в самых разных видах искусства. В кино же подобные интенции можно встретить и в декларациях о намерениях режиссёров многочисленных «новых волн», и в манифесте «Догма 95». Но так вышло, что итальянский неореализм оказался масштабным и эстетически-зрелым явлением, сохраняющим свою влиятельность уже больше полувека.
Его методическая и кадровая база, как и в случае французской новой волны, возникла в среде, сформировавшейся вокруг кинопрессы. В данном случае осевую роль сыграл журнал «Cinema», главным редактором которого был Витторио Муссолини – второй сын дуче. Перечислять режиссёров, подхвативших этот вирус, дело неблагодарное. Не будет большим преувеличением сказать, что хотя бы одна неореалистическая картина найдётся в фильмографии каждого итальянского кинематографиста, снимавшего игровые ленты в период с 1945-го по 1965 год. Некоторые же из них связали с этим жанром всё своё творчество.
Дойдя в настоящем историческом экскурсе до ключевой художественной метаморфозы, изменим угол зрения и далее будем говорить о конкретных именах и фильмах, всякий раз стараясь отмечать те черты, которые имеют отношение к последующим рассуждениям о Тарковском.