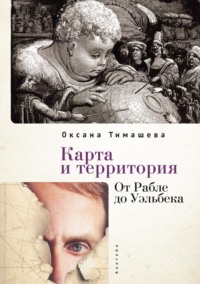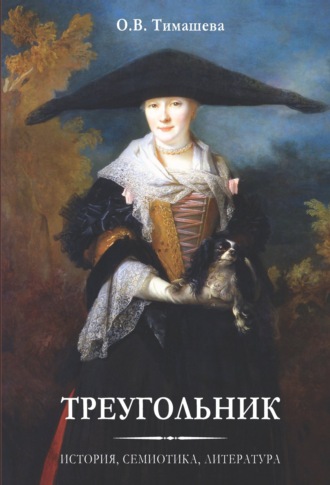
Полная версия
Треугольник. История, семиотика, литература
Стендаль критикует французскую армию, которая утратила прежнюю энергию и свою сплоченность, прониклась эгоизмом и развратилась. Дух армии к моменту войны с Россией глубоко изменился, из суровой, республиканской, героической она стала недисциплинированной, трудно повинующейся. Потому-то, полагает Стендаль, эта самая храбрая в мире армия сдавалась казакам и плохо вооруженным крестьянам: «Я сам видел, как двадцать два казака, из которых самому старшему, служившему второй год, было лишь двадцать лет, расстроили и отправили в бегство конвойный отряд в пятьсот французов» (это случилось позднее, в 1813 году, во время саксонской кампании)[15].
Дисциплина французской армии расшаталась из-за грабежей, которые поневоле пришлось разрешить солдатам в Москве – ведь их не снабжали продовольствием. «Ничто, при характере французов, не является столь опасным, как отступление, а при опасности более всего необходима дисциплина, иначе говоря – сила»[16].
Как офицер интендантской службы Стендаль пишет, что из-за недостаточной распорядительности интендантство умудрилось остаться без хлеба еще в Польше. Армии не объявили, куда ее ведут, не предупредили, что за 25 дней ей придется пройти 93 лье и что каждый солдат получит по две бараньих шкуры, по подкове, по два десятка гвоздей и по четыре сухаря. Полковникам и генералам не было предоставлено право выносить смертные приговоры солдатам, уличенным в мародерстве и неповиновении. «На обратном пути из Москвы в Смоленск шло тридцать тысяч трусов, притворявшихся больными, а на самом деле превосходно себя чувствовавших в течение первых десяти дней. Все, что эти люди не съедали сами, они выбрасывали или сжигали. Солдат, верный своему знамени, оказывался в дураках. А так как французу это ненавистнее всего, то вскоре под ружьем остались одни солдаты героического склада или простофили»[17].
Известно также, что князь Невшательский приказом по армии от 10 октября разрешил всем солдатам, не чувствующим себя в состоянии делать в день по 10 лье, покинуть Москву, не дожидаясь выступления армии. Очевидец событий Стендаль пишет, что 19 октября, когда французы начали уходить из Москвы, светило солнце и была прекраснейшая погода. В России Наполеон, как думает Стендаль, потерпел поражение прежде всего от своей гордыни, но также и от климатических условий, в конце концов сразивших французов, еще не достигших Березины. Поражение на востоке стоило ему утраты влияния в Европе. «Мелкие государи перестали трепетать, сильные монархи отбросили колебания; все они обратили взоры на Россию: она стала сосредоточием неодолимого сопротивления»[18].
Пропитанные атеизмом и язычеством французы удивлялись кротости и любезности храбрых русских. «Не воззвания и награды воодушевляют солдат на бой, а приказания святого угодника Николая». Маршал Массена рассказывал в присутствии Стендаля, что русский, если с ним рядом падает смертельно раненный земляк, должен передать привет его матери. «Россия, подобно Риму, имеет суеверных солдат, которыми командуют начальники столь же просвещенные, как и мы»[19].
Изложенные выше факты составили содержание всего нескольких страниц! А последующие за российскими события были в жизни Наполеона не менее яркими, насыщенными и драматичными. Стендаль мастерски об этом рассказал, дополняя собственное видение явными и скрытыми цитатами из книг старших современников.
Такой знающей и правильно оценивающей его современницей была г-жа де Сталь, чьи философско-психологические суждения с ранних лет писателя занимали большое место в его размышлениях. Пожалуй, никого он не цитирует так же часто и так же близко к собственным мыслям, особенно когда ведет речь о вопросах искусства и литературы. В вопросах же философии, внутренней и внешней политики он ее оппонент. «Жизнь Наполеона» была написана в качестве возражения суждениям де Сталь о Бонапарте, высказанным в «Размышлениях о главнейших событиях Французской революции». Наполеон у де Сталь предстает как воплощение духа военщины и постигшего общество раболепия. Она противопоставляет его Бурбонам, позволяя себе обо всех говорить без пиетета. Это не нравится Стендалю; его собственные тексты шире и аналитичнее. Называя Наполеона величайшим со времен Юлия Цезаря человеком, он безжалостно анализирует его характер и совершенные им «оплошности», подчеркивая, что это ошибки буржуа-выскочки: он слишком высоко поставил то сословие, которое его приняло, и оказался жертвой своего природного простодушия и простосердечия.
Г-жа де Сталь иначе как олицетворением макиавеллизма и воплощением злого духа Бонапарта не называла[20]. Она сосредоточилась на той мысли, что для управления своей немаленькой армией, а затем государством-империей он создает пять полиций, следивших одна за другой. Его министр Фуше даже имел своих доносчиц среди жен маршалов. Сама г-жа де Сталь, которой удавались не столько романы, сколько философские эссе, преследовалась как «сочинительница пасквилей». Обошлись с ней (она это признает) довольно мягко: в эпоху заговоров, когда возможны были тайные убийства и смерти от несчастного случая, ее не посадили в Бастилию, не гильотинировали – это осталось в прошлом, – а лишь выслали из страны. Общеизвестно, что наполеоновская полиция пролила очень мало крови, особенно по сравнению с якобинцами, но ей удалось раскрыть множество заговоров и выпадов против императора.
Публикуя в 1815 году свою книгу «О Германии», де Сталь привела в предисловии письмо, посланное ей от имени кабинета министров и генеральной полиции (3 октября 1810 года) и подписанное герцогом де Ровиго (впоследствии жившим в России дипломатом). Это письмо содержит упреки в том, что во всех своих публикациях писательница не находит достойного места для положительной оценки деятельности императора и без уважения относится к созданной им империи. Де Сталь предпочитает совсем другие исторические фигуры, восхищается другими народами, поэтому ей указывают пути, по которым она может выехать из Франции, и просят уведомить о том, который из них она выбрала. «Нечего сказать, – запишет она в своих заметках, – как изящно меня, мать троих детей, дочь отца, служившего Франции верой и правдой, выгоняют, и не находится ни единого человека, чтобы меня защитить»[21].
Весной 1802 года Наполеон запретил салон г-жи де Сталь. Ее разговоры, ее увлекательное устное творчество, ее талант, ее «гений мыслительного почина» привлекали строителя нового государства. Он слушал и читал все созданное писательницей, всегда находя у нее «беспорядок в мыслях и воображении», «безнравственность» и «безбожие». Ей буквально было предписано выехать из Парижа и не подъезжать к нему ближе чем на 100 лье. Лишиться Парижа значило лишиться аудитории, где каждое ее слово ловили на лету.
Написав в изгнании книгу «О Германии», мадам де Сталь не предполагала, что навлечет на себя кроме гнева Наполеона еще и неудовольствие всех профранцузски настроенных европейцев, поскольку ей удалось доказать, что произведения Шиллера и Гёте не менее значительны для мировой культуры, чем произведения Расина и Вольтера. Книга де Сталь, как бы идя навстречу давним исканиям Н. М. Карамзина, «молодого тургеневского кружка» и Жуковского, переводила также и взор русских с Вольтера на Гёте. Ее в России не просто читали, но изучали, особенно в тех общественных кругах, из которых впоследствии вышли декабристы. Наполеону же книга «О Германии» показалась настолько ужасной, слишком «протестной», просто «революционной», что была им запрещена и сожжена (!) по его приказу.
Когда семнадцатилетний сын Жермены де Сталь Огюст в 1807 году проник к императору, чтобы ходатайствовать о разрешении для своей матери вернуться в Париж, тот сказал ему примерно следующее: «Она умна, очень умна, может быть, даже слишком умна, но ум ее не знает ни обузданности, ни повиновения. Она воспитана в хаосе революции и государства разрушающегося. Она составила себе из этого какую-то смесь. Все это может сделаться опасным: пламенная голова ее может породить последователей. Она меня не любит. Я не должен ей позволить возвращаться в Париж…» Так же иронично, как сыну Огюсту, он отвечает и ратующим за нее министрам Талейрану и Меттерниху: «Не желаю, – говорит он, – чтобы де Сталь была в Париже. Будь де Сталь роялистка или республиканка, я бы ничего не имел против. Но это двигательная машина, которая пускает в ход салоны. Такая женщина опасна именно во Франции, и я не хочу, чтобы она была здесь»[22].
Наполеон как строгий инквизитор сжег десять тысяч экземпляров книги «О Германии». Кроме того, он окружил швейцарское имение отца г-жи де Сталь, где она жила, двойной цепью шпионов. И вот в мае 1812 года, незадолго до начала русской кампании, она решилась бежать в Швецию, в Стокгольм, где ей могли предоставить достойный приют. (Жермена Неккер получила фамилию де Сталь от своего мужа – шведского посланника во Франции.) Однако продвигаться пришлось окольными путями, через Россию, фактически по стопам Наполеона: де Сталь едет на юг и только потом на север, и везде ее встречают чрезвычайно предупредительно – она европейская знаменитость, ее книги популярны в России. В Киеве, на Украине, ее принимает граф Милорадович. Он от нее в восторге, она восхищена его светскостью и образованностью. В Белоруссии интересных встреч не было, зато в Москве, куда она попадает до Наполеона, ее принимают радушно и хлебосольно. Об этом де Сталь рассказала в опубликованной посмертно книге «Десять лет в изгнании» (1834).
Что знала писательница о России, что знали о России во Франции? Она сама отвечает на этот вопрос: «Несколько неприглядных исторических анекдотов, несколько русских, наделавших долгов на парижской мостовой, одно-другое красное словцо Дидро внушили французам убеждение, будто Россия состоит лишь из развращенного двора, из офицеров, камергеров и из рабского народа. Это большая ошибка»[23]. Заметки европейской путешественницы превращаются в открытие незнакомой страны, в честное, нелицемерное суждение о ней.
Г-жа де Сталь пережила с Россией вторжение французской армии и быстрое продвижение к Москве. Военные неудачи России страшили ее, она боялась окончательного торжества Наполеона и очень сомневалась в русской армии, в русской судебной системе, в принципе в русской цивилизации – молодой, как называла ее г-жа де Сталь. Народившийся класс новых людей не обрел еще чувства чести – так думает она о расслоении французской нации после Французской революции и полагает, что такое же положение дел возможно и в России. Приглядевшись к русским, де Сталь напишет: «Я не заметила сначала народного духа, внешняя переменчивость впечатлений у русских мешала мне наблюдать русский народ. Отчаяние оледенило все умы, отчаяние – предтеча страшного пробуждения. В простом народе видишь непостижимую лень до той минуты, когда пробуждается его энергия: тогда она не знает преград, ничего не страшится: она, кажется, побеждает стихии точно так же, как и людей»[24]. Отмечая суровую мужественность русского народа, которая не есть непреклонность, не есть варварство, она сравнивает (чужими словами) Россию с пьесой Шекспира, потому что «в ней величественно все, что правдиво, а то, что не величественно, – ошибка»[25].
С русскими людьми де Сталь впервые познакомилась у себя в салоне еще в Париже: ее навещали русские дипломаты и путешественники. Когда она, уже в изгнании, попадает в Вену, то там среди ее друзей – князь де Линь, семидесятидвухлетний старик, дважды фельдмаршал (Австрии и России), любимый собеседник Екатерины II, а также юный граф Сергей Семенович Уваров, тогда еще камер-юнкер. Имя г-жи де Сталь было хорошо известно в дворянских гостиных Москвы и Петербурга 1812 года. Как писательницу ее знают в России уже давно. В 1795 году Н. М. Карамзин перевел ее новеллу «Мелина» (она выдержала три издания). Далее последовали переводы новеллы «Мирза» (1801), «Двух повестей» (1804) и романа «Коринна» (1809). Ее читатели были повсюду: в уездных, губернских и столичных городах. Перед ней распахивались все двери, включая двери государя, хотя никто не забывал, что деньги ее отца расчистили дорогу Французской революции. Петербург и «грибоедовская» Москва (фамусовское общество) не слишком ею восторгались. Граф Ростопчин, министр иностранных дел при Павле I, называл ее по-французски «une pie-conspiratrice» – «сорока-заговорщица». Из некоторых частных писем стало также известно о том, что консервативные московские дамы рассуждали синонимично Наполеону, оценивая ее как «безбожницу» и «безнравственную женщину», «из-за которой и погиб Свет».
В Петербурге де Сталь сумела сблизиться с графом Петром Корниловичем Сухтеленом, голландцем по происхождению, служившим государю в качестве главного военного строителя портов, каналов и крепостей. Именно Сухтелен рассказал де Сталь об истинном положении дел в стране и о перспективах войны с Наполеоном, что ее особенно интересовало. Следует добавить, что она была восхищена сыном Сухтелена, флигель-адъютантом Александра I, с ее точки зрения, также «героя нового времени».
Жермена де Сталь сумела встретиться с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, жена которого стала ее подругой, адресатом многих ее писем.
Он принял командование за пятнадцать дней до вступления французов в Москву и не мог прибыть к армии раньше, как за шесть дней до великой битвы, которую он дал у ворот этого города в Бородине. Я видела старца перед его отъездом. То был старец с самым привлекательным обращением и живостью в лице, несмотря на то, что он потерял глаз от одного из бесчисленных ранений, полученных за полвека его военной службы. Глядя на него, я боялась, что у него не хватит сил бороться с суровыми и сильными людьми, которые наводнили всю Россию со всех концов Европы. Я была растрогана, покидая фельдмаршала Кутузова. Я не могла дать себе отчета, кого я обнимала, победителя или мученика, но, во всяком случае, я видела в нем личность, понимающую все величие возложенного на нее дела… Перед отъездом генерал Кутузов отправился помолиться в Казанский собор, и весь народ, следуя за ним, кричал ему, чтобы он спас Россию[26].
По мнению де Сталь, в России гениальные люди встречались лишь среди военных – она вспоминает также Петра I и А. Суворова[27].
При всей спорности де Сталь про нее нельзя сказать (перефразируя Пушкина), что «она ленива и нелюбопытна». Она хочет знать всё – от английской философии до итальянской поэзии. В книге «О Германии» она сообщает, что ей нравится английский процесс воспитания, при котором люди крепко осознают чувство долга и чести. В Италии ее привлекает «энтузиазм» (собственный термин писательницы), иначе говоря, заводной характер итальянцев, а в России ее волнует, образно говоря, то, как приводится в действие «народная дубина» (тоже ее выражение).
Франсуа-Рене де Шатобриана считают, как и де Сталь, основоположником французского романтизма. Он был известен в России уже с первых его публикаций во Франции; его книги выписывали, продавали и переводили (декабрист Николай Тургенев и историк Михаил Погодин). Живые отклики на тексты французского писателя можно найти у В. Жуковского, Ф. Батюшкова, А. Пушкина и Ф. Тютчева[28].
Природный дворянин родом из Бретани, где у семьи Шатобриана было имение Комбург, никогда не пользовался привилегиями своего сословия. В сознательную жизнь он вступил после Французской революции 1789–1894 годов и потому зарабатывал на хлеб самостоятельно, литературным и дипломатическим трудом. Когда уже в преклонном возрасте, в Англии, где в молодости он провел несколько лет в эмиграции, ему предложили звание пэра и соответствующую его положению пенсию, он от нее отказался. У автора «Гения христианства» было недвусмысленное понятие о чести, хотя жизнь сложилась таким образом, что ему пришлось служить как роялистам, так и Бонапарту. В его позиции главным было понятие служения Родине, а также идея сословной чести и достоинства. Всю жизнь Шатобриана мучили мысли о будущем Франции, и он видел свою страну не иначе как христианской. Только на пути к Богу, полагал он, его страну ждет истинное возрождение. Увлеченный размышлениями о духовном, писатель честно и искренне рассказывает о своих встречах с Наполеоном, часто по-разному, как и Стендаль, оценивая его как правителя, как главнокомандующего и как человека.
«Замогильные записки» – это опубликованное посмертно произведение Шатобриана, где в основном и записано всё, что он думал о Наполеоне. Он смотрит на него то глазами республиканца, то глазами легитимиста, настойчиво отыскивая общественно значимые черты в облике и таланте этого человека, «вознесенного толпой». Автор уверяет своего будущего читателя (на прижизненную встречу с ним он не надеется), что прочел абсолютно всё написанное Наполеоном: от первых детских сочинений до романов, от брошюр и политических диалогов республиканского толка до писем Жозефине и пяти томов его речей, приказов и бюллетеней, испорченных «непрошеными редакторами» вроде Талейрана и других близких императору чиновников.
Однако лишь в дрянной рукописи, оставленной на Эльбе, я нашел мысли, достойные великого островитянина. Вот они:
«Обыденные радости так же противны моему сердцу, как и заурядное страдание».
«Не я даровал себе жизнь, не мне и отнимать ее у себя, пока она сама от меня не откажется».
«Злой гений являлся мне и предсказал мою гибель: предсказание сбылось под Лейпцигом».
«Я заклял ужасный дух новизны, бродивший по свету»[29].
В этом натура Бонапарта выразилась сполна, полагает Шатобриан. Он отмечает также, что любой набросок Бонапарта написан энергично, возвышенным языком – порождением революционного духа. С эмфазой, независимо от политических убеждений, писали практически все авторы той эпохи: Андре и Мари-Жозеф Шенье, де Местр и де Бональд, де Траси, Кабанис и Вольней. Антуан де Ривароль, журналист, писатель и ученый (1753–1801), написавший неоценимый для французской лингвистической традиции трактат об универсальности французского языка, тоже прибег к ораторскому стилю, изъясняясь напыщенно и с пафосом. Рассуждая о грамматике и словообразовании, об особом синтаксисе и инверсиях, он отметил также распространение французского языка, получившего, по его образному выражению, «имперскую власть». Это не противоречило идеологии Наполеона, который никого, кроме себя, в роли идеолога не видел. Многих литераторов, рассуждающих как наследники Просвещения, он не терпел, но на Шатобриана-романтика, излучавшего дух новизны, обратил внимание одним из первых[30].
В 1802 году, после принятия Законодательным корпусом памятного Конкордата министр внутренних дел устроил празднество, на которое Шатобриан был приглашен как человек, «воссоединивший силы христиан и поведший их в атаку», поскольку только что вышло его знаменитое эссе «Гений христианства» и это название было у всех на устах. «Каким-то образом, – пишет Шатобриан, – Бонапарт заметил и узнал меня. „Господин де Шатобриан!“ Толпа отхлынула, чтобы затем сомкнуться вокруг нас кольцом. Я остался в одиночестве. Бонапарт заговорил со мной, не чинясь: без любезностей, без праздных вопросов, без предисловий, он сразу повел речь о Египте и арабах, как если бы я входил в число его приближенных и он всего лишь продолжал начатую беседу. „Меня всегда поражало, – сказал он, – что шейхи падают на колени среди пустыни лицом к Востоку и утыкаются лбом в песок. Что за неведомая святыня на Востоке, которой они поклоняются?“»[31]
Возможное столкновение с мусульманством и мусульманским миром заставило Наполеона взглянуть иначе и на христианство, которое пыталась выкорчевать Французская революция. Его собеседники, наследники просветителей, предлагали ему взглянуть на эту религию как на астрономическую систему, в которой можно увидеть аллегорию движения сфер, геометрию светил. Но он видел в христианстве, несмотря на опорочившую католическую церковь инквизицию, много величия и счел необходимым именно это подчеркнуть. После этой встречи на празднике в честь соглашения с Римским двором, положившим начало официальному восстановлению католической религии во Франции, Наполеон решил послать Шатобриана в Рим, ибо сразу понял, чем этот начинающий, входящий в моду писатель может быть ему полезен. Это было в 1803 году. Пост министра иностранных дел занимал тогда Талейран, именно он оформил литератору назначение. «У Талейрана были прекрасные манеры, они нисколько не походили на манеры его подлого окружения; его мошенничество было преисполнено непостижимой важности, в этом осином гнезде развращенность нравов слыла гением, легкомыслие мудростью», – отметил мемуарист[32].
Похвалив однажды «Гений христианства», Наполеон затем многократно критически высказывался по поводу других сочинений писателя. Ему не понравились его эссе «Бонапарт и Бурбоны», некоторые статьи и речь при вступлении в Институт. Не раз Наполеон сам выступал в качестве цензора, переставляя акценты в пафосных высказываниях Шатобриана. Тот часто бывал не согласен с тираном, не боялся его и страха или трусливого поведения себе не позволял. Строго и поэтично Шатобриан описывает «Сто дней» Наполеона. По его словам, на острове Св. Елены император осудил себя дважды: за войну в Испании и за войну в России. Задолго до многих – и словно под копирку написанных – биографий Наполеона Шатобриан отметил, что уже при жизни императора стали рассматривать не как реальное лицо, а как плод поэтических выдумок, как персонажа легенды, солдатских преданий и народных сказок. Таковы, с его точки зрения, Карл Великий и Александр Великий, во всяком случае, так их изображали средневековые эпопеи. А между тем триумф Франции стоил ей трех миллионов солдатских жизней. Сограждане Шатобриана жили в страданиях и неволе. Талантливый и могущественный властитель, Наполеон лишил своих соотечественников независимости и домашнего очага, тяги к свободе и самой свободы. И бедняки, и богачи украшали жилища его портретами и бюстами. Повсюду в Европе – в Италии, в Германии – можно было натолкнуться на его тень. «Может быть, время поторопилось предать картинку тиснению?» – вопрошает мемуарист своих будущих читателей. Лишь столетия могут по-настоящему закончить портрет великого человека.
Сопоставление небольшого количества довольно пестрых фактов, которые мы попытались идентифицировать, весьма объемно и по-человечески высвечивает эту популярную сегодня историческую фигуру – Наполеона Бонапарта. Ценность приведенных высказываний состоит в том, что, совпадая в общих чертах и демонстрируя нам тирана и деспота, они одновременно показывают Бонапарта как своеобразную личность, не случайно достигшую многих успехов в военном и общественно-политическом смысле. Наполеон прошел трудный путь защитника революции и полководца, и французские романтики, надо отдать им должное, были достаточно объективны в его оценке. Кроме того, они внушили современникам мысль, что Россия – уникальная страна и обращаться с ней надо очень осторожно.
Русская кампания не была для Наполеона, по мнению многих французов, ни особенно серьезной, ни выдающейся, ни исключительной. Свою ошибку вступления в Россию он понял сразу, хотя до самой смерти не так уж глубоко ее осознал. Ему, безусловно, нравились его прошлые отношения с императором Александром I, которого он, по собственному признанию, «любил почти как женщину».
Дискурсивный анализ одного послания Наполеона
Французская речь в последнем томе романа Л. Н. Толстого «Война и мир»
Современная русская литература в лице писателей, которых называют авангардными (Вен. Ерофеев, Вик. Ерофеев, Евг. Попов, Вл. Сорокин), часто отсылает читателей непосредственно к языку, которым она написана. Это значит, что писатели задерживают внимание своих гипотетических собеседников на отдельных словах и выражениях, речениях и присловьях, новой лексике и архаизмах. Можно сказать, они организуют нам очную ставку с тем, что асимметрично, угловато и выпадает из русла привычного разговора. Однако интерес к живой пульсирующей речи вовсе не такая уж новость. Русской литературе он всегда был свойствен и привычен. Скорее прежде читатели просто не обращали внимания на непосредственный интерес писателя к языку.
Вглядываясь в IV том «Войны и мира» Льва Толстого, где речь идет о 1812 годе и событиях Бородинского сражения, поражаешься тому, до какой степени автору интересна игра с языком, как любопытны ему различные языковые стили, смены регистров в диалогах, столкновения русского с французским. Это подчеркивали многие критики, в особенности Б. Эйхенбаум, считавший, что Толстой смешивает повествовательные и толковательные жанры, потому что в художественном отношении он не удовлетворен прежними формами и постоянно ищет новых[33].
C событиями, развернувшимися в 1812 году в Бородине, большинство соотечественников знакомо именно по роману Л. Н. Толстого «Война и мир», четвертый том которого исключительно им и посвящен (канун и дни «до и после» Бородинского сражения). Об этом написано немало книг и исследований – как о творческой биографии писателя, так и том, что им создано. Широко известно, что писатель сам перевел многочисленные «французские» вкрапления в романе на русский язык и сделал это в тот момент, когда решил изменить первоначальную структуру книги, превратив шесть томов в четыре.