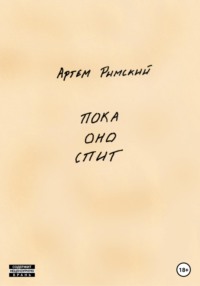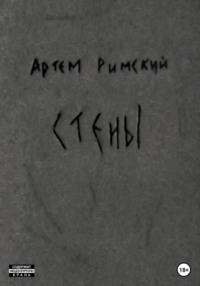Полная версия
Беги как чёрт
– Мама, уверен, ты действительно немного преувеличиваешь, – осмелился возразить Эдвард самым беззаботным тоном.
Моника буквально на одну секунду застыла за спиной мужа с подносом в руках, и метнула в сына взгляд красноречивее любых слов. Эдвард, заметивший этот выстрел глазами, моментально изменился в лице, и добавил:
– Папа, но тебе, в свою очередь, стоит быть осторожнее со спиртным.
«Вот это да! Всего один взгляд, и я вновь чувствую себя овцой. Три минуты, две фразы, один взгляд! Я сижу и смотрю в свою тарелку, на эти чертовы спагетти с этим чертовым соусом – ведь я их так люблю, не правда ли, мама?! – а отец сидит пристыженный за то, что не в силах терпеть тебя на трезвую голову. И никто из нас не смеет даже оправдываться».
– А почему ты приехал на поезде, Эдди? – спросила Моника и тоже села за стол.
– Мне так удобнее, – ответил Эдвард.
– Я надеюсь, с машиной все в порядке?
Фраза эта была сказана ею как что-то несущественное, но Эдвард прекрасно уловил насмешку, прозвучавшую в этом вопросе.
– Разумеется, все в порядке.
– Ну ладно, – снисходительно ответила Моника, и как бы безучастно бросила мужу:
– Клод, вина, пожалуйста.
Клод по привычке прокашлялся и потянулся за бутылкой красного вина. Эдвард краем глаза наблюдал, как отец налил вина матери, а затем медленно наполнил свой бокал наполовину и взглянул на супругу как загнанный зверь. Заметив ее мимолетный и наигранно равнодушный взгляд в свою сторону, Клод пожевал губами и отрывистыми, неуверенными движениями посмел налить себе еще три капли. Во время этой сцены Эдвард несколько раз ловил себя на мысли, что руки его инстинктивно порываются схватиться за голову, а потому взял вилку, и хотел было приняться за еду. Если бы он вовремя заметил ужас в глазах отца, когда тот поставил бутылку и увидел движение своего сына, то, конечно же, вовремя бы осекся. Но Эдвард обратил внимание на Клода, когда тот уже простирал к нему свои руки в предостерегающем жесте, все с тем же немым ужасом на лице, не в силах вымолвить ни слова. Мороз пробежал по коже Эдварда, вилка выпала из его руки, звякнула об стол и полетела на пол, а он инстинктивно взглянул на мать. Моника прожигала его взглядом не просто укоризненным, а как показалось Эдварду, по-настоящему презрительным, в самом обыденном понимании этого слова.
Спустя пять секунд, которые Эдварду показались пятью часами, Моника резко встала из-за стола, подняла вилку и вышла из гостиной.
– Осторожнее, Эдди, – прошептал Клод. – Это ее очень сильно оскорбляет.
Эдвард лишь горько усмехнулся в ответ. И когда спустя минуту, его мать вернулась к столу и протянула ему новый прибор, он с таким же обреченным видом, какой только что был у его отца, произнес:
– Прости, мама.
Моника села на прежнее место и попыталась улыбнуться.
– Я правильно понимаю… – она сделала выразительную паузу и продолжила: – что так ты приступаешь к еде всякий раз?
– Нет, мама, – попытался оправдаться Эдвард, чувствуя непреодолимое желание расхохотаться. – Нет, что ты? Я просто растерялся от перемены обстановки, от радости встречи, от… – он запнулся.
– От чего? – Моника прищурилась.
«От отвращения».
– От чувства голода.
Мать еще несколько секунд пристально на него смотрела, потом покачала головой и прошептала:
– Я искренне надеюсь, что ты говоришь правду.
Затем она закрыла глаза, поднесла ладони к губам, и ее примеру последовал Клод. Эдвард не стал делать того же, предпочтя переводить разочарованный взгляд с матери на отца и радуясь, что размеры стола не позволяют взяться за руки. Однако же, как бы ни хотел, он не мог освободить себя от обязанности вторить родителям, когда те начали молиться. Вторить через страх, через отвращение к разыгрываемой комедии, через ненависть к самому себе. Он знал, что молитва не пройдет для него бесследно, что подсознание сыграет свою шутку и в самом реалистичном свете напомнит ему те же недавние события; напомнит так, словно это происходит в реальном времени.
– Благослови, Господи Боже, нас и эти дары (лицо), которые по благости Твоей вкушать будем, и даруй, чтобы все люди (кулак) имели хлеб насущный. Просим Тебя через Христа, Господа нашего (кровь). Аминь.
Эдвард с силой воткнул вилку в спагетти. Чтобы не выдать своего страха, который яркой белой краской был написан на его лице, он поскорее отправил себе в рот изрядную порцию еды и принялся быстро работать челюстями.
– Эдди, что случилось? – взволнованно произнесла Моника. – Ты и впрямь так проголодался?
Парень кивнул, с трудом проглотил пищу и тут же отправил в рот следующую порцию.
– Да, мам, невероятно. Теперь ты мне веришь? – он вымученно улыбнулся и посмотрел на графин с апельсиновым соком. – Пап, пожалуйста.
– Верю, дорогой, как же может быть иначе, – благосклонно ответила мать и тоже приступила к трапезе. – Наверное, даже к лучшему, что Джессика не смогла сегодня поужинать с нами. Не думаю, что твои манеры за столом произвели бы на нее хорошее впечатление.
Эдварда скрутило от очередной волны бессильного гнева, когда краем глаза он заметил на себе испытующий взгляд матери, что означало лишь одно: она ждала реакции.
«Нет-нет, просто ешь. Продолжай есть, и не обращай внимания. Тебе совершенно наплевать на эту Джессику. Пожалуйста, ты голоден и все твое внимание поглощают спагетти и этот омерзительный куриный соус, приготовленный именно так, как ты любишь с детства. Нет, не реагируй!»
– Кто такая Джессика?
– Джессика – это ангел, посланный нам с небес, – ответила удовлетворенная Моника и вновь принялась за еду.
– Вот как. Чем же она заслужила такую характеристику? – мало того, что он не мог противостоять этому натиску, Эдвард с ужасом заметил, что пытается придать своему голосу выражение заинтересованности, чтобы угодить матери.
– Ну, во-первых, она очень милая, воспитанная и обходительная девушка, – начала рассказывать Моника, приняв отчужденный вид, словно говорила только для того, чтобы заполнить тишину, хоть Эдвард понимал, что это не так. – Надо сказать, очень милая, – Моника приподняла брови. – У нее образование детского психиатра… неоконченное, правда, но это не суть важно. Куда важнее ее благородное стремление помогать детям, и надо сказать, что с этой задачей она справляется превосходно; куда лучше, чем все эти высококвалифицированные педагоги и психиатры приюта, в котором содержится Томас. Не так ли, Клод?
– О да, тут ты совершенно права, – подтвердил старший Эспер и лишь на секунду отвлекся от своих спагетти, предпочитая не принимать активного участия в столь приятной семейной беседе.
– Дети… любые дети, – Моника вновь выразительно повела бровями, – редко обманываются в людях. Если ребенка тянет к человеку, значит, что-то этот человек из себя представляет. Что-то хорошее, о чем сам он подчас может и не догадываться. Я могу не верить сплетням и слухам, но я всегда поверю ребенку, и Томми своей привязанностью к этой девушке убеждает меня в правильности моих суждений. Но главное даже не это, а то, что к шести годам он знал лишь десять слов; но спустя три недели с Джессикой его словарный запас пополнился на два слова; более того, это не просто два слова, а выражение.
– Впечатляюще, – ухмыльнулся Эдвард. – Что же за выражение?
– Вкусная трава, – ответила Моника тоном, предупреждающим любые попытки отыскать в этой фразе хоть долю юмора.
Эдвард все же не смог сдержать улыбку, когда подумал о причине появления этого выражения и переспросил:
– Вкусная трава?
– Да, Эдвард, вкусная трава, – нетерпеливо произнесла Моника, и по ее виду можно было рассудить, что она действительно считает траву вкусной.
– И ты хотела, чтобы она сегодня поужинала с нами? Почему именно сегодня?
– А почему бы и нет?
Эдвард неприятно лязгнул вилкой по тарелке.
– Я уверена, – продолжала Моника, коротко поморщившись от этого звука, – что эта девушка станет другом нашей семьи. Поэтому будет очень даже неплохо, если вы познакомитесь. Или у тебя есть основания избегать этого знакомства? – она вскинула настороженный взгляд на сына.
Эдвард внимательно посмотрел на мать, искренне не понимая причины столь странного вопроса.
– Какие у меня могут быть для этого основания? – удивленно проговорил он. – Я ее даже не знаю. Но, скажу откровенно – я не расстроен, что сегодня она не смогла составить нам компанию. Я рассчитывал на ужин в тесном семейном кругу, и рад, что так оно и вышло.
Моника усмехнулась.
– Интересное совпадение, – вдруг очнулся Клод и бросил короткие взгляды на жену и сына. – Джессика уехала к родителям в Мэйвертон, а Эдвард приехал к родителям из Мэйвертона. Забавно.
– Забавно, – вздохнула его супруга. – Это весьма трогательно: каждые две недели (тут Моника откровенно приврала) она навещает родителей, и я уверена, что она даже помогает им деньгами.
Эдварду захотелось злорадно расхохотаться, так как он прекрасно понял оба намека: на его невнимание и его неблагодарность.
– Она из Мэйвертона? – тут же спросил он во избежание хоть кратковременного молчания, которое его мать могла бы расценить как размышления над ее словами.
– Да, но вряд ли вы пересекались. По крайней мере, она тебя никогда не видела, – Моника кивнула в сторону семейного фото, висевшего на стене гостиной рядом с иконой Христа.
– А почему в Арстад переехала?
Эдвард задержал взгляд на лице Иисуса, а мысленно представлял, какой могла быть внешность девушки, о которой шла речь.
«Мать, конечно, любит делать упор на благочестии, благородстве и кротости, но красоту она чувствует и понимает. И сильных людей тоже уважает. Потому, вряд ли там что-то неприметное и приземленное, скорее – гордое, самоуверенное и привлекательное. Неприметное и приземленное мать может пожалеть, но на ужин точно не пригласит. Томми не в счет, конечно».
– Несколько лет назад умерла ее бабушка и оставила ей в наследство квартиру на северном берегу, на улице Фридриха Шиллера. Я, кстати, почему спросила, что у тебя могут быть основания избегать знакомства со столь милой девушкой. Может, у тебя кто-нибудь есть? Ты с кем-то встречаешься? – в очередной раз Моника старательно избежала заинтересованности в тоне.
– Нет, мама, что ты? Я бы тебе сразу сказал. Нет, у меня слишком мало времени для романтизма, все мои мысли сейчас занимает учеба.
Моника поджала губы, и Эдварду показалось, что на лице ее промелькнула тревога.
– Конечно, милый. Учеба сейчас важнее, – сказала она. – Но все-таки, тебе уже двадцать три, ты красив, умен и обеспечен и все же…
– Сынок, обязательно попробуй картофельный салат, – встрепенулся Клод и протянул сыну пиалу с салатом, – он просто восхитителен.
Моника замолчала, казалось, даже довольная тем, что супруг ее перебил. Но Эдвард по реакции отца понял, что данная тема уже не раз поднималась в его отсутствие.
«Интересно… – впервые Эдвард почувствовал удовольствие от этого семейного общения. – Допускаешь ли ты, что я могу скрывать от тебя подробности своей личной жизни? Или же тебе выгоднее считать меня неудачником?»
– У меня еще все впереди, мама, – ответил Эдвард, накладывая себе салат. – Моя судьба никуда от меня не убежит, – он коротко улыбнулся в адрес матери.
– Я знаю, дорогой, – Моника тоже постаралась улыбнуться, но Эдвард видел, что не вполне развеял ее сомнения. Она многозначительно взглянула на мужа, тот нервно поерзал на стуле и вновь попытался разрядить обстановку:
– Ну, а как с учебой, Эдди? Чем ты собственно будешь заниматься в немецком консульстве?
Как и ранее со спагетти, Эдвард теперь проявлял завидное усердие с салатом, чтобы скрыть улыбку, яростно просившуюся на его лицо. Эдварда позабавило, что вообще было упомянуто о его обучении – столь незначительной теме по сравнению с успехами Томаса, прелестями новой воспитательницы и его личной жизнью.
– Все нормально, пап. Практика – это еще не карьера, поэтому буду делать все, что скажут. Опыт для меня сейчас куда важнее, чем преждевременные амбиции. Вообще, я очень рассчитываю на эти три месяца – думаю, именно за это время я окончательно выберу свой путь.
На этом разговор об обучении и светлом перспективном будущем был исчерпан. Спустя две минуты молчания, Эдвард вдруг почувствовал, как в воздухе гостиной витает напряжение. Не отрываясь от салата, он искоса посмотрел на мать, потом на отца и понял, что не ошибся: между ними шел оживленный диалог одними взглядами, и во взглядах этих – особенно в отцовском, – Эдвард прочитал нерешительность, через которую нужно было во что бы ни стало перешагнуть.
«Отлично! Значит, сюрпризы еще не окончены! Самое сладкое осталось на десерт. Сейчас ты соберешь посуду, и уйдешь на кухню. Вернешься через пять минут с чаем и своим долбаным малиновым пирогом – моим любимым, как же еще? – к тому времени, когда папа распишет мне суть дела, а тебе останется лишь поставить жирную точку и попросить меня подписаться».
– Эдвард, твоему аппетиту волк позавидует, – Моника натужно улыбнулась. – Я пойду, приготовлю тебе чай и отрежу кусок твоего любимого пирога.
Она забрала грязную посуду, поцеловала сына в макушку, в чем Эдвард уловил некое предупреждение, и еще раз многозначительно взглянула на мужа. Оставшись наедине, отец и сын некоторое время внимательно смотрели друг на друга.
– Я готов, пап, – через полминуты произнес Эдвард с усмешкой на губах.
Еще несколько секунд Клод продолжал внимательно изучать лицо сына, который был похож на него лишь разрезом глаз; во всем остальном же младший Эспер был копией Моники. Затем Клод тяжело вздохнул и провел руками по лицу. Уже открыл было рот, чтобы начать говорить, но вдруг встал, быстро подошел к бару и налил себе изрядную порцию виски. Выпил и произнес:
– Мы решили усыновить Томаса.
Эдвард был готов к чему угодно, но не к такому. Во второй раз вилка выпала из его руки, так же ударилась об стол и так же полетела на пол. Парень с открытым ртом смотрел в спину отца и пытался осмыслить услышанное. Но чем больше у него это получалось, тем отчаяннее он старался в это не верить.
– Но… зачем? – только и смог выговорить он.
Клод повернулся, и на лице его было написано тихое отчаяние.
– Она… то есть мы, – тут же исправился он, – решили, что этот ребенок, как и все, заслуживает иметь семью. Заслуживает будущего.
– Но… вы и так можете обеспечить ему будущее! – с ужасом в глазах прохрипел Эдвард. – И так можете обеспечить его всем необходимым. К чему эти излишества, папа?! – Эдвард медленно встал из-за стола. – Нет, это невозможно!
«Возможно» – говорил ему в ответ взгляд отца.
– Нет, папа! Одно дело – опекунство, а другое – отцовство! Это не игрушки, это какая-никакая судьба! – возмущение не позволило ему говорить дальше, и он рухнул на свое прежнее место.
Через минуту мать поставила перед ним поднос и положила руку ему на плечо.
– Сынок, – ласково говорила Моника, тогда как его выворачивало от ее голоса, – судьба благосклонна не ко всем людям. Это необходимо понимать. Но еще важнее понимать, что как бы ни обделила человека судьба, намного в большей мере продолжаем это делать мы – люди. На фоне всеобщего равнодушия мы забываем о том, что своим благосостоянием, вполне возможно, обязаны чьей-то жертве. Понимаешь мою мысль?
– Какого черта? – процедил Эдвард и обхватил голову руками.
«Господи, я ведь знаю, что она делает! Она просто бронирует себе место в раю!»
– Эдвард, – продолжала Моника, не обратив должного внимания на его высказывание, – этот ребенок глубоко несчастен. Мы должны – может и обязаны, – хоть немного научить его понимать счастье. Мы должны показать ему, что такое чувства. Мы должны показать миру, что все люди открыты для любви и добра. Если все будут переживать о том, что их действия примут за позерство и лицемерие, в этом мире не останется места для примеров, понимаешь, дорогой? В этом мире много боли, и ее очень хорошо видно. Почему бы нам не показать этому миру любовь и счастье?
Эдвард выскочил из-за стола и бросился прочь из гостиной. Но остановился перед лестницей, обернулся, и с горящими гневом глазами обратился к матери:
– Он больной человек, мама. Но человек, а не игрушка! Не разменная монета! И запомни одно: если ты его усыновишь, первым, кого обретет этот ребенок, будут не мать и не отец! А брат, который будет ненавидеть его со всей силой своей души!
Эдвард бросился в свою комнату, но только для того, чтобы взять бумажник и телефон. Через несколько секунд он молча прошел мимо матери, и вышел из дому, хлопнув дверью.
«Куда ты денешься?» – успел он прочесть на ее лице.
Изнемогая от бессильного гнева, Эдвард шел быстрым шагом, не глядя ни по сторонам, ни на прохожих. Буря чувств взрывала его мозг снопом образов и разрозненных мыслей. И все эти мысли вращались вокруг двух людей: его бывшей девушки Вероники и его будущего брата Томаса. Он прошел на запад по бульвару Генриха III, свернул на улицу Фридриха Шиллера, с нее на Пьера Корнеля. Прошагал полтора километра на восток, далее на север по улице Тургенева. Эдвард буквально бродил кругами и почувствовал усталость уже за полночь, когда вышел на Южную стену и оказался напротив паба «Хмельной лис». Долгая прогулка и свежий воздух хоть немного и ослабили его моральное напряжение, но не могли вывести из лабиринта мрачных и сумбурных мыслей.
«Тьфу! Томас Эспер! Нет, нет и еще раз нет! Этого не должно случиться! Мама! Зачем ты заставляешь меня ненавидеть тебя? Ведь ты знаешь, что сейчас творится (лицо) в моей душе! Ты думаешь, что это пройдет?! Что я отойду (кулак) и смирюсь? Нет, я не смирюсь! Я не имею ничего против этого ребенка до тех пор, пока он не станет носить (кровь) фамилию Эспер! Но, если это случится…»
«И что? Что ты сделаешь? Ничего! Захлестываемый гневом, уже сейчас ты знаешь, что ничего не сможешь сделать против Томаса Эспера, и примешь все это как должное».
«Черт возьми, как я мог дойти (лицо) до такого?! Как я мог ее ударить?! И почему мне хотелось (кулак) это сделать? Мне ведь хотелось? Я просто не могу (кровь) во все это поверить. Нет, нет, не хотелось! О, Господи! Что со мной происходит?»
Эдвард хотел пнуть какой-то попавшийся под ногу предмет. Присмотрелся и понял, что это телефон; тут же валялись крышка батарея от него. Эдвард собрал телефон и попробовал включить. Треснувший экран засиял синим светом, но не более того.
– Какого черта ты вообще делаешь?! – воскликнул Эдвард.
Он швырнул телефон в урну, плюнул и пошел домой.
Глава IV
05.06.2016 (воскресенье, ближе к вечеру) и после
Кофейная чашка была уже чистой, но Рене все держала ее под струей воды.
«Бред. Не получит он моего салата. Он сюда не есть приходит. Хотя, это могло бы заткнуть ему рот хоть на время. С другой стороны, можно просто не вслушиваться – будет похоже на фоновое звучание радио. Пусть себе мелет. Пора уже привыкнуть».
Рене выключила воду и вернулась в спальню.
– Ну что, продолжим? – спросила она.
– Как обычно, нет, – ответил молодой человек на ее кровати.
– Твою мать, Винс! – Рене всплеснула руками. – Сколько можно?! Ты не у себя дома! Что за манера ложиться в постель в одежде?!
– Она чистая, – ответил Винс немного растерянно.
– Вставай! Зачем ты одеваешься, если намерен лечь снова?
– Не знаю, само собой получается, – сказал он с виноватой улыбкой на лице и поднялся.
Рене посмотрела на него с выражением, которое Винс расценил как стопроцентную уверенность в его кретинизме.
– Ну если оделся, то сядь в кресло и сиди там, – уже спокойнее говорила она, поправляя постель. – Раз сказала, два! Сколько можно? – Она обернулась и посмотрела на парня. – Я не хотела на тебя кричать, извини. Но ты…
– Да все нормально, виноват, – перебил Винс и переместился в кресло.
Рене вздохнула и села на кровать.
Минуты три длилось молчание. Рене внимательно рассматривала меню настроек в своем телефоне, делая вид, что что-то читает. Она чувствовала, что Винс сверлит ее взглядом, но не стремилась сама прерывать тишину, да и не знала, что сказать. В то же время она знала, что если Винс долго молчит, то готовит в своей голове порцию очередной бредовой лжи. Она уже хотела предложить ему злополучный салат, но он ее опередил:
– Мне очень нравятся твои шторы, – сказал он и окинул взглядом комнату. – Из-за них все вокруг кроваво-красное, и в жилах кровь прям закипает. Так и выбирала? Знала, что это сработает?
– Нет, – едва слышно ответила девушка и отложила телефон.
– А еще кто-нибудь обращал на них внимание?
– Нет, – еще тише сказала Рене.
Она вспомнила, как купила эти шторы на распродаже лишь из-за низкой цены. Припомнила, что тогда же купила комплект постельного белья черного цвета, захотев проверить, комфортно ли будет на нем спать. Оказалось настолько некомфортно, что Рене сменила его в первую же ночь, после того, как приснилась себе мертвой старухой, лежащей на белом снегу в черном саване.
– Я купила эти шторы вместе с комплектом черного постельного…
– Я просто… – одновременно начал Винс и замолчал.
Рене посмотрела в его сторону.
– Что?
– Да ничего… говори ты.
Девушка поняла, что не ошиблась в своих подозрениях. Она почувствовала, как ее губы растягиваются в улыбку, встряхнула волосами и протянула с досадой:
– Винс… ты опять начинаешь?
– Почему ты смеешься?
Рене тут же перестала улыбаться и внимательно посмотрела в его глаза.
– Потому что ты просто не понимаешь, о чем говоришь. Скорее всего, даже не понимаешь, о чем думаешь.
– Неужели ты не видишь, что я прихожу не трахать тебя?
– Но ведь трахаешь. И у тебя есть еще пятнадцать минут – успеешь второй раз.
– Но я хочу другого.
– Другого не будет, – Рене говорила спокойно, но отметила, что ее раздражает повышенный тот Винса. – Не увлекайся, не надо этого делать. Все твои слова и твои ласки – все это драма с придыханием, замиранием сердца и слезами на глазах. Кто я тебе такая для этой деланной страсти?! И кто ты мне такой?
– Это я и хотел бы исправить.
– Никуда я с тобой не пойду, Винс! Прекрати.
Рене заметила, как он сразу покраснел от злости.
– Хорошо. Тогда снимай полотенце, – сказал Винс. – Хоть посмотрю еще.
Синее полотенце, в которое Рене обернулась после душа, в настоящее время было единственным элементом ее одежды. Она встала и протянула руку, чтобы освободить его край, но тут же замерла и усмехнулась.
– Раздевайся, тогда и сниму, – парировала она.
Винс вскинул взгляд, и Рене увидела на его лице выражение презрения, которое всегда доставляло ей какое-то тихое удовольствие.
– Ты со всеми своими… гостями, – он сделал ударение на этом слове, – такая смелая, или же только со мной? Знаешь ведь, что я не причиню тебе вреда.
Рене бесило каждое его слово, но еще больше то, что он мог вывести на эмоции ее. Она даже чувствовала жгучее желание дать ему пощечину, но вместо этого сорвала с себя полотенце и швырнула в его сторону.
– Сколько мне так стоять? – спросила она спустя полминуты. – И что ты тут не видел?
– Вот это и есть драма. Комедия. И ломаешь ее именно ты, а не я.
– Ты сказал, я и сняла. В чем проблема?
– Ты знала, что я сказал это впустую.
– Так что я должна была сделать?
– Сидеть, как сидела.
– То есть, сделать вид, что я тебе доверяю?
– Но почему? Почему хотя бы не попытаться?
Рене несколько секунд пристально всматривалась в лицо Винса, после чего покачала головой, вновь обернулась полотенцем и присела на корточки напротив парня.
– Потому что ты обманываешь нас обоих, Винс, – сказала она серьезно. – Ладно меня, но намного страшнее, что ты обманываешь себя, понимаешь?
Винс едва уловимо провел рукой по ее волосам.
– Неужели ты думаешь, что я бы выкидывал по семьдесят франков, если бы действительно не хотел просто быть рядом с тобой?
– Зачем?
– Ты мне очень нравишься.
Рене вздохнула и в смятении отвела взгляд.
Винс вновь погладил ее по голове, и этот жест, при определенных обстоятельствах, должен был красноречивее любых слов свидетельствовать о том, что он не врет. Но Рене не верила ему. Даже в те моменты, когда ей казалось, что она близка к тому, чтобы поверить, она начинала убеждать себя в неверии.
– Нравится эта квадратная челюсть? – Рене провела рукой по лицу. – Этот подбородок, торчащие скулы? А глаза? Посмотри на глаза. Переносица как горный хребет. Я же некрасивая, – она улыбнулась.
– Ты же сама прекрасно знаешь, что очень привлекательна. Или рвешься на комплименты?
– К тому же худая. И грудь первого размера, – она встала, отошла на два шага назад и хлопнула себя по груди. – Я же когда лежу, то реально выгляжу как доска, да?
Винс ответил усталым взглядом.