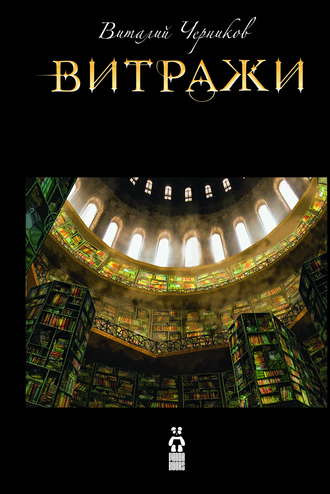
Полная версия
Витражи
– Ну вот. Я же говорил. Есть у нас в семье кудесник. – Голос у Русты был сиплый, глаза красные. Он улыбался одними губами – в глазах плескалась боль.
– Руста… я не хотел, честно, так получилось. – Ланьке было тяжело говорить. Как будто украл у брата. – Я не нарочно…
– Значит, так, – неожиданно громко, звучным голосом сказал Джибута. Он уже доставал с полок какую-то снедь, раскладывал на столе. – В такую темень я вас со двора не пущу. После ужина будем стелиться. Он мельком взглянул на Русту. – Старший с отцом – здесь в горнице, на скамьях. А Лан с барышней (Санька хмыкнула) у меня расположатся.
– А ты, Джибута, как же? – спросил отец. – Вот так гости, хозяина из опочивальни выжили, сами улеглись.
Санька засмеялась. За ней тихонько засмеялся и Лан. Чуть погодя к ним присоединился Руста. Даже кудесник хмыкнул в длинную бороду.
– За меня, Михей, не бойся. Я наверху, в светелке. Не впервой. – Кудесник вновь посуровел. – Завтра поедете все. Но Лана ты через неделю вернешь. Отпускаю его проститься. Мой он теперь.
Ланька поперхнулся, закашлялся. Глянул с ужасом на кудесника, на отца, снова на кудесника.
– Дар беречь и развивать нужно, – пояснил Джибута, глядя на детей. – Сейчас он как яблонька-дичок. Не привьешь вовремя – какими яблочки будут?
– Кифлыми! – сообщила Санька, деловито запихивая в рот кусок хрусткого пирога с капустой.
– Слышал я об этом. – Отец отложил в сторону хлеб, вытер усы. – И сколько ж Лану в учениках ходить?
– Некоторые всю жизнь ходят, да все без толку. – Хитро прищурился Джибута. – Дважды в год буду отпускать его погостить. На новогодие и на покос. Зимой неделю, летом – три.
– Хорошо. – Отец налил из жбана пенистого квасу себе и Русте. Лан и Санька предпочитали молоко. Кудесник тянул какой-то темный горячий напиток.
– И сколько за учебу причитается, Джибута? – В голосе отца сквозило беспокойство. Небогат Михей.
– Ты уже заплатил. Или не понял? – Кудесник вытянул руку, потрепал Лана по кудрявому затылку. Ланька вздрогнул, поежился. Отец нахмурился. – Парень твой не только учиться будет. И по хозяйству поможет, и вообще. Руки везде пригодятся.
– Вот оно что. – Отец выдохнул, отхлебнул квасу. – Это хорошо. Они у меня с измальства приучены, работы не чураются. Руста сам пашет, даром, что четырнадцать годов всего. – В голосе отца сквозила гордость.
После ужина пошли спать. Ланька так осоловел от сытной еды, что даже не успел рассмотреть кудесникову опочивальню. Постель была жесткой, но он ничего не чувствовал. Рядом сопела Санька, в ногах уютно пристроился Пусёк. Ланька повернулся на живот, подложил под голову кулак и уснул. День был длинный, тревожный, и кто знает, какие еще дни ждут впереди.
Михей и Джибута сидели на крыльце, смотрели на звезды. Под навесом сонно всхрапывала Фенька. Лохматый пес вытащился из-под крыльца и тихо уселся рядом, распустил по земле колечко хвоста. Джибута раскуривал изогнутую трубку. Тусклый багровый свет выхватывал из полумрака задумчивое морщинистое лицо, тонул в глазах. Терпкий, странный аромат поплыл по двору, защекотал Михею ноздри.
– Можно тебя спросить, Джибута?
– Спрашивай.
– Прежде я все думал: эх, не лишили бы меня Дара, хорошо бы было… А сейчас смотрю на Лана и думаю: хорошо ли? Как это – жить с Даром?
– Это все?
– Ответь хоть на это, если можешь.
– Почему ты назвал его Ланом?
– То есть как? Что значит почему? Хорошее имя, моего деда так звали.
– Нет. За ужином и сейчас ты назвал его Лан, а не Малой. Почему?
– Не знаю. Но ты мне не ответил…
Джибута молча пыхал трубкой, смотрел куда-то в даль. В такую даль, где и не было ничего.
– Я, наверное, понял… – Михей провел рукой по лбу, откинул темные вьющиеся волосы. – Это тяжело, Джибута?
– Как сказать. Наверное, сначала да. Я уж и не помню. Давно начинал.
– А потом… как потом?
– Тяжелее всего – не любить.
– Трудновато с тобой разговарить, кудесник. – Михей покачал головой, усмехнулся. – Загадками говоришь. А не любить почему?
– Трудно хоронить любимых.
– Прости.
– Ничего.
Фенька переступала с ноги на ногу, трясла головой – хоть и прохладна ночь, а гнус не спит. Где-то вдали лениво брехали собаки.
– Может, и лучше было свести его в церковь…
Джибута молчал. Уголек трубки монотонно затухал и разгорался, как чье-то огненное сердце.
– Надо было, Джибута?
– Спроси у своей души.
Цикады перекликались на дальнем лугу. По небу плыли невидимые облака, поедали по пути звезды. Михей смотрел на них и думал о сыне. Вот так и его, Михея, поглотит время. И жену. И Русту, и даже Саньку. Лан останется один. Что толку, что станет кудесником. Будет вот так коротать годы на темном крыльце, под чужим небом. Как же это он раньше не додумал, не понял. Жена-то вон сердцем почуяла. Сердцем.
Джибута неслышно поднялся, выколотил трубку.
– Дар, Михей, сам решает. Не ты и не я. Это тебе ответ на все вопросы. И которые спросил, и которые смолчал. Поутру поедешь домой, – присмотри за старшим. И дома – доглядывай. Прикипел он к Подарку. Дело найди ему. Новое, интересное. По душе. Может, ремесло какое – тебе виднее. У вас, в Орловичах, слыхал, кузнецы мастера. По всему Лату славятся.
Михей усмехнулся.
– Первый раз волшбу показал, а, Джибута? Ты же не спрашивал, а я не говорил. Как прознал про Орловичи?
Джибута продул трубку, спрятал за пояс.
А ты, Михей, утром на подковы своей кобылки посмотри. На каждой – орловчанский кондор крылья раскинул. Заезжему-то такие подковы во что встанут?
4
Старик проскрипел ступеньками, поднялся наверх. Заглянул мельком в опочивальню – спят младшие, забот не ведают. Полез дальше. Там, наверху, и воздух свежей, и звезды ближе – все не одному ночь коротать. Нашел на ощупь, зажег свечу. Свечи Джибута любил – хоть и тускл свет, мерцает на сквозняках, а писать легче. В лампе сердца нет. Мертвая она. А пламя свечное дрожит – как душа человеческая трепещет. Строки на пергамент сами ложатся, из-под пера убегают.
Не спать сегодня Джибуте. Отоспал. В зеркале свеча отражается, мигает. И Джибута в нем отражается. Который век. Только с отражением и говорит. Правда, молчалив собеседник, оно и лучше – дурного не посоветует. Джибута привык – сам говорит, сам отвечает.
– Третий ученик, Джибута?
– Третий.
– Долго ждал. Или не хотел?
– Кто знает… Может, и ждал.
– Келло, Словорад, теперь Лан-орлович? Все сначала?
– Все с начала.
Сказать легко. Джибута стоял, смотрел в зеркальную глубь, думал, вспоминал день…
Гостей он не ждал, не чувствовал. Отвык по сторонам сети раскидывать, людей чуять. Спокойно в Колонцах. Лет шестьдесят как спокойно. Только на собачий лай и вышел. Лошаденка у гостя завалящая, но сытая. Бережет хозяин скотину. Вот и сам стоит, мнется. Аура с прорехами, как молью побита. Не иначе святые отцы потрудились – руки поотрывать. Не один, с детьми приехал. Видно, дар прорезался… У которого? Младшая пуста, аура с кровяным отливом. Приняла муку мать, пока рожала, покалечилась. Сама еще не знает, а недуг в изголовье стоит. Или этой зимой, или следующей ударит. Старший. Точно, он. Дар искрит, забивает ауру… сероватая аура. По мелочам – с деревьев яблоки трясти да палки кидать. Вот с кем к кудеснику пожаловали. Отец-то упрям, – в церковь не повез. А это кто такой?…
Джибута смотрел в зеркало, в глаза двойнику. Что-то не рад двойник, забота в глазах. Уж не жизнь ли жалеешь, кудесник? Оплывает свеча, – время сжигает. Горит ночное время, чадит…
Младший сын робел, за отцом хоронился. Оттого и не приметил его кудесник. Аура у мальчишки белая. И искра в ней. Вот оно как. Может статься, из-за этого постреленка весь сыр-бор. Шустер. Все глазенками ощупал. Посмотрим, что за птица.
Думал ли тогда об утреннем послании из Университета? Нет, не думал. А мог бы. Стар стал, умом неповоротлив. Большая волшба в Северном Лате – кто на ребенка подумает? Собирался всю округу обходить – расспрашивать да прощупывать. Темного чудодея ожидал, а вот он – Лан Малой. Что теперь передать в Университет? Волшбы на годовой запас тянет, да не на Колонецкий, а всего Лата. Джибута слабо усмехнулся. Повезло Снежкиным крольчатам – серому и белому с черными пятнами. Повезло, как ни одному владыке мира. От сердца пожелал Лан – не поскупился. В Университете Витраж как огнем полоснуло. Потому и не смогли сказать, где чудодей хоронится. Сияет весь Северный Лат, переливается… Живите, крольчата, долго.
Вспоминал Джибута, а руки свое делали: отливали, добавляли, смешивали… Утром отдаст снадобье Михею, для жены. Ни к чему на земле горе множить.
Значит, все сначала. Третий ученик – последний шанс. Вспомнил первого. Келло. Кудесники среди эльфов – редкость. И люди их чураются, и свои стороной обходят. Кому такая судьба по сердцу? Что толкнуло эльфа к Джибуте, кудесник по сию пору не знал. А Келло не рассказывал. Дар у эльфа был светлый, с изумрудным отливом – как листок на солнце. И смех солнечный, негромкий.
Кудесник улыбнулся сухими губами. Отражение состроило гримасу.
За все время Келло один раз домой уходил. Вернулся на следующий день. И полгода не слышно было тихого смеха. Учился долго. Не по своей вине. Молод был Джибута, самонадеян. Мало знал, много ошибался. Может, оттого сгинул Келло в Большом Океане? Сколько пытался Джибута нащупать связь, сколько ночей на берегу сиживал – чернота. И Витраж не в помощь. Слишком далеко от земли, от волшебства. Тусклое стеклышко – Келло.
Тогда ушел Джибута из Первого Дома. К людям ушел. В Великий Лат. Да так и осел на чужбине. Словорад Джибуте как сын был. Смышлен, добр, прилежен. Джибуту кольнуло в сердце. Где он просмотрел? Хорош Словорад, что говорить… Острый ум, золотой Дар. Только кому польза от книжного червя. Зарылся Словорад в Академию, надел мантию. Вроде живой, а для Джибуты все равно что умер.
Вспоминал Джибута. Вспоминало отражение. Долгая ночь, длинная жизнь. Джибута сам был третьим учеником. Что тогда, сотни лет назад, толкнуло светлого тиэрского мага? Какое предчувствие? Джибута не помнил тогдашнего лица Амонара – только синевато-серые глаза, глубокие, суровые. Джибута залез в карман к Светлому на шумном Гандском базаре. Толстый кошель охотно скользнул в смуглую ручонку. Не успел Джибута обрадоваться, как в него уперся взгляд. Он пытался бежать – ноги не слушались. Вокруг потешался базар – заморыш пытался обокрасть мага. А глаза… глаза впитывали его, поглощали, как древесный змей птичье яйцо, – медленно, неотвратимо. Потом маг отпустил его. Джибута от неожиданности отшатнулся, шлепнулся в горячую пыль. Маг равнодушно отвернулся. Базар взвыл от восторга. Толстый башмачник Маррахани поднялся, хотел огреть Джибуту по спине. Маг метнул в него быстрый взгляд. Маррахани дернул подбородками, сглотнул, грузно осел на свою скамеечку. Джибута ударился в бега. Вечером, когда он залег в свой угол, в их хибару вошел маг. У Джибуты отнялся язык. Мальчишку выгнали во двор, где он долго стоял ни жив ни мертв, отмахиваясь от комаров тонкой веточкой. Потом вышли оба – и маг и отец. Отец заискивающе улыбался, низко кланялся, сложив руки лодочкой. Джибута замер. Маг подошел, посмотрел сверху на убогую фигурку. Протянул руку. Джибута привычно втянул голову в плечи, зажмурил глаза. Ничего не произошло. Тогда он набрался смелости и поднял голову. Маг улыбался. Маг протягивал ему руку. Джибута робко протянул свою.
Семь лет учился Джибута у Амонара Тиэрского. Странный был человек Амонар. Временами Джибута спрашивал себя – человек ли он вообще? Сколько лет было тиэрцу, Джибута не знал. Спрашивать опасался – не любил маг вопросов. «Спросить – показать собственную глупость». Сотни раз слышал это Джибута. Обижался поначалу. Потом понял. Спустя годы университетские профессора пожимали плечами. Джибута? Молчун, одиночка. Ничего не спрашивает, – видимо, ничего не понимает. Так было два года – до первых экзаменов. Джибута не помнил экзаменаторов, не помнил каверзных, двусмысленных вопросов. Не помнил кривых улыбок сокурсников. Многие хотели унизить строптивого студента. Другое до сих пор перед глазами Джибуты. В заднем ряду амфитеатра, под малым витражом дракона, сидит, опираясь на посох, Амонар. Только это и помнил Джибута. А он-то сомневался, заметил ли вообще учитель его уход. Амонар не улыбнулся, не подал знака. Просто сидел. Весь экзамен. Когда коллегия экзаменаторов нехотя вынесла вердикт, Джибута вновь украдкой взглянул на скамью. Амонара уже не было.
О чем думал тиэрец, когда брал гандского воришку в ученики? Третий ученик. Джибута вновь вспомнил Университет, последнюю лекцию. Эти слова каждый маг помнит до гробовой доски. «Волшебник может воспитать трех учеников. Первый – замена погибшего волшебника, не имевшего учеников. Второй – замена погибшего ученика. Третий, последний, – замена учителя. После третьего ученика волшебник не имеет права продлевать свою жизнь».
Третий ученик. Лебединая песня.
Третий ученик. Смертный приговор.
Третий ученик – Лан.
Джибута достал новую свечу, поджег от старой, поставил рядом. Вот он, Лан Малой. А рядом он – Джибута. Надо передать огонь. Зажечь, но не спалить.
Отражение смотрело на Джибуту, пряталось в тени, куталось во мрак. Посверкивало глазами.
Сколько лет тебе осталось, Джибута Гандский?
Спросить – показать глупость.
Стоит ли мальчонка такой жертвы?
Не ответил Джибута. Вспомнил испытание Лана. Теплый ответный удар Силы. Не злой. Мальчишки всегда ощетиниваются, пытаются ударить, защищаясь. А этот… Как телок, боднул легонько лобастой головой в плечо – привет, мол, вот он я. Это не зеленый дар Келло, не золотой Словорада – прозрачный Дар. Только тогда и поверил Джибута. И в оживающих крольчат поверил, и в чудеса. Как же учить тебя, Лан Малой… Какой цвет примет твой Дар, чем обернется?
5
В Колонцах перекликались петухи. Ланька проснулся. Посмотрел удивленно вокруг – чужие стены, Санька сопит, палец во рту. Вспомнил вчерашнее – чуть не подпрыгнул от восторга и ужаса. Он, Ланька, – ученик кудесника. Огромного, мрачного кудесника. Ланька зажмурился, помотал головой, открыл глаза. Нет, не исчезла спаленка. Значит, не сон. Ланька подхватился, вскочил. Надо Феньке корм задать, напоить. Кубарем скатился с крылечка, выскочил во двор. Отец смазывал скрипучую заднюю ось, негромко говорил с кудесником. Фенька хрупала, уткнувшись мордой в торбу. Ланька виновато шмыгнул носом. На задах гулко ухал топор – эхо от берез отскакивало. Ланька любил смотреть, как Руста колет дрова. Даром что четырнадцать, колет так, что не каждый мужик сумеет. Глаз у Русты цепкий. Враз оглядит здоровый неохватный чурбанище – и в три удара между сучков развалит надвое. Это тут у Русты хозяйский топор, а дома – здоровенный колун с хищным толстым оголовьем. Ланька двумя руками с трудом подымал его, а Руста управлялся одной. Охоч до работы Руста, все у него в руках спорится. Возле Русты сидел хозяйский пес – следил за работой, крутил лохматой башкой. Отец мельком глянул на Лана, улыбнулся: «Проснулся, лежебока? Иди буди сестру. Умоетесь – завтракать будем».
Ели деловито, молча. Руста нет-нет да поглядывал на Ланьку. Было что-то новое в его взгляде. Как будто не он, Ланька, напротив него сидит, а кто-то другой. Муторно Ланьке. Скорей бы домой. Кудесник на него почти и не смотрел, все больше на Русту да на отца. Санька спросонок лениво ковырялась в своей тарелке. Молчком снедь прибрали быстро. Вышли во двор, прощаться. Санька спохватилась, убежала назад, в дом, – за Пуськом. Руста уже забрался на телегу, нетерпеливо поглядывал на отца. Ланька успел схватить юркнувшего между ног кота, отдал запыхавшейся Саньке, подсадил наверх. Фенька тепло дохнула ему в затылок. Отец в стороне говорил с кудесником. Джибута достал небольшой медный кувшин с тонким горлышком, передал отцу, что-то сказал. Ланька увидел, как побледнел отец, сжал крепкими пальцами горлышко, а потом поклонился кудеснику в пояс. Руста поперхнулся. Отец быстро сел, бережно поставил подле себя кувшинчик. «Иди, попрощайся», – подтолкнул Ланьку в спину. Ланька слез с телеги, подошел к кудеснику. Все-таки было страшновато. Запрокинув голову, посмотрел в лицо кудесника, в темноту глаз. Что-то словно кольнуло Ланьку, он вдруг, неожиданно для себя, прижался к темной руке. Рука чуть заметно вздрогнула. «Ступай…» – кудесник хотел сказать еще что-то, но, видно, передумал. Мягко подтолкнул Ланьку. Телега выехала на узкую дорогу. Фенька припустила бодрой утренней трусцой, свежий ветерок перебирал волосы. Ланька смотрел на темную неподвижную фигуру у ворот. Когда дом уже скрывался за поворотом, Ланьке показалось, что кудесник махнул ему рукой. Конечно, показалось…
Джибута смотрел вслед. Телега давно скрылась за поворотом, а он стоял у ворот. Чем обернется твой Дар, Лан-орлович? Сколько боли и горечи принесет он тебе? Когда узнаешь, что твой учитель – палач брата твоего? Что Дар у всех людей чист? И нет никакого Злыдня – только глупые сказки. Миф, придуманный расчетливыми умами Университета. Потому что нельзя всем быть волшебниками. Ни один мир не выдержит миллиона магов. Поэтому я, Лан Орлович, обрубил крылья твоему брату. Поэтому ты будешь рубить крылья другим. Поэтому живет мир.
Витраж юго-западный

1612 год от Великого падения
Summa summarum[3]Меня зовут Ревиал Дерпент. Откуда я родом, не имеет значения. Мне 562 года, из которых последние четыреста я занимал пост академика Университета волшебства. Вплоть до вчерашнего дня. Сегодня я первый день на пенсии. Теперь у меня много времени, и я могу писать мемуары. Я не обладаю писательским даром и поэтому прибегну к небольшому волшебству. (Как бывшему академику мне оставлен лимит.) Я выбрал изложение от третьего лица. Так проще. Кроме того, моя манера речи слишком резка и отрывиста для письма.
Я читал мемуары многих: Орест Тиэрский, Вельт Горанносс… Все они начинают с описания детства. Я считаю это излишним. Хронология не подходит для моих целей: важные события редки в человеческой жизни. Я не разрешу выпускать эти мемуары в свет. Во всяком случае в ближайшие 200–300 лет. Дальше – покажет время.
Первая из моих записей – о делах 370-летней давности, 1612 года от Великого падения. Я был непосредственным участником главных событий. Второстепенные факты мне известны от друзей, подчиненных и осведомителей. Кое-что пришлось додумать самому, но я убежден в верности моих суждений.
1
Путь от столичного Тиэра до Острова Волшебников занимает не так уж много времени. У епископа Пардского к тому же была папская подорожная, и поэтому на утро второго дня резвая двухмачтовая шхуна пришвартовалась к пирсу. Гавань располагалась в большой бухте на западной оконечности острова. С трех сторон она была защищена высокими крутыми холмами, между которыми змеился широкий тракт. Плоские вершины холмов сверкали под холодным низким солнцем – зима выдалась мягкая, снежная. Снасти шхуны поскрипывали под легким ветром, поблескивали щетками мутных сосулек. Пирс был тих и безлюден. Матросы спустили трап, присыпали его песком – еще не хватало, чтобы папский посланник поскользнулся, – и, сдернув с голов шапки, почтительно выстроились вдоль борта. Помощник шкипера первым скатился на берег и теперь переругивался с хмурым бородачом в форме таможенной службы, возмущенно пыхтя, отирая со лба пот и тыча кривым пальцем назад, в сторону корабля. Бородач невозмутимо слушал, качал головой, вставлял ленивые реплики, вызывавшие очередной взрыв жестикуляции моряка.
Епископ в распахнутой волчьей шубе неторопливо спустился по трапу, небрежно кивнув на прощане шкиперу. Слуга в фиолетовой рясе монаха-молчальника тащил за ним объемистый багаж. На берегу епископ величаво обернулся и картинно, в полный мах, благословил корабль и экипаж. Матросы радостно зашушукались, шкипер перевел дух. Тем временем аргументы помощника капитана (а может быть, скалоподобная фигура епископа) возымели наконец свое действие, и бородатый таможенник, пожав плечами и что-то бормоча себе под нос, скрылся в одном из приземистых деревянных домов, стоявших у пирса.
Из-за крайнего дома показалась четверка добротных гандских вороных, запряженных в изящную черную карету. Возница лихо осадил лошадей, спрыгнул с облучка, закинул поклажу и почтительно распахнул перед епископом дверцу с эмблемой Святой миссии. Одарив на прощание гавань неприязненным взглядом, епископ отправился в путь.
Карета мягко покачивалась на рессорах. Епископ Пардский рассеянно смотрел в окно. «Заносчив народ. Ишь перед каретой и шапки не ломает. Еще смотрит, наглая рожа. Заелись. Даром что остров у Тиэра в вассалах. Волшебникам, говорят, столица не указ. Живут как хотят. А народ… Народ – зверь: все чует. Ох, плохо это… – он даже засопел и покачал головой. – Народ свое место знать должен. Смерд – он и есть смерд, и жить должен как смерд, и думать, как смерд… А лучше вообще не думать. Все это зараза, вольнодумие, ересь. Того и гляди, с проклятущего острова на всю страну перекинется. Эх, сжечь бы тут все, как в чумные годы. Вот бы хорошо стало. Святость одна и благолепие. Эх…»
Мысли епископа жили собственной жизнью, легко перескакивая с одного предмета на другой независимо от воли хозяина. Процесс последовательного мышления доставлял ему тяжкие страдания. Сын небогатых родителей, он окончил монастырскую семинарию только за счет невероятного упорства и прилежания. Архимандрит благоволил к этому высокому кряжистому юноше, видя в его ночных бдениях аскезу. Поэтому, несмотря на скромные успехи, будущий епископ получил свой, хоть и маленький, приход на забытой богом окраине империи. Шли годы. Он неуклонно лез вверх, продвигался в церковной иерархии, противопоставляя уму конкурентов природную хитрость и упрямый, крестьянский напор. И вылез-таки. Но все же выше епископа провинциальной Парды подняться так и не смог. Тиэр – столица Мировой церкви – оставался для него недостижимой мечтой. Свою неудачу епископ объяснял происками завистников и кознями врагов, пребывая в святой уверенности, что сам он достоин большего. И вот теперь, когда он уже почти сдался, церковная почта принесла ему эту недостижимую мечту в коричневом, запечатанном папским перстнем пакете. Папа вызывал его в Тиэр!
Сидя в карете, епископ даже зажмурился и тихонько хрюкнул, вспомнив выражение лиц епископа Саремского и архимандрита Узельского, как нельзя более кстати приглашенных им на вечернюю трапезу. «Так-то, – в который раз самодовольно говорил он себе, – то-то. Сколько их, этих прихлебателей, этих умников крутится возле престола, а вот для настоящего дела Папа выбрал меня. Меня, а не этих заносчивых кардиналов. И не эту жирную свинью, прости господи, епископа Тиэрского. Нет. Папа знает, кто чего стоит. Кто просто так, на людях покрасоваться, а кто… кто всю жизнь… без единой жалобы… все для блага Святого престола…» – епископ шумно высморкался в большой полотняный платок, вытер глаза рукавом сутаны. Возложенная на него миссия наполняла сердце трепетом. Он чувствовал себя окрыленным и был готов крушить горы. Папская воля должна быть исполнена, а он должен получить приход поближе к столице. А может, и красную мантию… Епископ перевел дух. «Только бы старик академик не заартачился. Только бы ему, старому пердуну, вожжа под хвост не попала. Господи, помоги!»
Когда карета загромыхала по брусчатке Бристо, столицы острова, солнце успело пройти половину пути. У ворот миссии епископа встречал отец-посланник. Звали его Захария, но свое латское происхождение он полностью искупил преданностью и служебным рвением. Лицо его выражало почтение вкупе с тревогой – с чего это пожаловала имперская птица на уединенный остров? Впрочем, во время обеда он совершенно успокоился, узнав, что приезд епископа к нему лично и к делам миссии никакого касательства не имеет. Захария оживился, просветлел лицом и даже рассказал несколько забавных, но приличествующих сану гостя историй из жизни острова. К немалому разочарованию епископа, отец-посланник ничего не мог сказать ни об Академике, ни о самом Университете волшебства. «Что вы, ваше преосвященство, куда там… Меня и на порог не пустят. Нет, конечно, упаси господь, – испуганно зачастил он, – никак не в ущерб или умаление церкви! Папу волшебники чтят… Но моя-то миссия все больше светских властей касаема. А праздно любопытствующих волшебники не любят. Вот если, к примеру, пожелаете о бургомистре послушать – это пожалуйста, все что угодно». Но бургомистр епископа не интересовал. Сытный обед, услужливый отец-посланник – все это привело его в самое благодушное настроение. Ему льстила та легкость, с которой он получит аудиенцию академика, особенно в свете рассказа отца Захарии. Подобно луне, епископ Пардский нежился в лучах славы Папы, считая их собственным сиянием. Распорядившись послать кого-нибудь в Университет с известием о его прибытии, епископ прошествовал в отведенные ему апартаменты. Когда же служка возвратился с ответом, вся миссия ходила на цыпочках, шикая друг на друга: его святейшество уснул…

